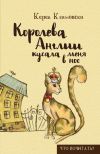Текст книги "Санки, козел, паровоз"

Автор книги: Валерий Генкин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 25 страниц)
Так вот, Шхельда, Тина и прочее.
Го д шестьдесят второй – шестьдесят третий. Начиналась эпоха черных чулок, женских сапог и головных уборов по кличке «шлем». Все это придавало девушкам особую сексуальность. Ни одного из этих трех сигналов «иди ко мне» у нее не было. На первое свидание – трескучий мороз, памятник Тимирязеву, ах да, об этом было – она пришла в чем-то вроде сталинских времен ботиков и теплом платке. Они гуляли по Арбату, он распускал хвост, за что был прозван снобом, но допущен до губ – легкое прикосновение. Простудился он жестоко, полубольным уехал в горнолыжный лагерь Шхельду, а оттуда писал ей чуть ли не каждый день. Чего ж не писать – лыжи он сдал на второй день, и времени было полно. Почему сдал?
– Кто кататься можит – права хади, кто чуть-чуть можит – лева хади, кто савсем не можит – никуда не хади, тут стой.
Так сказал инструктор кавказской национальности, и Виталик, о горных лыжах ничего не зная, хадил лева, убежденный, что чуть-чуть-то он можит.
– А теперь, – сказал уже другой инструктор той же безразмерной национальности, – я палка в склон втыкал, ты за палка повернул и вниз по склону ехал, показывал, что умеешь.
Палка вонзилась в наст метрах в пяти от обрыва. Виталик слегка оттолкнулся и тихо двинулся к поворотной точке. Ноги, вбитые в наглухо закрепленные ботинки, не слушались. Он миновал инструкторскую палку и заскользил к обрыву. Инструктор взвизгнул:
– Куда, слушай!
В метре от края он сумасшедшим усилием, повиснув на палках, повернул лыжи на девяносто градусов и пулей понесся по склону. Ни о плуге, ни о поворотах не могло быть речи. Метровой толщины снежную стенку внизу он не пробил, но въехал в нее с такой силой, что все руки до локтей – а был он без перчаток, да рукава закатал – изранил ледяными зернами.
Через два часа, обменяв лыжи на ботинки с триконями, он поднялся повыше в горы, нашел в камнях безветренное место и устроился загорать.
В таких прогулках, с покетбуком Вудхауса, блокнотом и карандашом, он и отмотал весь лагерный срок. От Вудхауса заливался смехом, от мыслей о Тине заходился беспокойной тоской. Вечерами выпивал с соседями, славными ребятами, завзятыми лыжниками, в миру инженерами чего-то железнодорожного. Острили они однообразно. Прослышав на перроне объявление, в котором электричку назвали электрическим поездом, они старательно распространяли эту формулу на все подряд: раскладушка – раскладная ушка, инструктор – инсовый труктор и даже Рабинович становился рабиновым овичем. Когда шум затихал, он переписывал сочиненное в скалах начисто и выходил к воротам лагеря – опустить в почтовый ящик очередное письмо. Я скучаю, писал он, лыжи меня не полюбили, а ты?
Я в Шхельде. Умыт изначальной печалью,
Ору, оскорбляя седое молчанье,
И розовый дядька, очкастый и лысый,
На лыжах по склону проносится лихо,
И вихрь поролоновых курток несется,
И губы кусает свирепое солнце.
Несутся, и в сердце бушует: победа!
Победа над кашлем и пресным обедом,
Победа над злом коммунальной квартиры,
Над подлой подагрой и кислым кефиром,
Ущелье без ревмокардита и водки —
Спокойно лежи и лечи носоглотку.
Желудок и всякую хворь неустанно
Лечите, припавши к фонтану нарзана —
Целебных солей упоительный сноп.
Здоровья не купишь!
Твой искренне, сноб.
И видел-то один раз у Дубинского на дне рождения, сунул ей в руки клочок бумаги с телефоном и какими-то, верно, словами. Позвонила. Потом этот ледяной Арбат.
В перчатках стынут руки,
А рядом, за витриной,
Мирок румяных кукол
Изысканно-старинный.
Изящные шкатулки,
Непахнущие розы.
Звенели, как сосульки,
Фарфоровые слезы.
Не сплю. Ночами длинными
Мне чудится, что снова
Арбатскими витринами
Любуются два сноба.
Очень уж Виталика раззадорило это ее: «А вы сноб?» Она выкала ему довольно долго. Ах, Тина, Тина. Свет моей жизни, огонь моих чресел. Грех мой, душа моя. Тина: кончик языка совершает путь в два шажка… Ну и так далее. Разница в годах была не такой, конечно, да и восемнадцать лет – не нимфетка. Они ходили по стиснутой запоздалыми холодами Москве, переименовывали Даев переулок в Дуев, грелись в подъездах, говорили, целовались, говорили, трогали друг друга – робко, говорили. Писали друг другу письма. Весной он посадил в заоконный цветочный лоток ее подарок – тополиную ветку в виде буквы «Т». Он трепетно касался тонкой шеи, боялся обидеть. И узнал, что все это время она встречалась с Дубинским всякий раз, когда тому хотелось. О чем тот рассказал сам, приехав к Виталику на ночь глядя, пьяный в дым, специально с этой целью. Ты понимаешь, говорил он, я только что узнал от нее, как ты к ней относишься. И потому пришел. Чтоб ты знал – ей верить нельзя. Ну, ну, да на тебе лица… Пауза.
И вдруг.
Сам посуди, до чего все просто. Создал Бог – создала природа, сам выбирай – людей двух полов, чтоб они без Его – ее – участия впредь плодились и размножались. Никакой тайны. А что они, люди то есть, учудили? Страсти. Страдания. Ревность. Смертоубийство. Все для этого самого размножения в конечном-то счете. Ну представь себе, скажем, ежиков. Или кроликов. Лучше кроликов – они в размножении собаку съели. Кролики – собаку? Но я не о том. И вот они переживают – то им не так, это не этак. Эта ежиха ему не подходит: цветами не любуется, а все норовит гриб съесть, у этого кроля уши короткие, а та сука ногами не вышла. Короче, и себя изводят, и других, и все для того, чтоб заделать крольчонка, ежонка, щенка… И в этих вот страданиях и капризах заключается их вроде как над другим зверьем возвышенное положение. Еж – венец природы. Или я о кролике?
Не убедил? Ну тогда другое прими во внимание. Немного страдания идет на пользу, верно тебе говорю. Полезно для эмоционального развития. Ну нельзя ощутить настоящего, подлинного, истинного, безграничного счастья, если сначала не пережил такого же истинного, подлинного горя… Так что ты спасибо ей сказать должен, да и мне, дубина ты эдакая…
Виталик с трудом очухался: похоже, Володя знал не только тайны трех Булаховых.
В ознаменование этого события и во славу их беспримерно самоотверженной дружбы они решили каждый год в такой-то день ровно в двенадцать ночи встречаться, чередуя место, – то у одного, то у другого. Ритуал предполагал свечи, шампанское и шаляпинское «В двенадцать часов по ночам». Володя пришел в назначенный час. В бронзовом канделябре – свеча, на проигрывателе – пластинка. Дверь Виталик открыл заранее. Седые гусары летели на легких воздушных конях. Они молча дождались конца генерального смотра, выпили – и, слава Богу, рассмеялись. Впрочем, поговорили неплохо. Ровно через год он пришел к Дубинскому, но того не оказалось дома. А спустя года три, когда он обживал свою холостяцкую квартиру на Преображенке, как-то вечером появилась Тина. И осталась.
Да, да, это ее фотографию ты нашла у меня в ящике. Круглое личико с глазищами. Ревнива ты очень была, и почти всегда без причин. Тина уж к тому времени давно исчезла из моей жизни, как и Snubnose, тезка твоя. They met, they parted.
А второе письмо из роддома было таким:
25 мая 1972 г.
Дорогой котинька!
Утром я уже писала Елене Семеновне, что у меня дела в порядке – все лекарства отменили (утром еще раз дали, а после обхода – больше ничего). Детский врач тоже доволен нашей Оленькой. Теперь у меня появилось молоко (т. е. такое желтое молозиво, которое завтра-послезавтра перейдет в молоко). Оленька иногда набрасывается, как звереныш (когда я не могу – не овладела еще искусством – вставить сосок ей в ротик, зову сестру на помощь), и усердно сосет. За вчерашний день она набрала 50 г, т. е. весит 3450 г. Пуповинка у нее отпала еще вчера. В общем, если все будет в порядке, то здесь нас задерживать не станут, могут выписать на 6—7 сутки. Только бы ничего не помешало. Знаешь, котинька, если ты получил белье из прачечной, то там есть пеленка (я нашила метку), ты ее положи к моим вещам, когда придешь за мной. Это чтобы я подтянула живот, пока вместо бандажа. Еще купи коробку конфет хороших, чтобы я смогла отблагодарить врача (цветы не надо).
Вчера я попросила маму одной женщины из нашей палаты дозвониться до тебя насчет лифчика – ты, наверное, как в бреду от моих лифчиков, но без него совершенно невозможно, все время льется молоко, так хоть салфетки можно подкладывать.
Только что приносили кормить дочку – сейчас уже ела меньше, но так же жадно (в маменьку пошла). Говорят, ребятишки сосут хорошо через раз. Знаешь, сейчас уже как-то трудно сказать, на кого она похожа. Но черная: волосы и бровки – это твое. Ротик уже без налета. Котинька, купил ли ты одеяльце тканевое розовое и капроновую ленту (3 м, тоже розовую, широкую). Бедняжка, ты замотался просто и на работе, и со мной.
И знаешь, Виталь, спроси у мамы, чья я племянница, а то получилось не очень хорошо. Кто-то сказал, что я – племянница некой Марии Федоровны, у которой сегодня защищается врач, принимавший у меня роды, и он проявил ко мне максимум внимания. Но я ему говорила, что не знаю Марии Федоровны. А он 21-го ей позвонил в 11 часов: мол, М.Ф., ваша племянница родила! Та «осерчала», т. к. никакой племянницы у нее нет. Пусть мама твоя мне напишет, через какие каналы я попала сюда, чтобы я сама разобралась.
Ужас как хочется к тебе, домой.
Были папа, с работы девочки. У меня все-все есть. Если Елене Семеновне некогда, то пусть не приходит. А если придет, то молока не надо, разве свеклу безо всего.
Ты-то там как, мой любимый, солнышко мое?
Оголодал, наверно, и отощал? Копи силы!
Мы с Оленькой тебя крепко целуем и очень хотим к тебе.
Целуем.
Эта бабка, что сейчас выглядывала, чтобы посмотреть наших с соседкой мужей, страшно любопытная армянка и уже утомила весь персонал претензиями.
Курсе на втором, сидючи как-то в лаборатории телефонии – в одной руке паяльник, в другой пинцет, – услышал Виталик характерное похрюкиванье. Это его коллега, техник Коля, выражал восхищение книгой. Виталик скосил глаз – что читает? – и впервые познакомился с Винни Пухом, произведением настолько совершенным, что писать о нем добрые слова лишено смысла. Разве упомянуть о важной и многими не замеченной его черте: невыразимой печали, поднимающейся с последних страниц веселой книги, где описано прощанье Кристофера Робина с детством. А я-то, дурень, не могу распрощаться с ним по сю пору. Хожу по кругу: детство – старость – смерть – рожденье – детство – старость… А между детством и старостью была, оказывается, жизнь. Как там, в математике: включает ли отрезок крайние точки? Включает ли жизнь рождение и смерть?
Тем временем
Тем временем в жизни Виталика произошло два приятных события: во-первых, его перестал домогаться военкомат и тушинские страдания потеряли смысл, а во-вторых, он стал владельцем собственной квартиры на Преображенке – это в двадцать пять-то лет!
Квартиру тут же взяли в оборот холостые члены достославного Общества – а холостыми были они все, но через полгода аккуратному Виталику смертельно надоели вечный срач и невозможность вести упорядоченное (унылое и бессмысленное, по общему мнению) существование, и он в качестве промежуточной меры на пути к освобождению поселил у себя милую зеленоглазую приятельницу по новой работе Олю с ее свежеохмуренным мужем Сашей. В пароксизме самоотверженности Виталик спал на кухне и чувствовал себя благодетелем. Денег не хватало, постоянно хотелось есть, и во время совместной прогулки за городом они решились на преступление. Саша бросился на мимопрохожую курицу и стремительно свернул ей шею. О этот запах бульона! Птица оказалась весьма упитанной, на троих хватило, наскребли на бутылку водки.
Еще Саша с Олей познакомили его со своим приятелем Гиви, который отирался в кинокругах и хаживал на ипподром. Хоть он нанес Виталику ущерб в двадцать пять рублей, заняв их для ипподромного счастья и, естественно, не вернув, обиды Виталик не таил. Во-первых, как выяснилось, у других Гиви брал больше. Во-вторых, сымпровизировал на кухне за бутылкой «Васи с зубами» («Вазисубани», если кто не помнит) киносюжет, который Виталик нашел очень выразительным и помнит до сих пор.
Поле под низким небом. Долго шел дождь и только-только перестал. Ноги вязнут в земле, чавкают. Но надо идти, потому что дождь прекратился. Пока лило, вы с ним сидели под навесом риги. Он ел сало, хлеб, огурец. И поделился с тобой. Он курил и оставил тебе две затяжки. Но теперь пора – кончился дождь. Он забрасывает за спину перетянутый лямкой мешок и берет винтовку. Он доводит тебя до гребня холма и ставит так, что твои голова и плечи отпечатываются на фоне прояснившегося неба. Потом пятится, передергивает затвор.
Такая вот зарисовка – сорок лет прошло, а запомнилась.
Спасибо, Гиви.
Через сорок без малого лет в очередной Сашин день рождения Виталик послал ему в Париж стишок, как раз имеющий отношение к математическому определению отрезка:
Ты помнишь – вышел месяц из тумана,
Убийство курицы, Господь тебя прости,
И вот уже двустишье Губермана
Я, не чинясь, могу произнести.
Оно подходит каждому из нас —
Об этом заявляю я уверенно —
«А если и случится что сейчас,
Никто не скажет: это преждевременно».
Но что бы ни царапал злой еврей,
Вовсю глумясь над немощностью тела,
Давай, Сашок, держаться, и – ей-ей —
Не будем торопиться с этим делом.
Недавно я узнал, что смерти нет.
На этом пусть кончается сонет.
В сущности, сочинил это Эпикур. Мы не встречаемся со смертью, сказал он: когда мы живы – ее еще нет, когда умерли – уже нет. Хитрец!
Нет-то ее нет, а пишут всё больше о ней, о ней да о ее младшем брате – одиночестве. Да о французской маленькой смерти, награжденной псевдонимом любовь. Смерть, где жало твое?
Вот ведь странно: фраза эта встречается в Библии дважды. В Книге пророка Осии Господь призывает кару на забывший Его народ Израиля – и все же безграничен в милости Своей: «От власти ада Я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?» И совсем другой смысл она обретает в Новом Завете: когда по зову трубы воскреснут мертвые, то есть тленное облечется в нетление, смертное – в бессмертие, поглощена будет смерть навеки. И Павел приводит то же место древнего текста, а для него – слова Господа. Но так и хочется понять их иначе: «Эй, смерть! Ну и где же твое жало? Эй, ад! Что пригорюнился? Слабó?» Озадаченный Виталик даже написал по этому поводу письмо живущему в Израиле автору популярных книг по загадкам и тайнам Священного Писания и своему доброму знакомому:
Дорогой Рафаил!
Обращаюсь к Вам как знатоку Библии. Споткнулся я на очень часто цитируемой фразе из Осии (13:14): «От власти ада Я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?», повторенной Павлом в I Кор. (15:54, 55). У Павла-то вроде ясно: смерть побеждена воскресеньем и обращение к ней и к аду звучит скорее вызовом, издевкой. А у Осии слова Господа мне не раскусить: вроде сначала говорит он, что конец ждет Израиля, дескать, провинился Ефрем и проч., а потом вдруг: искуплю от смерти – и тут же ее, смерть, зовет.
Я ведь, как Вам известно, из инженеров, мне логику подавай или хотя бы объяснение нелогичности, а Вы в библейских кодах дока. Помогите – по дружбе – разобраться. Что там на иврите, может, какой другой смысл у Осии? К раввинам обращаться не хочу, они мне мозги запудрят.
Ваш всегда
Виталий Затуловский
Ответ не заставил себя ждать.
Дорогой Виталий!
Вот мое понимание. Весь кусок книги Осии, начиная с 7-й главы, посвящен гневным речам Бога, который обвиняет Эфраима (он же Ефрем) в самом страшном преступлении против Себя – в идолопоклонстве (поклонении Ваалу). На протяжении шести глав, вплоть до интересующей Вас гл. 13-й, тянутся весьма поэтически изображенные угрозы: Эфраим исчезнет, как «утреннее облако, как мякина с гумна, как дым из дымохода», «Я буду для него, как леопард, как медведица, лишенная детенышей, как львица», «муки роженицы постигнут его», ибо он «сын неразумный». Затем наступает переход к 14-му стиху, и тут в синодальном переводе происходит некий сбой: Бог как будто внезапно меняет Свои намерения, потому что Он вдруг говорит, как Вы и процитировали: «От власти ада Я искуплю их, от смерти избавлю их». И далее, в полном соответствии с таким прочтением текста, синодальные переводчики строят следующую строку в интонации некой насмешки Бога над бессильными потугами ада и смерти: «Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?» Мол, ну что, чья взяла?! Такое прочтение резко противоречит всему предыдущему потоку обвинений и угроз и поэтому неизбежно порождает вопросы. В одном комментарии только вчера я нашел такое признание: «Смысл этих стихов не вполне понятен». Так что Вы не одиноки. Мне кажется, что 14-й стих правильней читать как естественное продолжение предыдущих обвинений и угроз, и я нашел такое прочтение у Давида Иосифона, переводчика куда более косноязычного, чем синодальные, но зато более близкого к тексту. Он перевел первые две строки 14-го стиха не в утвердительной, а в вопросительной интонации:
«Избавить ли Мне их от ада, спасти ли Мне их от смерти?» В том смысле, что должен ли Он вообще спасать Эфраима после того, как тот изменил Богу? Доведись мне переводить это место, я сделал бы интонацию не просто вопросительной, а гневно-насмешливой, почти издевательской: «Мне ли избавлять их от ада? Мне ли спасать их от смерти?» Тогда становится понятным, как следует читать две следующие строки: не как насмешку над бессильными потугами ада и смерти, а, напротив, как призыв к ним: где вы? что медлите? придите быстрее! покарайте этих отступников, этих идолопоклонников! Поэтому я думаю, что перевод этих строк у Иосифона: «Где чума твоя, смерть? Где мор твой, преисподняя?» – более точен, чем вышеприведенный синодальный. В сочетании с иосифоновским же переводом первых двух строк вторые две звучат как прямой призыв к аду и смерти: Я и не подумаю спасать их от вас, ну-ка, побыстрее косите этот народ чумой и мором! И тогда очень естественным становится завершение этого стиха у Иосифона: «Скроется от глаз Моих раскаянье (в том)». В синодальном переводе это завершение звучит почти так же: «Раскаяния в том не будет у Меня», – но беда в том, что в синодальном переводе оно все окончательно запутывает: в чем именно у Бога не будет раскаянья? В том, что он спас Эфраима от ада и смерти? Но это нелепо – почему Он должен раскаиваться в добром поступке? В прочтении же Иосифона все вполне логично: спасать их Я НЕ буду, смерть и ад Я ПРИЗЫВАЮ и в том НЕ раскаюсь.
Выходит, что те же слова Осии в послании Павла имеют прямо противоположный смысл, и я не исключаю, что такое перевернутое использование Павлом текста Осии для СВОИХ целей сбило с толку и синодальных переводчиков – они пошли за Павлом и против Библии.
Убедительно ли все это на Ваш взгляд?
Как всегда Ваш
Рафаил
Приведя наконец в порядок свое жилище, Виталик набросал сюжет рассказа – подобно большинству, так и не сочиненного.
Самым подробнейшим образом описывается, как человек дотошно и обстоятельно наводит порядок в доме – квартире, комнате в коммуналке, избе, коттедже, особняке… Пылесосит, протирает посуду, чистит столовое серебро, драит пол, полирует мебель, красивыми стопками укладывает в шкафах, комодах, сундуках белье, полотенца, рубашки, развешивает отутюженные костюмы, приводит в порядок бумаги, уничтожает все лишнее. Излагать это можно километрами, любуясь деталями и смакуя там-сям всплывающие находки. Не забыть про пыль на абажурах и лампочках – редко до нее доходит тряпка хозяйки. Далее – накрывается изысканный стол на две персоны. Воспаленные ломтики лососины, бугристые спинки устричных раковин. Замороженная бутылка шампанского в серебряном ведерке – штамп, и Бог с ним. Вензель на серебряных же кольцах, охвативших крахмальные льняные салфетки. Он оглядывает результат трудов своих, из аптечки достает ампулу и отламывает головку. Наполняет два шприца, подзывает собаку. Та привычно опрокидывается на спину, подставляет живот для ласки. Он ловко вводит иглу в вену. И гладит, гладит подергивающееся тельце. Выносит последний пакет с мусором – там же использованный шприц. Возвращается, наливает шампанское в два бокала. Свой выпивает. Возится с запонкой (ее подарок) – засучить рукав. Медленно вводит иглу – теперь уже в свою вену. Последняя мысль – перед встречей – один грязный шприц все же останется неубранным.
Опять собаки
Есть ли смысл вспоминать события, не важнее ли ощущения? Скажем, грязное мартовское шоссе, едва уворачиваюсь от УАЗика, заглядевшись на большую белую бездомную больную собаку в серой жиже: милиционер ласково приглашал ББББС на обочину, та трусила и не верила. Бездомные собаки – от них сжимается сердце. Бездомные люди – вызывают брезгливость. Собак хотелось собрать, помыть, накормить, вылечить, приласкать… Щенки – игривые, с гладким пузом, еще мучительно-счастливые. Старые – тощие, с вытертой шерстью и гноящимися глазами. Трехногие. Сосед переезжал и выбросил на улицу двух овчарок, пожилых уже кобелей. Год – год! – бродили псы по окрестным помойкам, каждый вечер возвращались к подъезду и ждали. Постепенно приходили в упадок. Один прихрамывал. Кое-кто выносил им еду, Виталик тоже. Его все собаки выделяли – любовь с первого нюха. И прощали, когда он растерянно разводил руками: ну нет ничего. Да ладно, чего уж тут, на нет и суда нет. Овчарки улучали момент, протискивались в подъезд и поднимались на свой – свой! – третий этаж. И ложились у дверей бедного новосела. Тот звонил в милицию. Собаки исчезали на время. Потом возвращались. Все реже. Пропали на месяц. Потом появился один. Тот, что хромал. С вытекшим глазом. Лег рядом с мусоркой и лежал двое суток, отказываясь от еды. Пил немного из гнутой миски, подставленной дворничихой. Несколько милосердных скинулись и вызвали ветеринара. Хотите, усыплю, сказал он. Лечить тут нечего. Крайняя сердечная недостаточность. Ночью пес умер сам. От сердечной избыточности – как Нюта?
Отсюда сразу же ползут и формируются в твердую убежденность мысли об извращенной природе человека. Древний – внеморальный – инстинкт убийства: какая тут мораль, просто есть хотелось, территорию защищать. И вкус крови – и к крови, – заполнивший подсознание, никуда не ушел. Прекрасно себя чувствует и матереет под пленочкой морали – тут идет поклон всем религиям. Ну как же без крови! Верблюдов и агнцев, ведьм и гугенотов, неверных и басурман и конечно же евреев – их-то кровь особенно любезна, ибо кричали: «Распни его!» Каинова печать? Ну как же так, ну как так можно – поставить эту самую печать на человека (человек ли он, возможно ли, чтобы человек так вот напрямую общался с Создателем – батюшки, ведь и священников еще не было), от которого многие из нас и произошли: через Еноха – Ирада – Мехиаеля – Мафусаила – Ламеха и прочих. Вот и бродят в людях гены убийства… Чего ж от нас ждать – наследственность.
И как же тем, кто поумнее, не воспользоваться укорененным инстинктом? Главное слово тут – зависть. У соседа лишняя овца – убить, сначала овцу, потом и самого соседа: он удачливей, красивее, денег у него больше, шкурок, женщин… Однако ж – цивилизация, мать ее. Она чего требует? Она требует привести кровопускание в систему, не пускать это дело на самотек и снабдить убийства рюшечками и воланами. Вот сосед нахально завладел камушком в океане. Камушек вроде и не нужен никому, но – не положено. Противу правил. А потому – отобрать. Это обойдется в каких-нибудь 50—60 тысяч жизней. Заставлять не придется, душа готова, бьет копытом от нетерпения. Отпустить узду: мол, можно – вот и война. А чем она отличается от мира? Всего-то тем, что отцы хоронят детей, а не наоброт, это еще Геродот заметил, большая умница.
Но – к собакам. Вот наблюдение одного натуралиста из Уэллса. Если щенки пуделя живут и воспитываются вместе с волчатами, то волчата охотно уступают собакам лидерство и готовы подчиняться, а пуделята, напротив, проявляют агрессию. Что ж это с Артемонами творится? Уж не следствие ли сотен лет общения с человеком? И куда скупее волки, обратившиеся в собак, воздействуют на человека, умягчая его кровожадную природу. А ведь как было задумано! Давал, как известно, Господь имена всем своим созданиям. Жирафу – жираф, слону – слон, тигру – тигр… Время шло, животные проходили перед Ним бесконечной вереницей, и вот, казалось, все уже получили имена… Но тут заметил Бог еще одно – последнее – существо. Оно горько плакало. «Что с тобой, – спросил Создатель, – почему ты плачешь?» – «Как же мне не плакать, – ответила зверюшка, – ведь у меня нету имени». – «Знаешь, – сказал Бог, – не унывай, грешно это. Я припас для тебя необыкновенное имя. Ведь ты станешь самым близким, самым преданным другом человека, а потому имя тебе нужно особенное. Я дам тебе свое имя – если читать его справа налево».
Право же, не стыдно поучиться любви и верности у зеркального отражения Бога – пусть хотя бы в англоязычном мире. Профессор Ёсабуро Уено жил в местечке Шибуя, пригороде Токио, и каждый день ездил в столицу на поезде, а вечером его молодой пес, акитаину по кличке Хачико, встречал хозяина на платформе, и они вместе шли домой. Однажды профессор не вернулся – он умер на работе. Последующие одиннадцать лет, до своей смерти в 1935 году, Хачико каждый вечер приходил на станцию Шибуя и ждал, ждал, ждал… Сейчас на этом месте стоит бронзовый памятник – собаке? любви? верности? А недавно в Англии объявились две овчарки, о которых писали все газеты. Их нашли на какой-то сельской дороге и отвезли в собачий приют. Бони и Клайд, примерно двух и пяти лет от роду. Бони шла впереди, а Клайд, как потом выяснилось – слепой, ковылял сзади, положив морду на спину подруги. Они не расстаются, и сейчас этой паре подыскивают хозяина. Там-то, в Англии, найдут…
Ни одна религия не наделила собаку душой. Зато эти самые души есть у костоломов и убийц, насильников и грабителей, растлителей и – профессиональных живодеров. Как же, как же – венцы творения.
Эта озабоченность собачьими судьбами сыграла с Виталиком злую шутку, когда они с Аликом Умным предавались одному из любимейших занятий – составлению списков «самых-самых», на этот раз – «самых великих русских поэтов двадцатого века». Поместив в первый десяток Сергея Александровича Есенина, сам Виталик еще не отдавал себе отчета, что не «Анна Снегина», и не «Черный человек», и не «Шаганэ ты моя» подвигли его зачислить Есенина в компанию Пастернака, Мандельштама, Блока, Ахматовой, а «Дай, Джим, на счастье лапу мне», «Утром в ржаном закуте» и решительный отказ поэта лупить по голове меньших братьев. Ну и, конечно, «Корова». Вот это:
Скоро на гречневом свее,
С той же сыновней судьбой,
Свяжут ей петлю на шее
И поведут на убой.
Жалобно, грустно и тоще
В землю вопьются рога…
Снится ей белая роща
И травяные луга.
Да и сам Маяковский рисковал впасть в немилость и отстать от группы лидеров, не вспомни Виталик об упавшей на Кузнецком лошади – хоть и с трудом, но перевесившей омерзение от, видимо, искреннего: «Стар – убивать, на пепельницы черепа»… Ну и этот, дай Бог памяти, Жак Превер, словно у Маяковского подсмотрел и поменял Кузнецкий на парижский пейзаж:
На площади Карусели
летом,
однажды,
предвечерней порой
случилась беда,
и струилась
кровь лошади
по мостовой.
И лошадь
стояла не двигаясь,
стояла на трех ногах,
и нога искалеченная,
вывернутая
свисала,
внушая страх.
Рядом
стоял не двигаясь
кучер.
Его экипаж
неподвижен был,
бесполезен был,
как стрелки на разбитых часах.
А лошадь молчала,
лошадь не жаловалась,
лошадь не металась тревожно.
Она стояла,
ждала чего-то
и была так печальна и так прекрасна,
что было невозможно
удержаться от слез.
Лошадиный же рыжий остров привлек его внимание к Борису Абрамовичу Слуцкому, а сеттер Джек – к Вере Моисеевне Инбер. Чудесное стихотворение:
Собачье сердце устроено так:
Полюбило – значит, навек!
Был славный малый и не дурак
Ирландский сеттер Джек…
Не помнишь? Он полетел с хозяином на аэроплане и вместе с ним разбился, не стал прыгать: «Господин мой, я останусь здесь». Правда, может быть, пес просто испугался? И все же.
Так что вкус «стихов виноградного мяса» окрашивался для Виталика оттенками, совершенно не имеющими отношения к поэзии.
А вот и твое последнее письмо из роддома. Дата на нем не стоит.
Не выкидывай приложенную бумажку, у меня там важные записи!
Мой дорогой!
Ты, конечно, не ожидал такой скорости с выпиской. Не переживай, если чего не успел сделать, – я просто счастлива, что мы будем уже дома, т. к. чувствую себя прилично и девочка в порядке, а то вдруг тут подцепим что-нибудь, она или я, и застрянем.
Принесешь детское и взрослое – в двух разных пакетах.
Детское:
1) Одеяло шерстяное (мамино). Попробуй его вдеть в новый пододеяльник, только прогладь, а если не подходит, то просто одеяло.
2) Уголок (и если с пододеяльником, и если без него).
3) Чепчик розовый (в горошек) байковый.
4) Косыночку (белую).
5) Распашонку тонкую с зашитыми рукавами (чтобы больше подходила к розовому).
6) Распашонку байковую – розовую, с вышивкой.
7) Две тонкие пеленки (новые – те, что сложены и подогнуты, а старые – просто сложены).
8) Клеенку 25 х 25.
9) Пеленку байковую розовую (тоже новую).
10) Ленту розовую.
Для меня:
1) Туфли лаковые бордовые.
2) Чулки.
3) Резиновый пояс (голубой, лежит в шкафу, где коричневая комбинация).
4) Трусы белые (там же).
5) Коричневая комбинация (лифчик не надо).
6) Платье в клетку.
7) Плащ красный (я думаю, что холодно, а если тепло, то не надо).
Приготовь, солнышко, по 1 р. няням, что выведут нас с Оленькой: одна детская няня, одна – моя.
Котинька, что не сделал – сделаем вместе. Приготовься бодрствовать ночь.
Целую, родной.
Оказывается, у меня мало молока, купи в аптеке рожок и соску, здесь дадут докорм. Весит Оленька 3550.
Наташа
Приложенная записка:
Необходим докорм, 30–40 г. Молоко стерилизовать. Через неделю – в консультацию для контрольного взвешивания. Молоко годно сутки. Кормить через три часа семь раз в сутки. Сладкая водичка с ложки – 150 г, 1 ч. ложка сахара на 1 ст. воды. Ночью – ложек 10–15 сразу, а днем – по 5–6.
Оказалось, что море – серая полоска за окном вагона. За час до Евпатории она появилась слева по ходу поезда, совершенно заурядная. А говорили – море, море!.. Потом Виталик лизнул плечо вернувшегося в купе АНКа, который на стоянке успел окунуться. Чуть солоновато. Еще были ракушки – на шкатулках и так, сами по себе, увязанные в бусы и раскрашенные, не Бог весть что. Да, и полосканье носа и горла – мама заплывала подальше, набирала в бутылку воды почище.
О чем это я, Господи. Не могу забыть телефонный номер: Миуссы-один-восемь-восемь-девять-один. Чей? Баба Женя бормотала его под нос, крутя диск. Уж не тети ли Раи? Той самой, что лечила меня, потом устраивала тебя в роддом, потом опекала Ольгу, отвергла – к счастью – прописанные ей распорки от дисплазии тазобедренного сустава, потом – потом она впала в маразм и вскоре умерла. Такие вот Миуссы. А когда телефонным узлам раздали буквы, Миусский получил, кажется, Д. У нас в доме были целых две буквы: мой – Б3-81-42, Алика – К4-19-34.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.