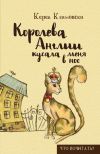Текст книги "Санки, козел, паровоз"

Автор книги: Валерий Генкин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 25 страниц)
И это тоже
Куда теперь нырнуть, за какую потянуть нитку? Жизнь-то Виталика – ну совершенно лишена пригодных для внятного сюжета событий, как писать о такой? Одно спасает: тебе-то сюжет не очень нужен. Оттуда ведь видно, что сами по себе цепочки эпизодов – пшик и Генри Торо (или не Торо?) прав, говоря: «Наши мысли – вот этапы нашей жизни, остальное – лишь память о ветрах, что веяли, пока мы были здесь». Красиво сказано. Беда в том, что и мыслей-то стоящих не густо. Пытаешься эту самую память о ветрах освежить – а всплывает черт-те что. В овощных отделах картошка сыпалась в подставленную авоську из лотка, который в нужный момент перегораживали фанеркой. В аптеках – таблетки в плоских картонных коробочках, порошки в бумажных ловко сложенных пакетиках, пузырьки в нагрудничках-слюнявчиках с красивым названием «сигнатура». А еда! Милая столовская еда: бифштекс рубл. с яйцом, шайба вареной колбасы, выловленная из мутной воды, сосиски с зеленым горошком, рыба с бледным пюре плюс ломтик мятого соленого огурца, полстакана сметаны с сахарным песком. А на Курском вокзале – сардельки упоительного вкуса, круглые сутки. Или вот, скажем, молочный суп – с вермишелью, сладенький. А батон «Украинской» и колясочка «Краковской»? В редчайших случаях пюре могло быть не зеленовато-бледным, а сливочного цвета, обложенное золотистыми котлетами. Скажем, в гостях у Арнольда. Да только кому это интересно – разве автору. Да и его, то есть Виталика, в то время заботило другое.
Как же: вон вокруг все уже. А он – всё еще. Или врут? Арнольд – нет, вроде не врет. Юрка – тот точно не врет. Милые друзья детства, Алики Д. и У., на год с лишним младше, и те – а может, хоть они врут? Слишком уж живописно Алик Умный рассказывал про Жанну с железным зубом. И не столько организм взывал к свершению сакрального акта утраты девственности, сколько уязвленное самолюбие. Белокурый ангел Володя Брикман, самый застенчивый одногруппник, честно признался, что только один раз, чем вызвал прилив братских чувств, но не заставил признаться в позорном «ни разу». Проблема требовала серьезного, продуманного решения. Ибо – доколе. Где искать ту, что избавит от бремени? Надлежало выбрать время, место, объект и возможные пути отступления как при неудаче, так и, напротив, в случае полного торжества. Приземленная рассудочность такого подхода, совершенно свободного от высоких чувств или игривого легкомыслия, находилась в очевидном противоречии с ранимой (тонкой, чуткой) натурой героя, нафаршированного образами высокого искусства различных направлений, школ, видов, жанров и национальных особенностей. Великое (возвышенное, трепетное) чувство, подвигающее и вдохновляющее художников и поэтов на… и т. д., бла-бла-бла, Любовь, та самая, что, как установлено давным-давно крупным авторитетом, движет солнце и светила, – все это в студенческой среде называлось просто: запарить кочерыжку. Вариант: кинуть палку. В основном Виталика заботили три совершенно практических обстоятельства: получится ли (при лобзаниях и рукосуйстве в холодных подъездах эрекция не всегда казалась ему удовлетворительной); не подцепить бы чего, если получится; и – не впутаться бы в долгую связь с неопределенным исходом, если получится уж совсем хорошо. Такая вот холодная расчетливая скотина. И противным дребезгом донимал память эпизод на дне рождения Алика Доброго, куда явился он с подцепленной в Парке культуры бледной вампирической девицей. Нарисованные глаза, кровавые губы, лакированные иссиня-черные волосы. И этот птичий запах. На роскошной родительской кровати в роскошной адвокатской квартире он сосредоточенно мял вялое тело, прислушиваясь к реакции собственного. Все молчало. «Пил, что ли, много?» – лениво спросила. Он покивал. «Ладно, пойду я, машину хоть возьмешь?» Кошмар усугубился тем, что денег на машину у него явно не хватало. Изловив на кухне Алика, он взял у него тридцатку.
Садясь в такси, вампириха светски протянула ему руку. Он сунул в ладошку деньги и убежал.
И вот, после целинной возмужалости, намерения общего характера приняли практические очертания. Сходка, именуемая в те времена бардаком, намечалась на революционный праздник, на Трудовой собиралась дачная компания. Получив сведения, что приглашены лишние дамы, он облегченно вздохнул, купил согласно разнарядке бутылку «Московской», полбатона «Любительской» и по банке килек, бычков в томате и ставриды в масле, запасся изделием номер два (или четыре? нет, четыре копейки – это стоимость пары изделий номер два после реформы шестьдесят первого года) и сел в электричку.
Пахло от нее пудрой и луком. Все это вдохнул он во время танца. За столом она сидела напротив и наискосок, мрачно и молча. Привычный треп. «А вот еще: Вась, ты меня хоть любишь? А что я, дура, делаю». Тщился острить, хотя в голову шли преимущественно еврейские анекдоты Игоря, здесь вовсе не уместные. Он вроде и не смотрел на нее – так, заметил, что лицо грубое, сама крупная и костлявая, пальцы, правда, неплохой формы, вот только ногти неухоженные и цыпки. Анекдоты то ли не слушала, то ли не находила смешными – не улыбалась. Через пару часов после начала застолья самая разбитная деваха, похоже, ничейная, а значит – всехняя, задумчиво, но громко произнесла: «Смех смехом, а п… кверху мехом». Виталик покрылся кирпичным румянцем, Валя – так звали визави наискосок – чуть подняла бровь. Определившиеся – кто заранее, кто на месте – пары стали расползаться по просторной даче. Толстухе, приуготовленной хозяину, стало плохо, и тот повел ее на улицу – блевать. Туда же отправилась бесхозная барышня, и вскоре оттуда послышались визгливые частушки:
У кого какой милой,
У меня мастеровой,
По Москве тележку возит
С газированной водой…
Красавца Сашку, Алика Доброго, увела самая эффектная барышня, вроде бы студентка чего-то филологического. Надо же, на остроты Виталика вполне адекватно хихикала, а выбрала вот Сашку. Виталик, оставшийся один на один с Валей, выпил сразу полстакана водки и, не закусывая, закурил. Она тоже выпила и закусила шпротиной.
И на него посмотрела с интересом:
– Что замолчал?
– А?
– Все шутил, шутил, а теперь вот молчишь.
– Да вроде положено, я и шутил.
– Долг выполнял?
– Угу, долг.
– Тебе лет сколько, что уж задолжать успел?
– Восемнадцать. Скоро.
– Большой мальчик.
Он покраснел.
– Чем большой мальчик занимается?
– Учится он, в Институте связи.
– По связям, значит. И как, много их было?
И вдруг, с ошеломившей его самого честностью:
– Совсем не было.
Она улыбнулась – впервые за вечер.
– И вправду, значит, мальчик. Хочешь меня?
Голова закружилась, он потянулся к бутылке.
– Не надо тебе больше пить.
– Да.
– Что – да?
– Хочу.
Она смотрела на него с ласковым любопытством. Резко встала, прошла в угол, где на двух табуретках сбоку от печки лежала груда пальто да на гвоздях висели старый тулуп и пара ватников. Уперев кулаки в бедра, стала задумчиво их рассматривать. Выбрала тулуп, бросила на пол. Добавила телогрейку.
– Эх, простыни нет. Ну да ладно. – Повернулась к нему. – Так и будешь сидеть? Помоги даме раздеться.
Скинула туфли, в чулках стала на тулупную шкуру. Сквозь капрон просвечивали прямые тонкие пальцы, аккуратные пятки. Он почувствовал мгновенное возбуждение. Как бы вот сейчас, минуя унылую рутину раздевания, оказаться уже с ней, на ней, в ней? Он задохнулся, закашлялся, ткнул сигарету в тарелку. Встал, два шага дались с трудом. И вот уже протянул руку к молнии – оказалось, Валя уже повернулась к нему спиной. Молнию, конечно, заело. Она засмеялась, перевела его ладони себе на грудь. Ткнулся в затылок – птицей не пахло. Хороший знак. Уже позже он рассказывал, насколько этот птичий запах оказался для него важным. «Вот говорят, – делился он с Аликом, – мужчины любят глазами, женщины – ушами. А я – я носом люблю. Какая бы красавица ни была, но если пахнет перьями…» Уж как она извернулась и стала на колени, он не понял. Деловито расстегнула ему брюки, спустила трусы. Ну, малыш, расти. Вот-вот. И нежно завернула шкурку. Он ощутил деревянную твердость, посмотрел вниз. Валя сидела, раздвинув ноги. Запрокинулась. Он опустился на колени. Она ловко, одним движением обнажила светло-рыжий треугольник, взяла Виталика за руку и провела его пальцем по влажной впадине. И тут, о ужас, все взорвалось. Ч-черт! Он едва не заплакал.
А Валя? Подолом сиреневой комбинации тщательно стерла мутные вязкие капли с внутренней стороны бедра, то же – с помягчевшего малыша и только после этого грациозным движением выскользнула из платья.
– Свет потуши, спать будем.
Уже забываясь в колыбели ее тела, суховатого и гладкого, вдыхая печное тепло и легкий запах пота, он услышал тихую матерщину. Хозяин дачи шарил по столу – сигареты, мать их, были же сигареты. Потом очнулся – ее язык взбадривал, и успешно, оскандалившийся орган, руки по-хозяйски распоряжались его ногами, бедрами, вылепляя нужную позу. Медленно-медленно она наделась на него, уперлась ладонями в грудь… Он ничего не понял, лежал неподвижно, испуганно, болезненно ощущая свою твердость. Она тихонько завыла, выше, выше. Вдруг сникла, сползла.
– Мальчик мой, – услышал.
Валя затихла. Заснула? Он ощутил вдруг прилив энергии, высвободился из ее рук. Подошел к умывальнику, смыл холодной водой пахучий секрет, смочил лицо, вытерся носовым платком и оделся. Почуял голод. Шлепнул на кусок черного хлеба ломоть заветренной ветчины. Прожевал. Жадно, прямо из миски, съел несколько ложек оливье. Запил лимонадом – плеснул в стакан, вылив из него остатки водки. Надел пальто, кепку. Оглянулся на Валю. Спит. В кармане нащупал так и не востребованное изделие номер два. Оставил на столе.
И ушел – уже серело.
Неплохое место еще для пары-тройки писем Виталика – в них он на редкость похож на своего нудновато-правильного, обстоятельного папу.
28.VII.1958
Здравствуй, дорогая мамочка!
Вчера приехали в Алушту и сразу достали койки (по 8 р.). Едим в столовой. Фрукты здесь дорогие, а помидоры дешевые, 2 р. Погоды лучше не придумать, 26—28°. В море тепло. Медуз, слава богу, нет, а то ты знаешь, какие нежные чувства я к ним испытываю. Отдыхаем мы превосходно. Как ни странно, я еще ничего не потерял – ни расчески, ни ножика. Яша, бедняга, сгорел на солнце, и шкурка с него лезет, как с ошпаренного помидора, хоть мы вылили на него ведро одеколона и втерли тонну вазелина. А у меня железнейший загар шоколадного цвета.
Вчера бегал на почту, но писем не было. Уж очень хочется получить весточку от вас. Напишите подробно, как живете, как наша кроха – Валерик.
Целую.
Виталик
3.VIII.1958
Мамочка, дорогая моя!
Судя по твоей открытке, ты очень переживаешь. Опять бабушка сцепилась с АНК? Не волнуйся обо мне, ведь я тебя очень люблю и очень осторожен. Прошу тебя, развеселись немного. Я так хочу представлять тебя улыбающейся. Как мой братишка? Уже сидит? А может быть, стоит? Хотя ты мне, кажется, говорила, что дети сперва стоят, а потом сидят.
Я здесь в основном сплю и ем, а в перерывах купаюсь и загораю. Денег у нас вполне хватает, и, хотя фрукты дороговаты, мы едим груши и абрикосы (яблоки здесь 18—20 р., вишни – 15 р.) Зато помидоры 1 и 2 р. Едим в столовой, утром – яйца, творог со сметаной, каши – манную или рисовую. Днем – борщ или окрошку, мясо, компот. На ужин тоже что-нибудь мясное. В результате я вешу 67 кг 900 г. Сегодня к Алуште подошел красивый белый корабль с красным и зеленым флагами. Потом по набережной промчались Микоян и Ворошилов, сели на катера, помахали нам ручками и под овации энтузиастов с военной выправкой поехали на корабль. Тот дал пушечный выстрел, поднял якорь и скрылся. До чего красив! Кстати, на Ворошилове такая же шляпа, как у меня.
С нетерпением жду писем.
Привет Рахили и Нюте.
Крепко целую.
Виталик
Или вот – через десять лет. Время стоит.
17.VIII.1967
Мамочка, дорогая!
Теперь могу в спокойной обстановке написать тебе. Мы добрались до Планерского, нашли место потише, поставили палатки. В три часа уже все было готово, и мы пошли в кафе, до которого километра два (в первый день решили не готовить сами). Сегодня третий день отдыха. Погода чудесная: 25—27°. Ночи теплые. Вода, правда, слишком уж теплая, особенно к вечеру: почти не освежает. Но медуз мало.
О еде. На рынке есть виноград (80 коп. – 1р.), яблоки (50 – 80 коп.), дыни (50 коп.), персики (40 – 70 коп.), помидоры (30 – 40 коп.), сливы (15 коп.). В магазине покупаем картошку, помидоры, груши, персики; на рынке – яблоки, дыни. Тушенка, крупа, сахар, масло у нас есть.
Завтра пойду заказывать билет на самолет. Хочу прилететь 3 сентября. Часть наших хочет ехать, часть – лететь. Если удастся, позвоню, но это нелегко. Жду от тебя письма: как себя чувствуешь, все ли здоровы, как Валерик. Привет Нюте, тете Рахили, дяде Толе. Адрес мой: Крым, пос. Планерское, до востреб. Затуловскому В.И.
Целую крепко.
Виталик
P.S. Здесь продают полудрагоценные камни: малахит, коралл, александрит, бирюзу, сердолик. Камни отшлифованы, но без оправы. Цены от 4 до 7 р. за камень. Напиши, чего бы хотелось. Я понимаю, что это трудно, не видя камней. Но все же я хотел бы знать цвет и форму (для серег? для кольца?). Деньги у меня есть, хватит на любую пару камней. Мне многие нравятся.
Вдали погас последний луч заката, и сразу тишина на землю пала. Прости меня, но я не виновата, что я любить и ждать тебя устала. Есть и другой вариант. Вдали от нас погиб Патрис Лумумба, а мы ему ничем помочь не можем. Его убил презренный Касавубу, а мы ему ничем помочь не можем. Помнишь, как мы часами пели в машине, чтобы Олю не укачивало? Морями теплыми омытая, лесами древними покрытая, страна родная Индонезия, в сердцах любовь к тебе храним… Мы едем в Одессу, перекусываем по дороге болгарскими голубцами, разогретыми на походном примусе. И поем, поем, поем. Тебя цветы одели яркие, тебя лучи ласкают жаркие, и пальмы стройные раскинулись по берегам твоим.
Песен требовалось много – на тысячу-то с лишним километров. Закончив «Индонезию», Виталик вспоминал то, что завязло в подкорке с детства и нечаянно вылезало на поверхность. Закурю-ка, что ли, папиросу я, мне бы, парню, жить и не тужить, полюбил я девушку курносую и теперь не знаю, как мне быть. Далее следует печальный рассказ о безответном чувстве. Не такая вовсе уж красавица, а проходит мимо – не глядит, то ли ей характер мой не нравится, то ли не подходит внешний вид.
Или:
По берлинской мостовой
Кони шли на водопой,
Шли, потряхивая гривой,
Кони-дончаки.
Распевает верховой:
«Эх, ребята, не впервой
Нам поить коней казачьих
Из чужой реки».
Казаки, казаки!
Едут, едут
По Берлину
Наши казаки.
Потом появляется девушка с флажком, тонким станом и бирюзовыми очами и принимается регулировать движенье. Покончив с казаками и бирюзовоглазой регулировщицей, Виталик переходил к тягучим восточным руладам – но и там глаз было в избытке. Ах, как сладко пел Рашид Бейбутов:
Воды арыка бегут, как живые,
Переливаясь, журча и звеня.
Возле арыка, я помню, впервые
Глянули эти глаза на меня.
В нееееебе блещут звезды золотые.
Ярче звезд очей твоих краса.
Только у любимой могут быть такие
Необыкновенные глаза!
Где бы я ни был: в пустыне безбрежной,
В море, в горах с пастухом у огня, —
Эти глаза неотрывно и нежно,
Мне помогая, глядят на меня.
В неееебе…
Ну и так далее.
А ты пела смоляниновскую «динь-динь-динь» – нам с Ольгой ужасно нравилось. Тогда вообще славные песни были. Сейчас, надо тебе сказать, такое здесь творится! Поют все меньше, больше показывают ноги, сиськи и – ногти. Вот, скажем, певица с вполне музыкальным погонялом – что-то вроде Модератовой. Много желтых кудряшек. И голос есть какой-никакой. Да только дотерпеть до него надо: сначала долго-долго из-за кулис выползают ногти, а уж потом… М-да, большие перемены. Ногти взамен пения, а вместо рыбьего жира – «Омега 3». То же самое, но – красиво! Старый брюзга, знаю, как же. Вот вижу, как пара разнополых – ну хоть так – подростков в метро самозабвенно высасывают пломбы друг у друга, и кричу им: «Ребята! Попробуйте е…ся наедине. Это здорово, это классно, это – по-вашему говоря – прикольно. Поверьте моему опыту». Куда там – крик беззвучен, робею.
Ох, отвлекся. А еще была баллада про кошку и плов. Ты помнишь? Ну ее-то стоит привести целиком:
На Востоке любят Насреддина
За веселый нрав и мудрость слов.
Вот одна забавная былина
Про жену, про кошку и про плов.
Раз мудрец жене пять фунтов риса
И еще пять фунтов мяса дал
И в саду под тенью кипариса
В ожиданье плова задремал.
Но зато хозяйка не дремала
И соседа в гости позвала,
Жирным пловом вдоволь угощала,
А ушел – тарелки убрала.
Встал мудрец, жена не растерялась
И кричит: «Протри глаза, осел!
Плов пропал! Пока я убиралась,
Кошка весь очистила котел».
Но мудрец без шума и без крика
Кошку взял за хвост и за усы
И спокойно сонную мурлыку
Положил, как в лавке, на весы.
Подождал немножко —
И спросил мудрец без лишних слов:
«Если это плов, то где же кошка?
Если это кошка, гдеееее же плов?..»
С перерывами этого хватало до Орла. Путь на Чернигов проходил под «Челиту»:
Ну кто в нашем крае Челиту не знает:
Она так умна, и прекрасна,
И вспыльчива так, и властна,
Что ей возражать опасно.
И утром и ночью поет и хохочет,
Веселье горит в ней, как пламя,
И шутит она над нами,
И с нею мы шутим сами.
Ай-яй-я-яй! Что за девчонка!
На все тотчас же сыщет ответ,
Всегда смеется звонко.
Ай-яй-я-яй! Зря не ищи ты,
В деревне нашей, право же, нет
Другой такой Челиты.
Ольге особенно нравилось это «Ай-яй-я-яй», поэтому мы повторяли его, понижая голос, пока она не засыпала и мы могли немного отдохнуть. Но вот на заднем сиденье возрождалась жизнь и звучало грозное: «Ну!» И тогда:
Жемчужные горы сулят ей сеньоры,
Но денег Челите не надо,
Она весела и рада
Без денег и без наряда.
По нраву Челите лишь солнце в зените,
А всех кавалеров шикарней
Считает простого парня,
Что служит у нас в пекарне.
Ай-яй-я-яй!..
До Белой Церкви пели про мельника, осла и мальчика:
Дедушка с внуком плетутся пешком,
Ослик на дедушке едет верхом.
– Тьфу ты! – хохочет народ у ворот. —
Старый осел молодого везет!
Где это видано, где это слыхано?
Старый осел молодого везет.
До Умани мы успевали возненавидеть веселого парня из Карабаха, что поил своих коней прохладной, с гор водопадной, чистой, светлой и еще какой-то водой, снова вспомнить очи, что темней дарьяльской ночи, и бедную саклю Хасбулата. Правда, к Одессе подъезжали с лихой, с детства любимой, Утесовым петой и нынче забытой «Бородой»:
Чуй, чуй, чуй, чуй!
На дороге не ночуй!
Едут дроги во всю прыть —
Могут ноги отдавить!
А на дрогах едет дед —
Двести восемьдесят лет —
И везет на ручиках
Маленького внучика.
Ну а внучику идет
Только сто девятый год
И у подбородыка
Борода коротыка.
В эту бороду его
Не упрячешь ничего,
Кроме полки с книжками,
Мышеловки с мышками,
Столика со стуликами
И буфета с бубликами!
А у деда борода —
Аж отсюда до туда
И оттуда, через сюда
И обратно вот туда.
Если эту бороду
Расстелить по городу,
То проехала по ней
Сразу б тысяча коней,
Три буденновских полка,
Двадцать два броневика,
Триста семь автомоторов,
Триста семьдесят шоферов,
И стрелков четыре роты,
И дивизия пехоты,
И танкистов целый полк!
Вот такой бы вышел толк!
Если эту бороду
Расстелить по городу —
У-у-у-у-у!
Одесса, приехали.
И потекла-покатилась жизнь студенческая. Она – как эвакуация – осталась скорее набором кадров, чем связным сюжетом со своим течением: завязкой, кульминацией, развязкой… Этими – лирическими отступлениями. Отступления в основном и сохранились. Вот, скажем, скетч на институтской сцене. Действуют декан Иван Кощеев и студент по фамилии Цым. Называется «Иван-декан убивает своего Цыма». Виталик-декан, сидючи в кресле с картонным посохом в руке, зверски выкатывает глаза и хрипит о «хвостах» по курсу кабельных линий связи, а студент Цым в исполнении студента Цыма блеет что-то в ответ. Неудовлетворенный декан колотит Цыма по голове посохом, после чего они оба принимают позу репинских персонажей. Особой находкой была измазанная с наружной стороны красными чернилами рука Ивана на лбу Цыма…
Приобретенную еще в школе привычку как бы невзначай блеснуть даром, которого не было в помине, Виталик не оставил. Продолжал избывать комплексы. Мог часами вымучивать с французского подстрочника перевод полускабрезного стишка, чтобы небрежно предъявить его для институтской газеты как тут же состряпанное собственное сочинение:
Всем известно, что мужчины
Любят дам не без причины:
Панталоны в кружевах
Взоры их пленяют – ах!
Сладки шелковые складки —
Как на них мужчины падки,
Шорох милых панталон
Исторгает страсти стон.
Все мужчины-шалуны
В панталоны влюблены,
И в нежнейшей пене разом
Свой они теряют разум.
В этот печатный орган – «За кадры связи» – алкающий славы Виталик частенько таскал свои стихи, и на кое-какие его рифмованные тексты свой же факультетский композитор Игорек с музыкальной фамилией Пищик творил жестокие романсы. Весна опять пришла в наш город, ей каждый рад, и снова зелен стал и молод наш старый сад. Или вот это: никогда я не забуду аромата орхидей, ты шептала: нет, не буду, ах не буду я твоей. Или, наевшись Анненским:
То, что обычно кажется мне сном,
Порой хочу представить я яснее —
Не для того, чтоб вспомнить о былом,
А чтобы было, что забыть позднее.
Былого не было. О чем же вспоминать?
Я имя повторяю машинально.
Не для того, чтобы еще страдать,
А чтобы было, что назвать страданьем.
Ну и так далее. Одногруппницы таяли. Но как-то раз случился великий конфуз. Среди листочков, им аккуратно исписанных, затесался с незапамятных времен ходивший по Москве, сочиненный, как много позже выяснилось, неким Николаем Агнивцевым, веселый стишок о распутном паже:
У короля был паж Леам —
Повеса хоть куда.
Сто сорок шесть прекрасных дам
Ему сказали «да».
Не мог ни спать, но пить, ни есть
Он в силу тех причин,
Что было дам сто сорок шесть,
А он-то был один.
Так от зари и до зари
Свершал он свой вояж.
Недаром он, черт побери,
Средневековый паж.
Но как-то раз в ночную тьму,
Темнее всех ночей,
Явились экстренно к нему
Сто сорок шесть мужей.
И, распахнув плащи, все враз
Сказали: «Вот тебе!
О паж Леам, прими от нас
Сто сорок шесть бебе».
«Позвольте, – молвил бедный паж
И отступил назад, —
Я очень тронут, но куда ж
Мне этот детский сад?
Вот грудь моя, рубите в фарш!..»
Но, шаркнув у дверей,
Ушли, насвистывая марш,
Сто сорок шесть мужей.
И эта славная история блудливого пажа появилась в «ЗКС» за подписью «Виталий Затуловский». Разоблачение не заставило… Он долго отмывался. Не хотел, мол. Случайно, то-се. А может, не случайно – может, думал, проскочит? Другие-то стишата были куда слабее. Их он и сам скоро забыл, а Леама помнит по сю пору.
Вот высунулся еще эпизод, не заталкивать же его обратно.
Голова в самодельной повязке, на лбу кровавая корка (надо же, как близко к сценке с Иваном-деканом) – акварель, специально купленная для этого случая с целью… Целей несколько, и все поражаются одним выстрелом. Вернее – ударом по голове. Во-первых – сессия в разгаре, а какой экзаменатор поставит меньше «хора» бледному юноше со взором, горящим любовью к предмету, если у него сквозь несвежую марлю проступает кровь? Что там был за экзамен? Телефония? Теория связи? Теория же, но поля? Разве вспомнишь. Во-вторых, обе Наташи, занимавшие в тот год его воображение, конечно же заинтересуются (Грушницкий, шинель, костыль), начнут задавать вопросы. Объяснение должно быть убедительным. Скажем, драка. Превосходящие силы противника. Пара алкашей остановила его, и в неравной борьбе… Звонит Арнольд – что случилось, куда пропал? Голова? Сильно? Сейчас приеду. Хорошо, что предупредил. Зеркало – тут поправить, там освежить, последний удар кисти. Тягостное ожидание. Звонок – наконец-то. Арнольд не один, с ним дежурная девица. Дыша духами, ощупывает затвердевшую корку краски. Давай перебинтую. Ни в коем случае! Пьем чай. На ходу излагается плохо продуманная версия, пожалуй, переборщил с героизмом. Да уж теперь поздно.
Экзамен был последним. После него ближний круг собрался на пару-тройку дней в Кубинку, на дачу Наташи Большой, с вином и лыжами. Ну а он куда, с перевязанным черепом? Так и не поехал.
Наташ было две – Большая и Маленькая. Называли их так потому, что Большая Наташа была большой, а Маленькая – маленькой (золотоволосой, хрупкой, трепетно невинной – casta diva, если не присматриваться). А Большая – та самая, из-за которой ты тогда устроила мне скандал, прочитав на календаре кодовое слово Snubnose.
Длинная, плоская, пловчиха. Губы тонкие, извилистые. Сутулилась, одевалась по-старушечьи. Там, помнится, сфинкс у моста Лейтенанта Шмидта подействовал. Холод жуткий, они вышли из общежития – третий курс, практика в Ленинграде на заводе – «Заря»? «Красный Октябрь»? – нет, точно, «Красная заря», жгуты кабельные вязали, а тут у Виталика день рождения, крепко выпили, и поймал он этот взгляд – зов. И говорит: пошли, говорит, погуляем по набережной. Холод, ветер, луна. В сиянье ночи лунной… «Сфинкс этот – женщина, – плел. – Видишь, рожа женская, а в Египте она здорово облуплена. Страшно жестокая была. По-гречески – “душительница”. Всем мимопроезжим загадку загадывала и, если не угадаешь, – приканчивала. Какая загадка? А вот какая. Кто утром на четырех ногах, днем на двух, а к ночи на трех? Она ее Эдипу загадала, а тот возьми и отгадай: человек. Так тварь эта от огорчения в пропасть кинулась…»
Он говорил, говорил, говорил…
Оттуда и началось. «Помнишь ли город тревожный, синюю дымку вдали, этой дорогою ложной молча с тобой мы пошли». Это она потом, в Москве, во время очередной ночной прогулки при том же дружеском молчании луны удивила Виталика Блоком. А в замороженном ленинградском трамвае они тряслись до этой «Красной зари» и держались за руки. Славно было. Ах как славно. Львы при входе в Русский музей смотрели на них с плаксивым сочувствием. Арнольд на этот день рождения имени моста Лейтенанта Шмидта подарил ему заводного клоуна. Долго еще потом, годы прошли, а всякий раз, оказываясь в Ленинграде, отмечал он про себя: здесь бывал с Наташей Большой, а здесь – не бывал.
Тот же Арнольд как-то раз повлек Виталика к синагоге на Архипова (впрочем, тогда других в Москве и не было), где на Симхас-Тойре собирались молодые евреи из семей, не окончательно забывших свое еврейство. Сам-то он о своих корнях помнил до такой степени, что, ругаясь, произносил «сука» с отчетливым удвоенным «к». Виталик же был холоден, с легким любопытством оглядывал соплеменников. Ловил обрывки разговоров. И даже скрипочка с ее фрейлехсом поначалу не завела, не обнажила в нем еврейского краешка, не всплыло естество, задавленное еще в родителях рабфаком и комсомолом. Но ведь просыпалось оно в окружающих – вот и круг образовался, а в нем пляшут, да как! Откуда-то явились повадки, движения, жесты, поклоны. Точь-в-точь как у Городницкого: «Выгибая худые выи, в середине московских сует, поразвесив носы кривые, молодые жиды танцуют». Он смотрел – и завидовал, чуть-чуть. А тут еще шутник-скрипач сплел «семь-сорок» с «Танцем маленьких лебедей». Да парочка розовощеких парней в кипах завела Ло мир але ин эйнем тринкен а биселе вайн! И действительно, объявилась бутылка вина и пошла по рукам. И кто-то затянул Эвейну шалом алейхем – мы принесли вам мир, и все подхватили, поменяв ударение с алейхем на алейхем, и он позавидовал, и не выдержал, и запел, и встал в круг… Похожую зависть к чувству приобщения он испытал, когда услышал, как замотанная в драный платок неопрятная бабка, протискиваясь по вагону электрички, чистым, звонким, молодым голосом вещала: «Ангеле Божий, хранителю мой святый, живот мой соблюди во страсе Христа Бога, ум мой утверди во истиннем пути и к любви горней уязви душу мою, да, тобою направляема, получу от Христе Боге велию милость…» – а к ней через проход подалась, потянулась девушка и опустила в дерматиновую кошелку рубль.
А через много лет, в Иерусалиме, Виталик впервые в разгар шабата увидел харедим, которые неистово плясали и отрешенно раскачивались. Они по парадоксальной линии напомнили ему хиппи. Те же паразиты, подумал он, что немытые парни и девки из квартала Хайт-Эшбери, Сан-Франциско, в шестьдесят седьмом – лето любви и прочая чушь собачья, та же свора бездельников и тунеядцев, разве что без наркоты и е…ли. Хиппи же аккуратному Виталику были противны, хотя со свойственной ему осторожностью он в этом не признавался, боялся прослыть консерватором, ретроградом. Ах, прочь заразу бизнеса, расчетов, политики, войны прочь – свобода, мантры-шмантры, милосердие, эта самая любовь – четвертый сон Веры Павловны, только без непременного труда. Засмолить косячок. Трахнуть подругу. Сидеть в позе лотоса, пить пиво. Играть на бильярде, вышивать цветы на джинсах и обсуждать последний жукастый альбом. Ох, не зря их терпеть не могли работящие американцы…
Зависть – славное чувство, когда заставляет что-то менять, думал постаревший Виталик. Собирать разбросанные, пусть и не им, камни. Да где уж – видать, и помирать придется, не вылезая из новой общности, братской семьи народов. Сам он к еврейству своему относился настороженно, а иногда ловил себя на мысли, что ощущает подобие вины. Собственно, евреем его делали антисемиты, и это вызывало двойственное чувство – протеста (чего это меня загоняют в еврейство?) и принадлежности к избранным (коли нас так дружно не любят, значит, мы особенно – что? хороши?). Но испытывать гордость за еврейскую исключительность что-то мешало. Да, их всего-то несколько миллионов, тринадцать то ли четырнадцать, а нобелевских лауреатов больше ста. У арабов-то, которых чуть ли не миллиард, – всего семь. Иисус и апостолы, Эйнштейн и Фрейд, Голливуд и шахматы, и прочее, и прочее. Но, почитывая Библию, наталкивался – в еврейской, ветхозаветной ее части – на тексты, ставящие его в тупик. Восхваляемый Давид, по немудреным меркам Виталика, был просто сукин сын – чтобы овладеть Вирсавией послал на смерть Урию, ее мужа и своего верного воина. Впрочем, об этом уже говорено. А Есфирь (она же Хадасса, она же Гадасса, она же Эстер), та самая, в честь которой устраивают веселый праздник Пурим – с ряжеными, маковыми пирожками и непременными рассказами детям, как они с Мардохеем (он же Мордехай) спасли евреев от злодея Амана? Как там обстояло дело? Он вчитался в Книгу Есфири и пришел в ужас.
Персидский царь Ахашверош (он же – Артаксеркс, правда, Виталик так и не понял, какой из трех Артаксерксов имелся в виду) учинил роскошный пир для всей знати своей империи, и они выпивали и закусывали аж сто восемьдесят дней. Потом, уже притомившись, он собрал на скромный семидневный праздник жителей стольного града Сузы и под конец решил показать всем свою красавицу жену Астинь. А та заупрямилась, поскольку муж не сам к ней прибежал, а послал за женой евнухов. Царь не стерпел и выгнал упрямую бабу к чертовой матери, а сам пустился во все тяжкие – начал пробовать по очереди всех смазливых девиц. И вот дошла очередь до красивой станом и пригожей лицом Есфири, сиротинушке, которая жила под опекой иудея Мордехая, приходившегося ей кузеном, то бишь был он сыном ее дяди. Покорила Есфирь царя, обрела, как говорится, благоволение и благорасположение, и сделал ее Артаксеркс царицей персидской (еврейство свое она, кстати, скрыла), а Мордехаю дал должность привратника. Тут, кстати, случилось Мордехаю подслушать заговорщиков, замышлявших убийство царя, и он через Есфирь сообщил это Артаксерксу. Злодеев, естественно, повесили, а о своевременном сигнале Мордехая появилась запись в дворцовом дневнике.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.