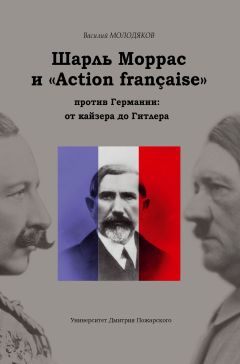
Автор книги: Василий Молодяков
Жанр: История, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 24 страниц)
II
Разногласия и расхождения в «Action française» не допускались только в политике – и до поры до времени их не было. У Морраса и Доде их не было никогда. «Наше согласие было полным, потому что касалось сути вещей», – суммировал Моррас (XVM, 114).
В начале 1910-х годов коньком Леона Доде как мастера журналистских расследований стала борьба с немецким «проникновением» и «шпионажем». «Почему вы каждое утро кричите: волк?» – спрашивали его «благоразумные люди», вспоминая мальчика из сказки. «Потому что волк уже здесь», – отвечал «толстый Леон», добавив, что «меньше всего рад играть роль Кассандры» (LDS, 280).


Леон Доде. Предвоенное. 1913. Обложка и авантитул с инскриптом: «Анри Барресу на память от собрата Леон Доде»
После марокканского (агадирского) кризиса 1911 г., когда угроза войны между Францией и Германией многим казалась реальной, Доде пустил в обиход быстро прижившееся слово «avantguerre», «предвоенное»: подразумевалось, что отношения двух стран уже не являются миром. Статьи под таким заголовком он регулярно помещал в L'AF. В марте 1913 г. они вышли отдельной книгой с посвящением Моррасу. Директор издательства «Nouvelle librairie nationale» Жорж Валуа пустил по Парижу автомобили с рекламными щитами – тогда это было в новинку. Снабженная устрашающим подзаголовком «Этюды и документы о еврейско-германском шпионаже во Франции после дела Дрейфуса», книга имела успех, несмотря на молчание большой прессы. Несколько исков о клевете оказались хорошей рекламой. Противники острили, что Доде «болен шпионитом» (LDS, 324) – слово тоже прижилось.
Возможно, многие были разочарованы, прочитав «Предвоенное», потому что о разведке там нет ни слова. Предмет разоблачений автора – активная натурализация немцев, евреев и прочих «метеков» и их проникновение во французский бизнес, особенно в приграничных районах. В каждом немце Доде видел потенциального шпиона, в каждом «метеке» – потенциального предателя. Словом, аналог кампании против «немецкого засилья» в России. Кстати, у Доде была книжка «От Канта к Круппу», а Моррас давно критиковал влияние кантианства во Франции как экспансию германизма.
Главными политическими противниками «Action française» в предвоенные годы были социалист Жан Жорес, республиканец-социалист Аристид Бриан и радикал Жозеф Кайо, притом что эти трое открыто враждовали между собой.
Помимо общего для всех наследования идеям Французской революции в вину Жоресу ставились солидарность с германскими социал-демократами и приверженность немецкой философии от Канта до Маркса. Бриан и Кайо считались сторонниками слишком мягкого курса в отношении Берлина. Первого Доде называл «пофигистом» (je m'en fichiste), речи которого усыпляют бдительность французов, второго – немецким агентом, употребив по его адресу, кажется, все допустимые в печати бранные слова (LDH, 107, 28–32); биограф Бриана Жорж Сюарес отличался от «толстого Леона» лишь пристойностью выражений по адресу Кайо. Последний не остался в долгу, обвинив в нашумевшей книге «Мои тюрьмы» Доде в клевете, Морраса в «цинизме, превосходящем все мыслимые пределы», а их движение – в подготовке государственного переворота и провоцировании гражданской войны[126]126
Joseph Caillaux. Devant l'histoire. Mes prisons. Paris, 1921. P. 45–63.
[Закрыть].
Златоуст Палаты депутатов Жорес не имел шансов прийти к власти: до начала Первой мировой войны Второй интернационал запрещал социалистам участие в «буржуазных» правительствах, а выиграть выборы в одиночку они не могли. Ради хождения во власть Бриан, как ранее Мильеран, покинул ряды социалистов и стал «любимым представителем французской буржуазии на крутых поворотах» (КПП, 61–62), но этот виртуоз лавирования зависел от политических тяжеловесов. Финансист и мастер популистской риторики, «один из умнейших и образованнейших представителей буржуазии не только во Франции, но и в Европе» (КПП, 109), Кайо был сильным самостоятельным игроком и потому считался наиболее опасным.
Почти все видные политики Третьей республики до получения депутатского мандата – человек без мандата не мог считаться политиком – были адвокатами или журналистами, то есть мастерами «коснуться до всего слегка» (toucher à tout). Заметным исключением являлись писатель Баррес и математик Пенлеве. Некоторые специализировались на конкретных вопросах вроде страхования или пенсионного законодательства, но «специалисты» во Франции были не в чести и редко получали министерские портфели. В чести были красноречие, умение заводить связи, контролировать прессу и добывать деньги в партийные и личные фонды. Одни были эрудитами и библиофилами вроде Луи Барту, писавшего о Вагнере, или Эдуара Эррио, писавшего о Бетховене. Другие вовсе не читали книг, как Бриан или Пьер Лаваль, и как будто гордились этим.
Знаток финансов, банковского дела и налогообложения Кайо заметно выделялся на таком фоне. В сочетании с наследственным богатством, энергией и честолюбием это помогло ему стать одним из лидеров радикал-соцалистов – крупнейшей партии тогдашней Франции. Его идеи вроде прогрессивного подоходного налога и сотрудничества с Германией вместо мечтаний о реванше нравились не всем, но Кайо приносил удачу партии и вырывал ее из рук противников справа.
Его можно назвать потомственным министром финансов, хотя в отличие от отца он занимал эту должность целых семь раз (1899–1902, 1906–1909, 1911, 1913–1914, 1925, 1926, 1935) в общей сложности более семи лет. Вершиной карьеры Кайо можно считать пребывание во главе кабинета министров с конца июня 1911 г. по середину января 1912 г. Помимо этого в его бурной жизни были обвинение в государственной измене – брошенное Доде и Моррасом, – тюремное заключение, ссылка и возвращение в большую политику в качестве сенатора и министра.

Жозеф Кайо. 1910-е (Joseph Caillaux. Mes Mémoires. T. 2. 1943)
Умея считать деньги в государственном масштабе, Кайо выступал за прогрессивный подоходный налог, чем нажил много врагов, развитие колониальной экспансии в Африке и нормализацию отношений с Германией. Доде называл эту политику «абсурдной», поскольку «бош ненасытен» (LDS, 319). Кайо был уверен, что торговать выгоднее, чем воевать, и что при желании можно договориться в любой ситуации. Сам он доказал это во время марокканского кризиса 1911 г., заключив соглашение с Берлином. Франция уступила Германии территории в бассейне реки Конго в обмен на отказ от претензий на Марокко, окончательно ставшее французской вотчиной. «Я горжусь, что вписал свое имя в историю нашей страны, – говорил Кайо. – Я принес ей целый мир: Марокко»[127]127
Joseph Caillaux. Mes mémoirs. Vol. III. Paris, 1947. P. 277; Фей С. Происхождение мировой войны. Т. I. С. 200–211.
[Закрыть].
Недовольные нашлись везде. «Action française», которое, по словам Ребате, «со дня своего основания называло изменой любую попытку отношений с Германией иначе как с помощью пушек» (RMF, 62), в ходе переговоров не критиковало правительство, чтобы не ослаблять его позиции перед лицом других держав, но позже, действительно, приравняло договор к государственной измене. Однако полвека спустя финансист и политик Жорж Бонне напомнил, что в Германии (!) многие сочли соглашение «серьезным поражением» своей страны (BQO, 17).
Противники обвиняли Кайо в коррупции, а затем набросились на частную жизнь. Первый брак политика оказался неудачным, и у него появилась связь на стороне, переросшая в настоящую любовь. Последовали развод и повторный брак. «Первая мадам Кайо» выкрала нежные письма мужа к будущей «второй мадам Кайо» и начала шантажировать его публикацией и неизбежным скандалом. Не собираясь прощаться с карьерой, Кайо договорился с бывшей женой, которая за немалую сумму сожгла письма в его присутствии. Однако предприимчивая мадам предварительно сфотографировала их и сохранила копии. Пикантность ситуации заключалась в том, что и «первая мадам Кайо» сошлась с будущим мужем, еще состоя в другом браке.
Компромат пригодился врагам Кайо, когда он в очередной раз стал министром финансов и возглавил партию радикал-социалистов[128]128
Подробнее: Paulette Houdyer. L'affaire Caillaux. …ainsi finit la Belle Epoque. Les Sables d'Olonne, 1977. Версия противников Кайо: Georges Suarez. Briand. Sa vie. – Son œuvre. T. II. Ch. 11–12.
[Закрыть]. Редактор «Le Figaro» Гастон Кальметт, человек с не лучшей репутацией, изо дня в день печатал статьи о том, что Кайо – «вор», но тенденциозность изложения и недостаток доказательств не сломали карьеру министра. Закаленному бойцу было не привыкать, но у «второй мадам Кайо» сдали нервы. 13 марта 1914 г. Кальметт сделал то, что для серьезной прессы считалось недопустимым, – опубликовал частное письмо политика к «первой мадам», еще бывшей его возлюбленной. По городу поползли слухи, что следом будут напечатаны нежные письма ко «второй мадам». Кайо обещал – дословно – «набить морду» редактору, считая того недостойным дуэли. Жена решила действовать сама и 16 марта застрелила Кальметта в редакции. Ее арестовали по обвинению в преднамеренном убийстве. Муж подал в отставку, собираясь защищать честь семьи и свое политическое будущее – предстояли выборы. Враги торжествовали: до окончания суда один из главных противников войны и реванша выведен из игры.
Оставался Жорес. Доде назвал «самого беспокойного радикала» Кайо «послом интернационала богатых при интернационале бедных», а «самого болтливого социалиста» Жореса – «послом интернационала бедных при интернационале богатых» (LDH, 34). Угроза новой войны сблизила их позиции. «Жорес и Кайо – два самых ненавистных человека во Франции в глазах правых партий. И трудно сказать, кого больше ненавидят некоторые правые элементы – Жореса или Кайо?» (ПФИ, 50). Крупная буржуазия больше ненавидела Кайо – выходца из своей среды. Он с гордостью принимал это, вспоминая Мирабо, аристократа-революционера.
Националисты устроили пышные похороны Кальметту, которого публично оплакивал их заклятый враг Бриан. Доде посвятил убитому умильные страницы в мемуарах, но забыл упомянуть, что Кальметт был уличен в получении денег от венгерского правительства и… немецких банков. Последний поступок редактора вызывал отвращение, поэтому многие сочувствовали подсудимой. Вечером 28 июля 1914 г. присяжные оправдали «вторую мадам Кайо». Новость совпала с сообщением о том, что Сербия отвергла ультиматум Вены и Австро-Венгрия объявила ей войну. Манифестации сторонников и противников оправдания переросли в столкновения противников и сторонников войны, которые закончились массовым побоищем и вмешательством полиции. Позже Моррас утверждал, что он и Пюжо отдали соратникам приказ воздержаться от насилия в ситуации, чреватой угрозой войны[129]129
Charles Maurras. La lettre à Schrameck. Paris, 1929. P. 51.
[Закрыть]. Перед Кайо открылся путь к посту премьера, который он мог занять, получив голоса социалистов в Палате депутатов. Он предложил Жоресу создать «большой левый кабинет» и войти в него в качестве министра иностранных дел, но тот отказался «по принципиальным соображениям».
Вечером 31 июля Жорес был застрелен в кафе: вопреки расхожим утверждениям, «Action française» не имело отношения к убийству. Продолжая осуждать его идеи, Моррас признал, что «пасть за свои убеждения – несравненная честь» (MCV, I, 8). Приходится признать, что смерть спасла репутацию Жореса, пацифиста и интернационалиста, если не германофила, от полного краха. Даже его верный последователь, молодой социалист Марсель Деа ощутил в тот момент «ужасное политическое и духовное поражение. Это было или казалось концом социализма» (DMP, 37).
Потому что «завтра была война».
III
Объявление войны Франции 3 августа стало одной из многих фатальных ошибок Берлина. Лучшего подарка германофобы не могли пожелать – теперь ничто не мешало им выражать ненависть к исконному врагу рода человеческого. «Германия могла пройти, медленнее или быстрее, те стадии интеллектуального и морального прогресса, которые ей предстояли, – писал Моррас. – Ее давние претензии на звание цивилизованной страны могли быть в итоге удовлетворены. В это немного верилось, но вот новый провал перед судейской коллегией современной истории. Очевидно, что германская раса – взятая в целом – неспособна к развитию» (MCV, I, 24).
«Существование Германии несовместимо с человеческой цивилизацией и спокойствием мира» (JBA, I, 103), – вторил ему Бенвиль, главный специалист L'AF по немецким делам. Это был символ веры. «Германия в Европе, – писал он и через двадцать лет, – остается чужеродным телом, вроде опухоли, порожденной внутренней болезнью и поражающей всё вокруг себя» (JBJ, III, 237).
Многие представители противоположного лагеря вроде философа Эмиля Бутру сменили вехи. «Германская культура, – писал в октябре 1914 г. этот идейный столп республики и последователь немецкой философии, – глубоко отличается от того, что остальное человечество понимает под культурой и цивилизацией» (ДВФ, 13). «Мы глубоко опечалены закатом идеалов наших старых учителей. <…> Он (Бутру. – В. М.) [ранее] не устанавливал никакого противоречия между “германизмом” и “гуманностью”» (ДВФ, 13), – откликнулся ученый-германист Шарль Андлер, протестант по вероисповеданию и социалист по убеждениям, попавший в 1908 г. под огонь L'AF и «людей короля» за «антифранцузскую» поездку со студентами в Германию.
Моррас подробно откликнулся на высказывания Бутру, но счел его слова робкими, а аргументы недостаточными (MCV, I, 322–333; II, 36–41). Он повторил излюбленную мысль о том, что «происхождение воинственного германизма надо возводить не к Бисмарку, а к Фихте» и дальше: «Критика пангерманизма должна дойти до Канта, первого покровителя морального индивидуализма, а Кант непонятен без Лютера, величайшего раскольника европейской цивилизации и покровителя религиозного индивидуализма» (DAE, 243, 263).
«Вчера требовалось привлечь внимание к тому, что грозило ослабить нас перед лицом врага. Сегодня враг здесь. Будем думать лишь о том, как его победить», – провозгласил Моррас (MCV, I, 17). «Долг и право всех французов – занять свое место под знаменами!» – призвал герцог Орлеанский (MCV, I, 38). Сам он, томясь бездействием в изгнании, просился во французскую, бельгийскую, английскую и русскую армии, но везде был отвергнут по политическим соображениям.
Сославшись на приказ верховного вождя – герцога Орлеанского, «Action française» заявило, что перед лицом врага все внутрифранцузские разногласия должны быть забыты ради «священного союза (единения)»[130]130
Анализ термина и его использования: Catherine Slater. Defeatists and Their Enemies. Political Invective in France 1914–1918. Oxford, 1981. Р. 12–18.
[Закрыть], провозглашенного 4 августа президентом Раймоном Пуанкаре в обращении к стране. «Французы просто встали все в цепь для тушения пожара, а в таких случаях никто не интересуется оттенками взглядов пожарных», – образно выразился Деа, признав Францию «национально единой, хотя и метафизически разобщенной» (DMP, 50–51). Точнее было бы сказать, идеологически разобщенной.
Монархисты объявили свои цели: «1. Поддерживать правительство, в руках которого знамя и меч Франции. 2. Усилить борьбу против шпионов. 3. Наблюдать за подстрекателями и подавлять анархию, будь то слева или справа. 4. Извлечь из войны уроки, чтобы укрепить и реформировать французское государство» (MCV, IV, 258). Движение дало «карт-бланш правительству, с которым не имеет ничего общего ни в людях, ни в идеях, и не спрашивает взамен ничего, кроме победы со всеми ее плодами» (MCV, II, 35), а в любой критике командования, церкви и, с оговорками, кабинета видело «немецкую руку».


Шарль Моррас. Условия победы. Кн. 2. 1917. Обложка и авантитул с инскриптом: «Эдуару Шампьону с сердечным приветом от старого “друга Эдуара” Ш. М.»
«Разногласия между французами – последняя надежда Вильгельма II, а парламент, естественно, возбуждает эти разногласия» (MCV, IV, 130), – напомнил Моррас, отрицательно относившийся к этому институту, а к его тогдашнему составу в особенности. Уверенный, что вовсе без парламента – как в осенние месяцы 1914 г. – победа была бы одержана быстрее, он писал: «Эта абсолютная диктатура, это возвращение к старому порядку стало важнейшим и решающим фактором победы» (МЕМ, xlvii). И добавил, экстраполируя: «Первое, что необходимо сделать в случае национального кризиса, – закрыть Сенат и Палату депутатов» (LDM, 96–97).
Пюжо, Плато, Реаль дель Сарте и многие другие отправились на фронт добровольцами. Не подлежавшие призыву по возрасту или здоровью Моррас, Доде, Бенвиль, Вожуа и Димье бросили все силы на газету. L'AF продолжала выходить в Париже даже тогда, когда угроза падения столицы казалась настолько реальной, что из нее выехали правительственные учреждения во главе с министрами, парламент и редакции газет. Бенвиль приуныл, считая возможным «новый Седан», но Моррас и Доде быстро вернули его в строй. Команда чуть не осталась без «толстого Леона», который в ночь с 1 на 2 августа тяжело пострадал в автомобильной аварии. Прикованный на шесть недель к постели, он возобновил работу, как только смог снова держать перо.
Движение временно отказалось от призывов к восстановлению монархии и от антиправительственных выступлений. «Ликвидировать республику, не вредя Родине, – вот что всегда было нашим желанием» (LDP, 40), – повторял Доде в ответ на утверждения противников, что монархисты могут добиться успеха лишь в условиях национальной катастрофы, как республиканцы в 1870 г. Социалист Деа, правда, признавал, что такой шанс могла дать не только «грязь поражения», но и «кровь победы». (DMP, 26, 30). «У вас была возможность совершить переворот, и вы ею не воспользовались!» – удивленно сказал Клемансо одному из монархистов уже после войны (LDP, 40).
Несмотря на это, власти не упускали «Action française» из виду. «Организация малочисленна и не может претендовать на какой-либо успех на выборах, – докладывала политическая полиция в МВД в сентябре 1915 г., призывая не ослаблять надзор, – но среди ее руководителей есть несколько людей действия, способных сформировать правительство Республики по заключении мира, если возникнут продолжительные или хотя бы внезапные трудности»[131]131
Цит. по магистерской диссертации: Kevin Audet-Vallée. ‘Faites un roi, sinon faites la guerre'. L'Action française durant la Grande Guerre (1914–1918). Université de Montréal, 2012. Р. 28.
[Закрыть]. Даже в окопах военная полиция следила за монархистами – менее внимательно, чем за социалистами.
Моррас и Доде утверждали, что проведение жесткой внешней политики и интенсивное перевооружение могли предотвратить нападение Германии, но республиканские правительства, шедшие на поводу то у Берлина, то у Лондона и экономившие на обороне и безопасности, показали только неэффективность и бессилие. «Выборы 1914 г., проходившие под крики о “безумии вооружений” и наводнившие парламент социалистами и радикалами, ввели Германию, прежде всего самого Вильгельма, в заблуждение относительно способности Франции сопротивляться и возможности новой Коммуны» (РВМ, 404). «Социалистические кандидаты внушали народу, как много учебников для маленьких французов можно купить вместо пушек, – напомнил Моррас. – Через три месяца из-за нехватки пушек и боеприпасов французам пришлось подставлять грудь вражеским пушкам, и за ошибку было заплачено сотнями тысяч невинных жизней»[132]132
Charles Maurras. Décernez-moi le Prix Nobel de la paix. Paris, 1929. P. 96.
[Закрыть]. «Если бы у нас было достаточно боеприпасов, – утверждал Доде, – немецкие армии беспорядочно отступили бы за Рейн между 20 и 25 сентября 1914 г.» (LDP, 15). Это не было мудростью задним числом, но ответственность за любую войну ложится и на алармистов.
У медали был не только аверс, но и реверс. С началом войны стороны наперебой обвиняли друг друга в агрессивных намерениях. Пресса Антанты не уставала цитировать воинственные заявления отставного прусского генерала Фридриха фон Бернгарди и ссылаться на деятельность шумного, но не слишком влиятельного Пангерманского союза. Подшивка L'AF за предвоенные годы могла дать не меньше доказательств агрессивности Франции, но пропаганда Центральных держав не отличалась эффективностью.
Изо дня в день Моррас, Доде и Бенвиль напоминали, что, вопреки утверждениям социалистов и части либералов, война идет не с кайзером[133]133
«Вильгельм II был последним защитником мира перед своим зверским народом», – заявил Моррас в 1924 г. (МЕМ, cxxx).
[Закрыть] или прусским милитаризмом, но с немцами как «наследственным врагом» и потому в ней нет места компромиссам. «Военная партия – это почти весь немецкий народ», – твердил Доде (MCV, I, 251). Самое знаменитое поэтическое произведение Морраса «Битва на Марне. Историческая ода» не только воспевало героизм французов, но на все лады проклинало немцев. «Если бы мне выпало защищать его перед лионским трибуналом (в 1945 г. – В. М.), – заметил Ксавье Валла, до войны представлявший Морраса в суде, – думаю, было бы достаточно зачитать присяжным несколько строф оттуда, чтобы они могли вынести вердикт относительно сотрудничества с врагом» (XVM, 89).
Со страниц L'AF раздавались призывы не только к разгрому, но к последующему расчленению «Бошии» на десяток-другой государств. Это стало краеугольным камнем позиции движения в германском вопросе. Более того, оно хотело видеть «новые Германии» парламентскими республиками – для максимального ослабления противника! – и не соглашалось на существование «антиимпериалистической, пацифистской, антимонархической», но единой Германской республики (MCV, IV, 237). «Мы всей душой не только с германскими республиканцами, но и с германскими большевиками в Германии, потому что желаем Германии чумы, а Франции – здоровья, – заявил Доде 18 октября 1921 г. в Палате депутатов, перекрывая мощным голосом возмущенные выкрики слева. – Наша газета была в числе немногих осудивших убийство Карла Либкнехта, потому что, по нашему мнению, это несчастье для Франции» (LDD, 250–251).
«На первый взгляд антимонархизм этих монархистов и антинационализм этих националистов кажется парадоксальным, – писал Ю. Вебер, – но “Action française” руководствовалось эмпирикой, а не логикой. Его вдохновляли не общие принципы, но частные соображения – что будет полезно Франции. <…> Монархия хороша для Франции как объединяющая сила, и именно поэтому она, с точки зрения французских интересов, нежелательна для Германии» (WAF, 119). Не зря Бисмарк поддерживал французских республиканцев против монархистов.
С началом войны многие французы восхищались германской «организацией», упрекая соотечественников в неспособности к ней. Часто возвращавшийся к этой теме, Моррас утверждал, что немцы лишь копируют лучшие черты французской монархии и что все дело в государственном строе – в отсутствии во Франции несменяемой высшей власти, не зависящей от капризов электората и руководствующейся только национальными интересами. Он не доверял потенциальной диктатуре республиканских политиков, считая всех их неспособными обеспечить ни внутреннее единство, ни победу над врагом.
Движение развернуло кампанию в поддержку и защиту католической церкви – «единственного уцелевшего интернационала» (MCV, II, 111), несмотря на предвоенный конфликт с влиятельными католиками-либералами во Франции и в Ватикане, едва не закончившийся публичным осуждением «Action française» и его вождя. Монархисты предлагали официально посылать священников в армию в качестве капелланов, не заставлять мобилизованных семинаристов – будущих кюре – носить оружие, но использовать их в качестве санитаров, прекратить подрывающие национальное единство нападки на церковь и ее слуг, наконец, восстановить дипломатические отношения с Ватиканом, чтобы обеспечить если не влияние, то хотя бы политический контакт с папским престолом, каким располагал противник, включая даже Османскую империю. В отличие от многих французов, требовавших от Ватикана принять сторону Антанты – против не только Германии, но и католической Австро-Венгрии, – Моррас не критиковал нейтральную позицию и призывы к миру папы Бенедикта XV, избранного 3 сентября 1914 г., после смерти Пия Х. Сборник статей «Папа, война и мир» (1917) говорит о прокатолической общественной и политической позиции Морраса, не касаясь личной веры автора.
L'AF выступала за жесткую репрессивную политику, включая превентивные меры, против шпионов, саботажников, паникеров и пацифистов, утверждая, что она спасет гораздо больше людей, чем затронет. Доде предался любимому занятию – изобличению «обошившихся» (embochés) и «бошефилов» (bochofiles), так объяснив 9 апреля 1915 г. различие между ними:
«Я называю обошившимся человека, который до войны вел дела с бошами и связан с ними в меру своих делишек. Я называю бошефилом человека, который в силу дурного душевного обыкновения, университетского или социалистического, до войны пребывал в состоянии восхищения Германией и не способен избавиться от этого. Можно быть одновременно обошившимся и бошефилом, но для простоты можно сказать, что обошившимся движет корысть, а бошефилом – идеология»[134]134
Цит. по: Slater C. Defeatists and Their Enemies. Р. 26. В этой книге все цитаты из французских источников приведены на языке оригинала.
[Закрыть].
«Толстый Леон» призвал лишить французского подданства всех недавно натурализовавшихся выходцев из Германии и Австро-Венгрии как потенциальных предателей[135]135
См. также: Alfred Kupferman. Le rôle de Léon Daudet et de l'Action française dans la contre-offensive morale, 1915–1918 // Études maurrassiennes. 2. Aix-en-Provence, 1973.
[Закрыть]. «Арестовывать их, когда они предали, мало. Надо лишить их возможности предавать» (MCV, II, 106–107). В первые же дни войны Моррас призвал патриотов четко выполнять указания властей и не осложнять их работу чрезмерной «бдительностью» (MCV, I, 17–18), но спрос на «Предвоенное» резко превысил предвоенный: в общей сложности было продано более 100 тысяч экземпляров.
В адрес Доде хлынул поток информации о «шпионах» и «предателях», в которой правда мешалась с фантазиями и клеветой. «Изданием “Предвоенного”, – вспоминал автор, – я привлек внимание мира полиции, разделенного, как я позже понял, на два противоположных течения, подобно миру политики, – патриотическое и прогерманское, но с преобладанием первого, количественным и качественным» (LDН, 94). Руководство МВД чинило всякие препятствия «Action française», но полицейские, рискуя карьерой, тайно информировали Доде, как и друзья в военных кругах. При этом он избегал двойных агентов, даже предлагавших интересные сведения: «Неудобства казались мне важнее преимуществ, и я взял за правило никогда более не принимать их и не отвечать на их письма. Это сужало поле зрения, но избавляло от опасных ловушек» (LDD, 71).
Социалист Марсель Семба прозвал Доде «королевским прокурором» (LDS, 320). Уважавший Семба, который казался ему «Овидием среди скифов» левого лагеря (LDP, 66), «толстый Леон» принял прозвище, повторяя, что «стал бы хорошим министром внутренних дел, если бы выпал случай» (LDН, 132). Моррас предложил его на этот пост в конце октября 1915 г. при очередной смене кабинета (MCV, III, 159). Как говорится, шутка, в которой есть доля шутки.
Случай не выпал, но с января 1915 г. (стабилизация фронта) по конец ноября 1917 г. (создание кабинета Клемансо) на основании представленных им данных власти арестовали 43 шпиона. Доде утверждал, что таковых было бы намного больше, если бы с марта 1914 г. по август 1917 г. – в кабинетах «пофигистов» Рене Вивиани и Бриана и ветерана-республиканца Александра Рибо – пост министра внутренних дел бессменно не занимал Луи-Жан Мальви, «представитель Кайо в правительстве» (LDН, 198). Однако первой мишенью новой кампании «Action française» стали не они, а председатель военной комиссии Сената Жорж Клемансо – тот самый будущий «отец победы».
Кампанию начал Моррас, считавший сенатора заклятым врагом еще с «дела Дрейфуса». Возглавив в 1906 г. кабинет, Клемансо сделал дрейфусара Пикара военным министром, чем вызвал негодование противников и смущение сторонников, а Кайо – министром финансов. Три года пребывания «Тигра» у власти Моррас считал особенно губительными для безопасности Франции с точки зрения как финансовой, так и военной политики: Кайо урезал ассигнования на оборону, Пикар безропотно соглашался. К началу войны Пикар умер и был забыт, а Клемансо вернулся к амплуа вечного оппозиционера.
«В условиях войны несогласие и измена плохо отличимы друг от друга», – заметил биограф Кайо[136]136
Alfred Fabre-Luce. Caillaux. Paris, 1933. P. 125.
[Закрыть]. «Вред, как и польза, который может принести пресса во время войны, практически безграничен», – добавил Доде (LDН, 117). L'AF призвала печать к строгой цензуре и самоцензуре, причем не только в новостях. Моррас осудил Клемансо за использование в своей газете «Homme libre» выражений вроде «беспорядочное бегство» применительно к французской армии: «По какому праву Клемансо произносит такие слова? По какому праву он позволяет их произносить?» (MCV, I, 57–59). «Вражеская пресса радостно перепечатывала его ядовитые филиппики», – напомнил Кайо, ставший злейшим врагом премьера, под началом которого некогда служил[137]137
Caillaux J. Mes mémoirs. Vol. III. P. 185.
[Закрыть].
L'AF обвинила Клемансо в подрыве морального духа и выбалтывании военных тайн под видом гласности. «Профессия журналиста и свобода, с которой ему позволено, несмотря на осадное положение, бесконтрольно разглашать всё, что ему известно как государственному человеку (сенатору. – В. М.), делают Клемансо бесспорно опасным для общества», – заявил Моррас (MCV, I, 89–93). Так много и так жестко он в первые два года войны персонально не писал ни о ком, за исключением анархиста Гюстава Эрве, объявившего себя патриотом и «защитником республики». В конце сентября 1914 г. власти на восемь дней запретили «Homme libre» («Свободный человек»). Клемансо возобновил газету под названием «Homme enchaîné», т. е. «Скованный человек». Моррас прозвал ее «Недостаточно скованный человек», затем «Совершенно раскованный человек», когда сенатор-редактор игнорировал предписания цензуры.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































