Текст книги "Безмятежные годы (сборник)"
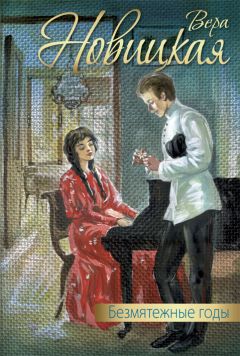
Автор книги: Вера Новицкая
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 28 страниц)
Глава XII
Бенефис Пыльневой. – Клетчатая тетрадка. – Косички
Целых четыре дня просидела дома благодаря своим глупым ушам. Вчера, наконец, снова вырвалась в гимназию и попала на бенефис Пыльневой, – иначе не могу назвать, так как в полном смысле слова это был ее день.
После урока Закона Божьего, на котором, кстати сказать, она схватила «восьмерку», обнаружив самые приблизительные знания: так, например, первый и второй Вселенские соборы, богослужение Василия Великого и Иоанна Златоуста – существенной разницы это для нее не составляло. Но следов уныния ни малейших. Так вот, после этого урока:
– Господа, господа! – вдруг, превеселенькая, несется она по классу. – Прошу внимания! Найден редкостнейший и назидательнейший документ, который считаю для себя приятным долгом обнародовать перед почтеннейшей публикой (следует глубокий поклон). Это умозаключения и мемуары преподобной Клеопатры-душеспасительницы.
В руках Иры серая клетчатая, хорошо знакомая нам записная книжечка Клеопатры Михайловны, которую та бережет как зеницу ока своего и в которую нет-нет да и занесет что-нибудь. Сегодня неизвестно каким образом книжечка забыта на ее столике.
– Итак, внемлите! – торжественно продолжает Пыльнева, влезая на кафедру. – «Лахтина вторая – свинство, Захарова – осел, Ермолаева – колбаса, Старобельская – у батюшки роман, Тишалова – басурманский поп, Снежина – собака, Бек – лужа…» – залпом, без передышки, барабанит она под раскатистый хохот всего класса.
Так вот, что содержит таинственная книжечка! Тут и проступки и выраженьица. Сюда попала и колбаса, которую на уроке жевала Ермолашка, и «свинство», любимое выражение младшей Лахтиной, и «лужа», чуть не на полкласса устроенная Юлией, разлившей целую бутылку холодного кофе, который задумала пить на географии. Сюда же попал и знаменитый «роман», читанный мной на уроке батюшки.
Плутоватое личико Пыльневой смеется, довольное произведенным впечатлением. Вдруг она вся подбирается, чуть-чуть кривится на один бок, что-то проделывает со своей физиономией и становится необыкновенно похожа на Клеопатру Михайловну.
– Совершенно не понимаю, чего вы смеетесь, – начинает она. – Все это очень грустно. В такие молодые годы и уже так низко упасть в общественном мнении… Лахтина вторая – свинство, вот ее краткая и вместе с тем – увы! – чересчур полная характеристика. Свинство!.. Этим словом исчерпано все ее нравственное «я». Ужасно!.. (Трагический тон, глаза подкачены к потолку). Захарова – осел!.. Я не знаю, что лучше?.. Пять с половиной лет провести в храме науки, и в результате… осел… Ужасно!.. Ермолаева – колбаса, – продолжает она негодующим тоном. – Это грациозное, хрупкое существо – колбаса!..
Гром хохота несется по классу. Чуть не искреннее всех заливается наша неуклюжая, добродушная, вечно жующая толстуха Ермолаева.
– Что же касается Старобельской, так язык мой прилипает к гортани…
Она делает вид, будто старается оторвать его, затем как бы с усилием продолжает:
– У батюшки роман… Я никогда не думала, что такое чудовищно-греховное чувство может охватить юную непорочную душу… О-о-о! Гнать, гнать скорее дьявола-соблазнителя, а то впереди… пекло!.. – словно задыхаясь, шипящим, угрожающим шепотом заканчивает она…
Мы от смеха лежим на скамейках.
– Тишалова – басурманский поп… – не унимается Ира. – Я поражена… Что за странное призвание?.. Стать идолопоклонницей, «жрицей», то есть пожирать свой кумир глазами, пресмыкаться, как тогда в первом «А» – распростертой у его подножия, у пьедестала Светлого (читать Светлова), бога литературы?!. Презренная богоотступница!..
Мы уже визжим от восторга.
– Бек – лужа. Лужа… И это нравственный облик девицы в шестнадцать лет, – лужа!.. Бегите от луж, бегите от слякоти, пусть они не попадаются на вашем пути. Еще Людовик XIV сказал: «Apms nous le déluge»![108]108
После нас – потоп! (франц.)
[Закрыть] После нас лужи, так как, что, в сущности, есть потоп, как не большая-пребольшая лужа?.. Продолжаю: Снежина – собака…
– Клеопатра Михайловна идет! – несется предостерегающий шепот.
А она уже на пороге. В одно мгновение записная книжка исчезает под нагрудником. Смех в классе не успокаивается.
– О чем это вы, Пыльнева, таком смешном с кафедры ораторствуете, что они все хохочут? Идите, пожалуйста, на место, уже звонок был.
Пыльнева покорно сходит со ступеньки и за спиной сует мне записную книжечку:
– Передай, чтоб бросили под Клепкин столик!
Сама же после этого уже с места объясняет:
– Я не понимаю, право, чего они все смеются; вот и я их все время удерживаю. Хохочут, сами не знают отчего, а мне вовсе не до смеха, – уже жалобным, слезливым тоном говорит она. – По Закону Божьему, по моему любимому предмету, вдруг «восемь»! (При этих словах смех усиливается.) Вот видите, они опять смеются. Никакого сочувствия!
– Пыльнева, – спохватывается Клепка, – как это вам, право, не стыдно: по Закону – «восемь»! Это же такой стыд!
– Когда мне ужасно трудно дается история церкви, там столько действующих лиц…
– Пыльнева, что за манера выражаться…
– Правда, Клеопатра Михайловна! Там столько имен, и потом я вечно путаю, кто Basil le Grand, а кто Jean Bouche-Dome!
– Что такое?
– Ах, pardon, я хотела сказать: кто – Василий Великий, а кто – Иоанн Златоуст.
– Как же можно так ошибаться, что за шутка со Святыми Отцами!
– Да, les saints pères![109]109
Святые отцы (франц.).
[Закрыть] – благоговейно опять переводит Пыльнева. – Только я, право, не нарочно, Клеопатра Михайловна, у меня теперь француженка, и мне дома совершенно запрещают говорить по-русски, так я все по-французски даже думаю: скажу по-русски и мысленно сейчас же переведу. Моя гувернантка так рада, говорит, что я во сне даже брежу по-французски…
Дальнейшие разговоры прерываются приходом преподавателя.
Перед историей опять развлечение.
– Mesdames, – возглашает Клеопатра Михайловна, – во-первых, пожалуйста, уничтожьте эти ваши совершенно неподходящие прически: девочки в вашем возрасте должны причесываться простенько, скромно, чтобы ничего на голове не торчало, а было гладенько и аккуратно. Сегодня уже и Зинаида Николаевна обратила на это внимание. А во-вторых, дайте сюда все ваши книги по истории.
– Как книги? Зачем книги? – раздаются голоса.
– Затем, что вы сейчас будете писать у Евгения Федоровича работу по истории.
– Работу? Ай-ай-ай!
– На четвертные отметки?
Большинство книг, разложенных на партах, быстро скрываются в столах.
– Ну, так скорей книги давайте.
Из сорока штук восемь добровольно вручаются Клеопатре Михайловне.
– Ну, скорей остальные.
После продолжительных взываний ей вручают еще две. Тогда Клеопатра решает применить энергичные меры и, прижав к сердцу уже добытые экземпляры, сама идет по скамейкам собирать дань. При виде этого, Шурка Тишалова благоразумно садится на учебник истории. Грачева засовывает свой учебник за широкий нагрудник передника. Пыльнева лишена возможности последовать как одному, так и другому благому примеру, потому что обход начат с их парты. Клепка заглядывает в столы, и кипа книг в ее объятиях все разрастается. Ира, как верный оруженосец, неотступно идет за ней по пятам. Вот две верхние книги почему-то соскользнули и собираются упасть. Клеопатра делает движение удержать их, отчего шатается вся кипа и добрая ее половина шлепается на пол.
– Позвольте, я помогу вам, – вся заботливость, вся внимание, подворачивается, как бы невзначай, Пыльнева. – Не беспокойтесь, я сейчас.
Она садится на корточки, широко раскинув полы своей юбки в складку, под которой ловко исчезают два учебника, сама же она, распростертая на земле, добросовестно подбирает рассыпанные и, для выигрыша времени, поодиночке вручает их классной даме, в то же время левая нога, вытянутая во всю длину, выпихивает из-под платья книги.
– Скорей! – шепчет она Ермолаевой и Бек, которые мигом подхватывают и укрывают сокровище. – Вот и все, – вручая последний экземпляр, поднимается затем Пыльнева, невинно отряхивая руки после езды по полу.
Евгений Барбаросса уже налицо, и мы начинаем строчить о зарождении гуманизма. Мы, то есть Люба, я и другие, конечно, пишем на совесть, но учебники недаром приобретались всеми правдами и неправдами.
– Все почти смахала! – заявляет сияющая Пыльнева после урока.
Тишалова и Бек тоже позаимствовали. Грачевой, кажется, туго приходилось, она и в книгу то и дело заглядывала, и лоб терла, и даже вся пятнами пошла – видно, какая-то неувязка вышла.
На физике Пыльнева завершила свой бенефисный день.
Николай Константинович спрашивает. Вокруг парты Пыльневой сильное оживление; это дело привычное и не удивило бы меня, – странно то, что сама она сидит слишком тихо, опустив голову на руки, так что лица не видно. Уж не дурно ли ей? Впрочем, нет, тогда бы не смеялись остальные. Мое недоумение скоро рассеивается.
– Госпожа Пыльнева, пожалуйте к доске и начертите урок.
Ира своей обычной, мягкой, скромной походкой приближается к кафедре, берет мел и начинает добросовестно разрисовывать довольно сложный прибор. Николай Константинович просматривает журнал. Я поднимаю на нее глаза и вижу нечто совершенно особенное, комичное и нелепое. Ее непокорные завитки, всегда немного торчащие у висков, исчезли, на лбу, по обе стороны пробора, висит по четыре крошечных косюльки, туго заплетенных и перевязанных разноцветными шерстинками: желтые, зеленые, синие и красные хвостики бантиков на концах их образуют уморительную радужную бахромку на беленьком лбу; выражение лица спокойно, большие серые глаза смотрят скромнее и святее обыкновенного, рука аккуратно вычерчивает сложные подробности рисунка: Ира любит Николая Константиновича, а потому уроки ему готовит всегда добросовестно.
Косюльки замечены не мной одной, впечатление произведено на весь класс, и из угла в угол несется хихиканье. Не в курсе дела лишь Клеопатра, к которой Пыльнева стоит спиной. Клепка шикает, но Ира, как источник беспорядка, вне подозрения – она так усердно малюет!
– Готово! – раздается кроткий, мягкий голосок.
Николай Константинович поворачивается и поднимает глаза на чертеж. Мимоходом взгляд его останавливается на Пыльневой, он удивленно и добродушно улыбается.
– Что это вы как разукрасились, а? – спрашивает он.
Нам страшно смешно. Лицо Пыльневой принимает покорное выражение.
– Нам классная дама велела, я должна слушаться.
Тут уже начинается бесцеремонное фырканье. Клеопатра Михайловна чувствует себя обеспокоенной, краснеет и внимательно смотрит на Пыльневу, но спина той не представляет решительно ничего необыкновенного, вставать же и идти расследовать дело подробнее среди урока Клеопатра Михайловна себе никогда не позволит. Очевидно, она смущена и чувствует некоторую неловкость и недоумение: какое такое распоряжение дала она, которое вызвало смех у преподавателя и которого Ира не смеет ослушаться? Но когда, кончив отвечать урок, Пыльнева, повернувшись, направляется к своему месту под неумолкаемый смешок учениц, разрешение загадки становится ясным. Клепка вся так и вспыхивает, сидит помидор помидором.
– Пыльнева! – раздается после звонка грозный оклик.
Та подходит, по-прежнему со своими косюлями и трясущимися на лбу шерстинками.
– Это, наконец, из рук вон, что вы себе позволяете! Что это за маскарад? Здесь не балаган, а гимназия! Что это за глупые, неприличные выходки!
– Клеопатра Михайловна, они же очень торчат, – указывая на волосы, говорит Ира. – А вы сказали, чтоб гладенько было, я думала, так лучше. Верно, вам не нравится, что шерстинки пестрые? Так нечем больше было перевязать, в другой раз я…
Но Клепка, выведенная из терпения, прерывает ее:
– В другой раз я вас домой отправлю и скажу Андрею Карловичу о ваших поступках, а сегодня ставлю вам «десять» за поведение. Это Бог знает что! Это насмешка над моими распоряжениями. Я думала, вы скромная, воспитанная девушка, а вы… Идите, я больше разговаривать с вами не хочу. И убрать сейчас же это уродство!
– Я хотела, как лучше… – пытается объяснить Пыльнева, но Клеопатра машет рукой и сама быстро уходит.
«Десятка» сидит в Ирином дневнике.
Ну, однако, за уроки! На завтра их гибель, хоть по разочку прочитать, ведь не шутка – четверть кончается. Господи, как время несется! Уже декабрь. Через пять дней мое рождение, пятнадцать лет, а после рождения уже и роспуск. Двадцатое, то есть день моего рождения, – в воскресенье; значит, только понедельник учебный, а во вторник – по домам.
Ах, если бы Володька на Рождество приехал, а то я и праздникам не рада буду. Вот соскучилась по нему!
Глава XIII
Мое рождение. – Сюрприз. – Ошибка. – Гадание
Сто лет ничего не записывала, но положительно некогда было и минутки урвать, столько дела, или, вернее говоря, безделья, шума и суеты было. А весело!..
С чего же, собственно, началось? Да началось все ужасно мило, мило и глупо, я ведь без этого не могу, со мной вечно что-нибудь не по-человечески случится.
Так вот: наступил день моего рождения. Я, как всегда, с каким-то особенным чувством ожидала этого дня – он для меня имеет какую-то неотразимую прелесть чего-то таинственного, неожиданного и светлого. Точь-в-точь как раньше, когда я была еще совсем маленькой, так и теперь, накануне вечером мне хочется пораньше улечься спать, чтобы скорее настало радужное «завтра», его неясное, манящее, волнующее нечто.
Я охотно улеглась бы в восемь часов, но мне было стыдно своего ребячества перед домашними. Все же в девять часов я начинаю зевать, умышленно громко и далеко не мелодично; в половине десятого, наконец, я заявляю, что неудержимо хочу спать, и зарываюсь в свою теплую мягкую кровать. Мамочка чуть-чуть улыбается и ласково целует меня; она, кажется, догадывается, она ведь всегда все видит, чувствует и понимает, моя мамуся.
Сегодня мое рождение! И в этот день все кажется лучше, веселей, светлей; лица окружающих не просто привычно приветливы – все не по-будничному, а как-то особенно берегут, любят, балуют тебя.
Едва успела я в восторге с шеи мамочки перевеситься на шею папы, благодаря их за прелестный, мягкий, золотой, только что подаренный браслет, который мне страшно нравится, как из кухни появляется Настя, неся что-то большое, завернутое в легкую шелковую бумагу. Что это? Раскрываю: прехорошенькая корзиночка, а в ней точно белый лесок душистых ландышей, моих милых любимых ландышей. Я безумно люблю белые цветы, в них что-то особенно нежное, ласковое, ясное…
– От кого это, от кого? – допытываюсь я.
– Рассыльный сказывал, что не приказано говорить от ко-го-с, – заявляет Настя.
Это еще что за фокусы? Я страшно заинтересована. Кто может мне прислать цветы? Это со мной первый раз в жизни. Подарки, конфеты – этого я всегда много от всех получаю, но цветы… Все-таки приятно… Ведь первый раз. А ландыши пахнут нежно, милые головки их, будто снежинки, белеют на тоненьких светло-зеленых стебельках.
Мамочка подшучивает:
– Смотри, Муся, видно, у тебя тайный воздыхатель завелся.
Воздыхатель, конечно, не воздыхатель, но кто-то премилый, которого я готова расцеловать за этот чудесный сюрприз.
Вскоре после завтрака раздается звонок. Я, верная своей всегдашней дурной привычке, не могу удержаться от соблазна, чтобы хоть издали не сунуть носа к дверям прихожей. Сначала я только слегка открываю от удивления рот, затем расширяю его все больше и больше, пока наконец восторженное «ах!» не вылетает из него: в полумраке передней я различаю солдатскую шинель, не совсем солдатскую шапку, погоны, шашку и, наконец, передо мной в натуральную свою величину вырисовывается фигура юнкера. «Володя! Неужели?» – проносится в моем мозгу.
– Вот милый! Вот молодчина! – уже громко, восторженно восклицаю я.
Подпрыгивая на ходу, я лечу на всех парах в прихожую и радостно, обеими руками с разбегу обнимаю шею приезжего:
– Володечка! Милый, родной, как я рада!..
Но Володя как-то странно пятится от меня, и, подняв глаза, вместо смеющихся серых глаз Володи и его доброй круглой физиономии я вижу продолговатое, смуглое лицо с черными усиками и хотя смущенными, но искрящимися смехом карими глазами.
– Так! – в ту же секунду раздается голос за моей спиной. – Это я понимаю, встреча радушная, что и говорить. Ну, брат, жаловаться на сухость и чопорность приема моей кузины не можешь: в полном смысле слова с распростертыми объятиями приняла.
Я, красная, как кумач, поворачиваюсь на звук Володиного голоса – настоящий Володя стоит несколько поодаль, в глубине прихожей. Господи, как он вырос, вот громадина!
– А меня что ж? Так и не будешь целовать? Впрочем, правда, при твоем росте это не так просто, пожалуй, не допрыгнешь. Сегодня как-нибудь устроимся, становись на стул, а потом что-нибудь придумаем, лесенку, что ли, пристроим на случай родственных излияний, – с места в карьер начинает изводить меня мой милый неисправимый дразнила-мученик.
Но прежде, чем он успел договорить, я уже вишу на его шее, искренне довольная возможностью рассмотреть и расцеловать его, а вместе с тем и укрыть в надежном месте свое все еще пунцовое от смущения лицо.
– Однако все же полагается мне вас познакомить, хотя, в сущности, вы знакомы. Смотри-ка на него хорошенько, Мурка, разве не узнаешь? – в свою очередь крепко поцеловав меня, говорит Володя.
«Смотри хорошенько!» Как бы не так! Мне до того неловко, что смотреть не хочется. Набравшись храбрости, я все же поднимаю глаза.
– Конечно, узнаю! – уже радостно восклицаю я. – Ведь это же Коля Ливин… – я поперхнулась, смутилась и не докончила.
– Он, он самый, – подтверждает Володя, – Коля Ливинский. Но если тебе внушают такое глубокое почтение его усы и грядущая, хотя еще не пришедшая бородка, то разрешается называть его Николаем Александровичем.
Мы жмем друг другу руки и входим в гостиную.
– Стой, стой, стой! – восклицает Володя, удерживая меня за руку. – Прежде всего покажись, инспекторский смотр. Скажите, пожалуйста, а? Фу-ты, ну-ты – без двадцати минут барышня. Покажи-ка тараканы!? (Он заглядывает мне в глаза.) На месте. Циркуль? (Обводит пальцем мою физиономию.) Тоже. А ну, покажись-ка еще на минутку! – он озабоченно всматривается в мой нос: – Хм… Кончик как будто чуточку опустился… Одобряю, благоразумно, предусмотрительно, а то прежде… того, уж очень душа нараспашку была, все как есть насквозь через нос видно было, о чем ты думаешь. А немножко скрытности не мешает, не то, не дай Бог, влюбишься – и не утаишь никак, так все мысли наружу, как на ладони, и выложишь. Все-таки девице, знаешь ли, не того, неудобно…
– Пошел ты вон, – смеясь, отталкиваю я его.
– Да что ты сразу «вон»? Погоди, еще одну вещь освидетельствовать надо. Кнопка действует? – и прежде чем я успела опомниться, он под оглушительный «дз-з-зинь», им же самим издаваемый, надавил указательным пальцем на мой несчастный нос, как на пуговку электрического звонка.
– Все в исправности, аппарат действует, вон даже тетя с дядей спешат, заслышав трезвон!
И балагур уже горячо целует руки мамочки, обнимает папу.
Ахи, охи, удивление! Действительно, вырос Володя страшно, хотя физиономия его мало изменилась: то же открытое лицо, те же серые блестящие, плутоватые, но добродушные глаза; волосы острижены щеточкой, ногти отточены и выхолены (когда-то из-за них у него с мамочкой шла вечная ожесточенная война, так как он упорно «носил траур по китайской императрице», как называла она хронически мрачный оттенок его ногтей). Над верхней губой появились небольшие пушистые усики, цвет лица золотисто-румяный, будто немножко на солнце поджаренный, такой, как я ужасно люблю; словом, Володя мой – прелесть, я горжусь им, кавалер хоть куда.
Да, чуть не забыла еще одной важной перемены, происшедшей в его вкусах и взглядах: теперь Володя уже не относится презрительно к «девчонкам» и «бабью», как он прежде далеко не галантно называл всю прекрасную, притом юную, половину рода человеческого, теперь он к ней скорее благосклонен.
Кстати: ландыши – это его с Колей подношение. Каково – Володька и цветы!
Коля Ливинский очень изящный молодой человек, ловкий, стройный, веселый, остроумный и держит себя совсем-совсем непринужденно. Вот это хорошо; ненавижу кривляк и замороженных сосулек. Благодаря его простоте злополучный инцидент с моим неудачным объятием скоро забылся, и я больше не ощущала в его присутствии ни малейшего смущения. Но Володя не был бы Володей, если бы пропустил такой прекрасный случай подколоть меня.
– Поди сюда, Мурка, – таинственно подзывает он меня после обеда, улучив подходящую, по его мнению, минуту. Глаза у самого так и искрятся затаенным лукавством. «Могу себе представить, что сейчас последует!» – думаю я, но все же иду на зов.
– Слушай, Мурка, я с тобой серьезно побеседовать хочу, пока еще… не поздно, – вздохнув драматически, заканчивает он, в то время как глаза светятся хитрецой и в них прыгают веселые огоньки.
– Воображаю! – восклицаю я.
– Уж там воображаешь или нет, а выслушай, потому как иначе мое двоюродно-братское сердце изойдет кровью, истомится в тревоге по тебе. Ты, Мурка, смотри, в Колю Ливинского не влюбись, Боже тебя сохрани и спаси…
– Отстань ты, вот глупости! И не подумаю даже, будь спокоен.
– Легко сказать: «будь покоен», – тяжело вздыхает он. – Хорош покой: по первому абцугу[110]110
А б цуг [нем. Abzug] – буквально: метание карт в карточной игре. В выражениях: «с первого абцуга», «по первому абцугу» – с самого начала, с первого шага, сразу же.
[Закрыть] – хлоп на шею. A-а!.. Ну-у барышня!.. Да кабы девица-то настоящая, по всей форме, а то ведь всего еще без двадцати минут барышня. Понимаешь ли ты всю трагедию положения? Ведь влюбишься, так и повенчаться нельзя, целехонький год свое полудевичье сердце томить будешь, потому против христианского закона идти не моги. У архиерея в ногах валяться будете, все-таки не разрешат: не смей, мол, влюбляться до шестнадцати лет! И он-то, жених, хоть и фельдфебель, да, как-никак, нижний чин; тоже партия – фельдфебельшей будешь. Я тебе говорю, не влюбляйся, слышишь! А Коляша-то сердцегрыз ужасный, по нем барышни, особенно гимназистки, как мухи мрут.
– Успокой свою родительскую заботливость: моего сердца он не сгрызет, и в ногах у архиерея нам валяться не придется, хоть ты еще сто своих товарищей приведи.
– Ну нет, слуга покорный. Никого больше не приведу: еще и тех целовать начнешь? Ни-ни, шалишь. Я и то сегодня чуть со стыда не сгорел: моя кузина и вдруг!..
Противный мальчишка, каким был, таковым и остался!
В этот день перебывали у нас все родные и знакомые, но, по обыкновению, совсем запросто, так как празднование моего рождения с тех пор, как я в гимназии, всегда откладывается на сочельник.
Вот тогда вечер прошел страшно-страшно мило. Как всегда за последние годы, была кутья. Этому симпатичному обычаю мы научились за те четыре года, что прожили в В., и переняли его, так как всем нам он ужасно нравится. Уютно, торжественно и как-то необыкновенно патриархально, а я так люблю всякие обычаи, без них праздник не в праздник. Этот обед «на сене», от которого несется особый запах, – эта масса разнородных со всевозможным фаршем пирожков постных, как, само собой разумеется, и весь обед. Например, пирожки с черносливом, ведь кроме как с кутьей их никогда не ешь; взвары из сушеных фруктов; сама кутья с изюмом, орехами и миндальным молоком – все это ужасно весело, уютно и кажется чем-то необыкновенно-необыкновенно вкусным.
А потом елка – милая, радостная, сияющая, глядящая своими десятками теплых сверкающих глазков, которые точно смотрят тебе в самое сердце, и на душе от них становится светло, точно и там зажигается яркий праздничный огонек. И она горела, нарядная, жизнерадостная, блестя яркими язычками свечей, среди темно-изумрудных веток, отражаясь в зеркале кабинета, гостиной и прихожей; стоя между этими зеркалами, казалось, что тебя окружает целая рощица разубранных освещенных деревьев. На душе становится так хорошо-хорошо, тихо, отрадно…
Народу было много: тетя Лидуша с мужем, Женя, Нина и Наташа Скипетровы, мамины молоденькие кузины, Люба с Сашей, ее двоюродный брат, Петр Николаевич; я пригласила Пыльневу и Тишалову, звала и Смирнову, но та, как и всегда, тихо, вежливо, но решительно отказалась. Володю и Колю Ливин-ского особо не перечисляю, так как ведь они все время у нас торчат. Публика все между собой хорошо знакомая, так что друг друга не стеснялись, хохотали и дурили страшно. Новенькими здесь были только Шура Тишалова и Ира Пыльнева, но эти не робкого десятка, скоро со всеми перезнакомились, и «заплясали лес и горы».
Володе, видимо, очень нравится Люба, он все к ней подсаживается и со свойственным ему обыкновением поддразнивает ее… Ишь ты, меня предостерегал от влюбленности, а сам тоже в сердцегрызы записался!..
– Любовь Константиновна, позвольте вам задать один нескромный вопрос, – обращается он к ней.
Люба несколько смущена:
– Пожалуйста!
– Ваше сердце свободно? – таинственно наклоняется он к ней.
Люба краснеет, а в глазах Володи прыгают плутоватые огоньки.
– Вы свободны от прежнего увлечения, от прежнего чувства?
Глаза Любы смелее, но с искренним удивлением поднимаются на него.
– Прежнего увлечения? – переспрашивает она его.
– Да, я подразумевал ваше давнее увлечение мадемуазель Терракоткой…
– Ах, вот вы о чем! – Люба искренне хохочет. – Я-то все еще люблю ее, но она, увы, изменила мне: вышла замуж.
– Вышла замуж? – радостно переспрашивает он. – Великолепно! Я так и знал. Меня не могло обмануть предчувствие, как только я ее увидел, сейчас же решил: это она, Терракотка мадемуазель Снежиной. Ведь она – черная?
– Черная.
– Толстая?
– Нет, тонюсенькая.
– Ну, это пустяки, с тех пор под солнцем юга могла и располнеть, ведь, как известно, от тепла все тела расширяются. Косая?
– Как косая?! – возмущается Люба. – Прямехонькая, с прелестными большими черными глазами.
– Да, да, черные глаза, большие, – подтверждает он. – Конечно, она самая. А что косит, это тоже дело наживное: она, очевидно, страшно ревнива, и вот в то время, как один глаз – правый – якобы равнодушно обозревает местность прямо перед собой, левый напряженно следит за любимым мужем, за – дюша мой, Карапэт Карапэтыч.
Володька красноречиво скосил левый глаз, отчего физиономия его приняла такой нелепо-свирепый вид, что мы так и покатились от хохота.
– Так вот, представьте, какая неожиданность: однажды я совершенно случайно попал в вагон в общество вашей мадемуазель Терракот, ныне мадам Начихал– Наплевадзе. Увидел толстую, косую, неуклюжую, черную армянку и вспомнил вас. «Это она», – мысленно сказал я себе…
– Мерси, очень любезно, – перебивает, смеясь, Люба.
– То есть вы меня не так поняли или, вернее, не дали мне договорить: «Это она, – думаю я, – “сымпатый” Любовь Константиновны». Я сделался весь внимание, так как, видите ли, я сразу сообразил, что когда-нибудь смогу доставить драгоценные сердцу вашему сведения, доложив вам о нашей встрече…
Раз усевшись на своего любимого конька и заведя свою дразнильную машину, Володя все больше входил в азарт. Какие только нелепейшие и разнообразнейшие штучки не были преподнесены нам под псевдонимом злополучной экс-Терракотки и ее дражайшей половины! Посыпались и армянские загадки одна глупей и бессмысленней другой.
– Ну-ка, а отгадайте мою неармянскую загадку, – предлагает Тишалова. – Какое животное может провалиться в свою собственную середину?
Вот странно, отгадали только мамочка и я, а так просто: корова, ее середина – ров, в который она вся, целая, и провалиться может.
– Еще, еще, еще что-нибудь! – просили Шуру.
– У ворона два, у человека одна, у гуся и свиньи ни одного. Что это такое?
Эту загадку несколько человек отгадали – буква «о».
– Господа, а когда же гадать? Непременно нужно. Как же в сочельник да не погадать, – предлагает кто-то.
– Да, да, – подхватывают голоса.
– А как?
– Прежде всего бежим на кухню, – предлагает Ира Пыльнева. – И пусть каждый вытащит, не глядя, первое попавшееся полено: каково оно будет, таков будет будущий муж или жена.
– Отлично!
– А потом лодочки пускать, имена поджигать.
– А потом всей компанией на улицу имена спрашивать! – подхватывает Володя.
Летим в кухню, вооружаемся поленьями, стараясь по ним создать образ своей будущей дражайшей половины.
Бедная Люба! Будущее сулит ей мрачные перспективы: что-то кривое, шероховатое – верно, супруг ее будет злющим-презлю-щим кривулей. Полено Шурки Тишаловой довольно презентабельное в смысле стройности, но торчат три заковыристых сучка.
– Ничего, обтешем, – отмахивается она.
Мое полено тоненькое, длинное, и для полена так, пожалуй, даже изящное.
– Ишь ты! – не может упустить случая Володя. – Какого себе моя сестричка франтика выискала. Ну что, – шепчет он мне в самое ухо, – теперь сама видишь, я был прав: это не кто иной, как Коля Лив…
– Пошел вон! – опять туряю я его. – Вот на свою суженую лучше посмотри, вся на левый бок съехала. Еще такую поискать тебе придется. Впрочем, не надо искать, я тебе достану. Милый Володечка, будь отцом родным, женись ты на нашей преподобной Клепке… Коли уж тебе на роду кривая написана, возьми нашу, тебе ведь все равно, а нам доброе дело сделаешь.
– Правда, правда! – одобряют Люба, Ира и Шура.
– Владимир Николаевич, пожалуйста! – несется со всех сторон.
Следующий гадальный номер – пускаем на воду лодочки с зажженными свечками. Володька незаметно все норовит толкнуть мою с расчетом, чтоб она подожгла бумажку с Николаем. От его чрезмерных усилий скорлупка, подойдя уже совсем близко к записочке, благодаря данному ей резкому толчку, накреняется, зачерпывает воды и бултых ко дну. Зато его лодочка сожгла всю Клеопатру.
– Ура!.. Клепку испепелило пламя Владимира Николаевича! – смеются кругом.
Накинув шубки и платочки на голову, мы шумной, беспорядочной компанией стремглав несемся вниз по лестнице на улицу – спрашивать имена. Холодно, морозно, светло.
Самая настоящая рождественская ночь. Прохожих мало.
– Вот извозчик, я у него спрошу имя, – говорю я.
– Извозчик, как тебя зовут? – обращаюсь я к молодому толстому парню, сидящему на козлах.
– Кучкин Митюха, из пскопских, – флегматично заявляет он.
Вся моя свита разражается неудержимым смехом, едва успели мы отойти от извозчика на приличное расстояние.
– Поздравляю, мадам Кучкина! Просто, звучно и аристократично: madame labaronne Koutchkine. Прелестно! – рад стараться Володя.
Коля Ливинский допрашивает о своей будущей нареченной какую-то горничную и получает в ответ: «Аксинья»! Люба обеспечена Никифором. Женя подходит к двум не то приказчикам, не то мастеровым и осведомляется у них:
– Как вас зовут?
– Зимой Кузьмой, а летом Филаретом, – хохочет, довольный собственной остротой, один из них.
Женя сконфужена, нам смешно, но мы сдерживаемся, боясь нарваться на какую-нибудь дерзость. Умудренная только что виденным, Ира заявляет:
– Я пойду спрашивать у того вот, что там, прижавшись около стенки, возле почтового ящика стоит. У него такой жалкий и скромный вид, он уж, верно, острить не будет. Только и вы, пожалуйста, идите, чтобы на всякий случай быть поблизости.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































