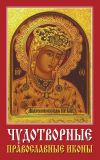Текст книги "Лехаим!"

Автор книги: Виталий Мелик-Карамов
Жанр: Документальная литература, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 17 страниц)
Эпизод 33
Декабрь 1962 года
Выставка МОСХ в манеже
Отчет художников к 30-летию Московского союза считался большим событием. В пока еще пустых от зрителей прямоугольных выгородках по всему Манежу висели картины, а в проходах между ними стояли работы скульпторов. По «коридорам» прогуливались спортивного вида молодые люди, одетые в тесные одинаковые серые однобортные гэдээровские костюмчики. Художники сильно от них отличались и стояли каждый у своей картины или тихо шептались, сбившись в маленькие группы.
По случаю торжественного события Фима, который нетерпеливо переминался у своего полотна, был в парадном темно-зеленом пиджаке и вишневых брюках, явно вывезенных как трофей из Германии. Пиджак Фима украсил всеми своими боевыми наградами, то есть он был увешан орденами и медалями снизу доверху. По яркости и экзотичности художник Финкельштейн соперничал с собственным произведением искусства и заставлял дежуривших молодых людей все время на него оглядываться. Рядом с Фимой скучал Моня.
– Ефим, – тоскливо глядя на вернисаж, ныл он, – зачем ты меня сюда притащил, да еще по поддельному приглашению? Какое я имею отношение к художникам, тем более представляющих Казахстан?
– Радоваться успеху товарища ты, Моня, не умеешь. Сразу видно, по сути, не советский ты человек. А насчет приглашения не беспокойся. Оно настоящее, мариниста Козерогова. Его от радости, что попал на выставку, вчера разбил инсульт. – Фима начал бегать от стенки до стенки. – Подумаешь, вос фар а клейникайт[28]28
Большое дело (идиш).
[Закрыть]. Свел чернила, вписал твою фамилию. Ты бы знал, какие фамилии я вписывал и в какие паспорта в двадцатых…
И он с горящими глазами стал нашептывать их Моне в ухо.
– Да не трепись, Фимка, не может быть! – И Моня испуганно огляделся.
– Да, да! – раздухарился Фима. – Он с любовницей в Швейцарии отдыхал, даже Ленин про это не знал… А тут, бля, Козерогов, – Фима сплюнул и точно попал в висевшее по центру произведение товарища Герасимова «Ленин в шалаше пишет апрельские тезисы», прямо на карандаш Ильича. От резкого движения награды на пиджаке издали мелодичный перезвон…
В соседнем секторе, где расположилась экспозиция группы «Новая реальность», вдруг раздался резкий вопль, за ним непонятный тревожный рокот.
Редкие фигуры в проходах замерли, но посты не оставили.
Фима аж подпрыгнул.
– Стой здесь, Моня, я сбегаю посмотрю, что случилось. А вдруг теракт!
Фима исчез. Стоявшие группками художники на всякий случай, как по тревоге, рассыпались по своим углам.
Рокот накатывал, накатывал, пока клин передвигался от картины к картине. И достиг апогея, когда глава страны поравнялся с картиной художника Соостера.
Строго по ранжиру группа сопровождения выстроилась у произведения художника.
– Что это? – изумился возглавлявший клин Хрущев.
– «Глаз яйца», – прочел подкравшийся к картине аскет в очках в тонкой золотой оправе, в миру член президиума ЦК КПСС Михаил Андреевич Суслов.
– «Глаз на жопу натянули», – вперив в полотно палец, заявил первый секретарь и председатель Совета Министров СССР.
Сопровождение, как греческий хор в античном театре, одновременно коротко усмехнулось. Хрущев гордо оглядел свиту.
– Идиот, – в тишине сказал добежавший Фима. Рядом с ним сразу образовалась пустота и нарисовались двое в серых костюмчиках.
– Точно, – подтвердил Хрущев. – В корень зрите, товарищ фронтовик. Вот вывод простого народа, – Никита Сергеевич обернулся к клину. Серая парочка испарилась. – В сумасшедшем доме ему место, а не на выставке.
Наконец клин возник рядом и накрыл Моню членами президиума ЦК во главе с его первым секретарем.
Обойдя застывшего Моню, Хрущев уставился на Фимино произведение, потом сплюнул, причем попал точно туда же, куда плевал Фима (клин проводил плевок первого групповым взглядом), и громко, не оборачиваясь, объявил: «Мазня!»
Члены президиума и секретари ЦК как по команде эхом прошелестели: «Мазня, мазня…»
Хрущев наклонился и сам громко прочел табличку под картиной: «Художник Майский. Полевой стан. Страда».
– Какая еще страда? – взревел хозяин страны. – Это не страда, а страдания!
Греческий хор изобразил саркастический смех.
– Вы, Майский, хоть раз в деревне были?! – потрясая кулаками, закричал Хрущев, наскакивая на Моню. – Вы знаете, чем живет советский колхозник?!
Опешивший Моня встал по стойке смирно. Чутье подсказало ему, что лучше всего молчать.
Вдруг Хрущев замер, разглядывая Моню, потом спокойно сказал:
– А я вас знаю. Вы же были инженером на Трехгорке. Вас еще Сталин оппортунистом назвал. Помнишь, Анастас?
Микоян печально кивнул.
– Вы же самого Ленина умудрились расстроить!
Греческий хор издал трагический вскрик.
– Где Ворошилов? Он подтвердит!
Из рядов вытолкнули старенького Ворошилова. За ним наконец пробился взлохмаченный, затертый партийной элитой Фима. Ворошилов кашлянул в кулак, медленно полез за очками… Напряжение нарастало.
– Вроде он, – тихо прошамкал маршал Советского Союза, – но не подпишусь…
– Отвечайте, – начал распаляться Хрущев, – вы работали на Трехгорке?
– Служил, – четко ответил Моня.
– Вот видите, – обрадовался Хрущев, – мы вас разоблачили. Вы же еще потом пробрались на совещание к Сталину! – восторженно закричал он. – От нашего прямого советского взгляда никуда не денешься. Всех знаем поименно, товарищ Майский. – И горестно-сочувственно закончил: – Что, так и не перековались? Нет, вы не Майский. Вы майский жук.
– Я Левинсон, – на всякий случай сказал Моня.
– Какая разница? – заметил первый секретарь. Тут его взгляд упал на тяжело дышащего Фиму, который от всего происходящего не мог вымолвить ни слова.
– Вот, товарищи, – закричал он снова, но теперь с пафосом, – среди нас простой, обычный фронтовик! Нет, не обычный! Герой! Скажите нам, товарищ, вы что-нибудь понимаете в этой мазне? Вы бы повесили ее у себя дома?
Во время этого спича референт что-то шептал в ухо секретарю ЦК Ильичеву. Тот с интересом посмотрел на Моню, потом вышел к Хрущеву.
– Никита Сергеевич! Много чести тратить время на этих Майских, у нас еще полвыставки впереди. А с ними есть кому разобраться.
– Да, да, – послушно отозвался Хрущев, – надо всем пенделя дать. А с вами, товарищ, – обратился он к Моне, – я думаю, разберется ваша партийная организация. У нас сейчас не прежние времена, а то бы сразу отправили из Манежа на Колыму. Спасибо скажите двадцатому съезду!
Греческий хор, уходя: «Спасибо, спасибо…»
– И что теперь будет? – спросил Моня. Они шли от Манежа вдоль решетки Александровского сада к Красной площади.
– Ничего, – ответил насупленный Фима. – Обосрутся Хрущеву докладывать, что он орал на знаменитого ракетчика. Значит, сказал «мазня»?
– Мазня, – не жалея друга, подтвердил Моня. – Кстати, ты хоть раз на полевом стане был?
– Был, не был, какая разница… Главное, как я его себе представляю. Иванов тоже явление Христа народу не застал. Ты и его обвинять будешь?
Они уже шагали по Красной площади. Длинный худой Моня и невысокий крепыш Фима.
– Иванова не буду. Но ты же Финкельштейн.
– Я Майский!
– На ком женился?
– Ни на ком. Это мой творческий псевдоним.
– Как у него? – Моня кивнул на мавзолей, мимо которого они проходили.
– Что-то я никакую Лену не припоминаю, – задумчиво сказал Фима. – По-настоящему он должен быть Иннин. Я же помню, как он рыдал на похоронах Арманд…
– Какой Арманд?
Фима безнадежно махнул рукой.
Моня остановился напротив мавзолея.
– Фима, представляешь, что здесь была бы надпись «Иннин»?
Фима прищурился.
– Было бы лучше. Графичнее.
Как раз тогда, когда Моня и Фима стояли перед мавзолеем, Хрущев, пыхтя, у задних ворот Манежа усаживался в черный неуклюжий ЗИЛ-111, произведенный вручную только для членов президиума ЦК с мощным аналогом американского двигателя.
– Анастас, садись ко мне! – приказал он.
Микоян покорно вылез из соседнего ЗИЛа и пересел к Хрущеву.
– Холодно, – заметил он.
– Зима, – наставительно отозвался Хрущев.
– На Ленгоры, – велел он адъютанту и, обращаясь к попутчику, сказал: – Нина Петровна борщ сварила с пампушками, настоящий, украинский, давай ко мне обедать…
– Конечно, Никита, неудобно только с пустыми руками в дом…
– Ты эти свои кавказские штучки брось, не к теще на блины зову. Рюмку выпьем, и за работу! Ты другое мне скажи, почему все эти абстракционисты, – это слово Хрущев осилил с третьего раза, – евреи?.. Ты посмотри: Фальк, Майский, Левинсон какой-то… Что их всех туда тянет? Что их не устраивает настоящее искусство? Репин, Суриков, Левитан, а?..
– Левитан тоже еврей, – грустно заметил Микоян. – А Левинсона я тоже помню с тридцатых. Не знаю, как он попал в Манеж, но он не художник.
Эпизод 34
Сентябрь 1968 года
Москва, ленинский проспект и шашлычная у Никитских ворот
На одной стороне проспекта, той, что слева, если двигаться от Калужской заставы, как принято говорить, в сторону области, в конце сороковых пленные немцы выстроили качественные жилые многоэтажные дома. Без сталинской помпезности, но все же с некоторым украшением фасадов. Квартиры в этих домах предназначались академической интеллигенции. Сама Академия наук СССР своим главным зданием расположилась на другой стороне проспекта. Можно было подумать, что академики и членкоры каждое утро ходят туда на работу и такое местоположение им сильно облегчает жизнь.
Зато благодаря высоконаучным жильцам, пусть даже с редким разбавлением пролетариатом, дворы в этих домах были чистые, «козла» на сколоченных под деревьями столах никто не забивал, а чтобы ночью распевать под окнами – боже упаси.
В тот час, когда обычные жители столицы уже видят первые сны, в один из таких дворов бесшумно вошел коренастый и кривоногий пожилой мужчина в велюровой гэдээровской шляпе с цветным перышком на ленте, в солдатском бушлате, из-под которого выглядывала белая сорочка.
Несмотря на то что сентябрьские ночи были уже, можно сказать, зябкие, широкие брюки вошедшего скрывали летние сандалии. Во двор на Ленинском вошел чекист-абстракционист, в девичестве Фима Финкельштейн.
Стояла почти абсолютная ночная тишина, тем не менее Фиму что-то насторожило. Он встал за ствол крепкого тополя и стал пристально оглядывать по секторам пустой двор. Парочку непроизвольно качнувшихся кустов по разным его сторонам острый глаз старого разведчика обнаружил довольно быстро. Стараясь не выходить на открытое пространство, Фима зашел в тыл к ближайшей засаде, моментально придавив стальной рукой горло и тут же зажав ладонью рот наблюдателя. Другой рукой он быстро ощупал «пленного», вытащив у него из-под брючного ремня «макарова».
В это время хлопнула дверь подъезда прямо напротив двух застывших оперативников – бывшего и настоящего. В телогрейке, накинутой на гарусовый темно-синий спортивный костюм с надписью на груди «СССР», в лыжной шапочке на улицу вышел Моня. На плече он держал «Спидолу», прижав к ней ухо. Моня передвигался по замысловатой траектории, явно ища точку, где приемник лучше всего ловит нужную волну. Точка оказалась в паре метров от почти скульптурной группы «Лаокоон с единственным сыном». Усевшись на скамеечку, Моня целиком был погружен в передачу «Немецкой волны» об операции стран Варшавского договора в Чехословакии.
Фима чуть ослабил хватку.
– Пикнешь, сука, удавлю сразу!
Пленник покорно закивал.
– Фамилия, звание, подразделение…
– Младший лейтенант Пустоходов, восьмая группа наружного наблюдения Девятого главного управления.
– Задание?
– Наблюдение за объектом, – и Пустоходов попытался кивком указать на Моню.
Фима ловко раскрыл перед придушенным младшим лейтенантом удостоверение, на котором в темноте ничего прочесть было невозможно. Но предъявление ксивы было так привычно и понятно, что наблюдатель перестал елозить ногами по земле и даже слегка обмяк.
– Слушай команду старшего по званию. Оперативное расположение не покидать. В рапорте меня не указывать, а чтобы не дурил, твой пугач останется пока у меня. За потерю личного оружия знаешь, что бывает?
Захваченный младший лейтенант обреченно закивал.
– Выводы наблюдения.
– Получает инструкцию по радио.
– Ясно. Жди, когда выйдут на связь.
После чего Фима, проделав таинственный маршрут по большой дуге, зашел в тыл к другим подозрительным кустам. Там он обнаружил капитан-лейтенанта в отставке Арона Файбисовича, который в углу двора из цейсовского бинокля изучал собственного двоюродного дядю.
Моня, прильнувший к «Спидоле», как тетерев на токовище, ничего не слышал и не замечал вокруг.
– Видно хорошо? – шепотом поинтересовался подкравшийся к Арону Фима.
Капитан-лейтенант в запасе уронил бинокль и зачем-то поднял руки.
– Не понял, – удивился Фима. – Ты чего, сдаваться сюда пришел? Я спрашиваю: деньги Нобеля отсюда видно хорошо?
– Ой, дядя Фима, а я думал, комитет меня накрыл, – не оборачиваясь, простонал Файбисович-младший.
– А я кто? – еще больше удивился почетный чекист. – Я что, «Заготзерно»?
– Ну, вы все-таки еврей!
– Так это еще хуже. Мне выслуживаться надо. Быть умнее остальных, быть преданнее, чем все вместе взятые…
– Ой, дядя Фима, не смешите. Помогите лучше, сам Бог мне вас послал!
– Ты откуда меня срисовал? Мы вроде не пересекались.
– По почерку. Мне про вас, дядя Фима, тетки до сих пор байки рассказывают. Уши уже прожужжали.
– Ладно, – смилостивился Фима. – Руки опусти и можешь повернуться. Уши беречь надо. Ты какого хера здесь околачиваешься? Тебе же запретили рядом появляться. И адресок дяди у тебя откуда?
– Так я тогда, в шестьдесят втором, сразу уехал, но со сменщиком договорился, чтобы он за Моисеем Соломоновичем приглядывал. Так, на всякий случай. Он и засек, что дядя Моня переезжает. А потом и нарыл, что дядька действительно важная шишка… Да я тут совсем по другому делу…
Висящий над дорожкой уличный фонарь, слегка качаясь, высвечивал со странными тенями медальный профиль капитан-лейтенанта в запасе. Чтобы Моня, сидящий на лавочке в двадцати метрах от них, не расслышал этой пламенной речи, племянник произносил ее сиплым шепотом. Сцена напоминала эпизод из фильмов ужасов, которые советские люди массово увидели через двадцать лет.
– Дядя Фима, от вас зависит моя жизнь! И жизнь моих детей, – для убедительности добавил он.
Фима от неожиданности так взмахнул руками, что чуть не уронил реквизированный пистолет младшего лейтенанта.
– Значит, помочь Бог меня послал, – почти просвистел он. – Тебя же, сучонка, предупреждали. Продолжишь слежку – сам тебя урою. Вот грохну тебя сейчас…
– Да не грохнете, зачем вам лишний шум? Я, можно сказать, последний раз пришел к дяде. Хотел попросить его об одной услуге… Не о деньгах разговор. Нет у него денег и не было. Типичный идиот с большой зарплатой. Профессор кислых щей…
– А от меня тебе что надо?
– Дядя Фима, помогите мне уехать туда, но с детьми. Тетки померли, все три подряд, пять лет назад. Папа умер в прошлом году… Правда, фиктивная жена шантажирует, требует взять с собой. Мы документы подали, но пока в отказе.
– Два еврея на четверых, – резюмировал Фима. – Да и какие вы, Файбисовичи, евреи? После всех ваших русских жен одна только фамилия осталась. К тому же ты офицер, небось, с допусками?
– Вот для этого вы мне и нужны, как никто. Помогите снять секретность. Я про Нобеля и дядю Моню до смерти не вспомню.
– Может, действительно тебя, шантажиста, прикончить, чтоб не мучиться…
– Дядя Фима, мы же почти родственники. Ради светлой памяти вашей мамы, помогите!
– Вали отсюда, родственник, не мешай! – И в спину отползающему Арону Фима спросил: – А какая фамилия у фиктивной жены?
– Подьячева! – не оборачиваясь, ответил капитан-лейтенант в отставке.
– Фамилию ее возьми, а там подумаем…
Фима встал, вышел из-за засады и по скудно освещенной асфальтовой дорожке направился к скамейке, где замер Моня, слушая последние известия теперь «Голоса Америки».
Фима встал перед другом. Моня засмущался, стал судорожно выключать транзистор, естественно, перепутал колесики управления, и на весь двор эхом загрохотало: «А теперь час джаза с Уиллисом Коновером…»
Фима укоризненно покачал головой.
– И что? – спросил Моня.
Вопрос, конечно, был риторический, но Фима собирался на него ответить, даже рот открыл, однако в этот момент за его спиной открылась дверь подъезда и на улицу вышел худой, слегка горбящийся мужчина в берете, в накинутом на пиджак плаще.
– Приветствую, Моисей Соломонович! – гнусаво произнес он, приподнимая берет и одновременно придерживая плащ.
– Здравствуйте, Андрей Дмитриевич, давно вас не видел.
– Да, я с испытаний не вылезаю.
– Познакомьтесь, друг детства, полковник… – тут Моня замялся.
– Полковник в отставке Мартинсон Алоиз Алоизович, – чеканно вставил Фима.
– Ах да, Мартинсон, а это, Фима, тьфу, как тебя, забыл, академик Сахаров, наш самый засекреченный ученый. Не волнуйтесь, Андрей Дмитриевич, Ефим, то есть, вспомнил, Алоиз, самый заслуженный разведчик страны. Еще более секретный, чем вы…
– Не выговоришь ваше имя с первого раза, – заметил смутившийся академик, повернувшись к Фиме.
– Что делать, мы остзейские немцы.
Академик Сахаров протянул новоявленному остзейцу руку для пожатия. Плащ сдвинулся и открыл три золотые звезды Героя Социалистического Труда на пиджаке.
– Простите бога ради, – академик неловко прикрыл награды. – Не успел переодеться после совещания.
– Ну, не переживайте, вы же не самый секретный, – снял напряг Фима. – Покойный Королев, положим, был посекретнее…
Сахаров снял очки и беспомощно посмотрел на Моню.
Тот в ответ махнул рукой, мол, не обращайте внимания.
– Товарищ Мартинсон, Моисей Соломонович, я вышел встретить одного очень интересного писателя. Может, составите нам компанию?..
– Отчего не составить, составим, – Фима достал из бушлата бутылку армянского коньяка.
– Мы только зайдем ко мне, – добавил Моня, – закуску возьмем, заодно и этот немец разоблачится…
В лифте Моня спросил:
– Ты как меня нашел, я же с конца пятидесятых абсолютно засекреченный?
– Ну ты, Моня, даешь, как всегда. Что, забыл? На площади Дзержинского есть большое справочное бюро… Ферштейн?
Фима беззвучно закрыл за собой дверцу лифта.
– Вот, – сказал Моня, вставляя ключ в дверной замок, – дали за космос изолированную двухкомнатную. Тут на площадке и Андрей Дмитриевич живет напротив, в трехкомнатной.
Вошли, Моня полез в секцию стенки, в ту ее часть, где был откидной столик, а за ним полки бара. Достал оттуда бутылку редкого азербайджанского полусладкого вина «Кемшерин» и коробку шоколадных конфет с новогодним рисунком.
Фима в это время, сняв сандалии, ходил в шерстяных носках домашней вязки, разглядывая квартиру. Мебель была совершенно новая, но выглядела так, будто ее выставили на продажу в магазине. Другими словами, на полках стенки стояло лишь несколько предметов, как обычно это бывает в витрине магазина. Три вещи в дистиллированной квартире привлекли внимание опытного чекиста. В спальне у кровати стояла на тумбочке небольшая фотография молодого смеющегося мужчины в докторском халате, которого бодал головой в бок пацан лет шести-семи. В мужчине Фима без труда узнал Соломона. Следовательно, мальчишкой был его сын, внук Мони, тоже Моисей. В гостиной над диваном висела редкая для того времени большая цветная фотография. На ней космонавты – два крепыша в офицерских кителях с геройскими звездами на груди – Гагарин и Титов подпирали с двух сторон застенчивого Моню. По нижнему краю фотографии шла размашистая подпись: «Уважаемому М. С. Левинсону с благодарностью за обеспечение безопасного полета». И две подписи – аккуратная и размашистая.
Тут зазвонил телефон. Моня поднял трубку.
Третьим предметом, привлекшим внимание Фимы, стала лежащая на полке почти пустого книжного шкафа, тоже встроенного в стенку, плитка серого металла с выплавленной на ней датой: «18.09.62 г.». Фима попробовал взять ее, чтобы получше рассмотреть, но даже не смог поднять. Довольный Моня за его спиной улыбнулся.
– Это мне ребята из нашего института, – он кивнул на плитку, – подарили на юбилей.
– Что за железка? – равнодушно спросил Фима.
– Какая надо железка. Таких больше нигде не делают. Сами изготовили, без вас, шпионов, обошлись. Давай не вынюхивай. Андрей Дмитриевич уже зовет, – объявил Моня.
В гостиной у Сахарова навстречу гостям поднялся средних лет высокий мужчина с большой залысиной и вмятиной на лбу, с рыжеватой бородой лопатой и яркими голубыми глазами.
– Знакомьтесь, – сказал засекреченный академик, – наш замечательный писатель Александр Исаевич Солженицын.
Писатель вежливо поклонился.
– Не может быть! – вылетело у Мони.
– Моисей Соломонович, профессор, специалист по всяким космическим делам, – продолжал знакомить академик, – и… – тут он запнулся…
Фима без бушлата оказался в пиджаке с орденской колодкой, всего лишь в два раза меньшей, чем та, которая была, например, у маршала Жукова.
– Алоиз Алоизович, – представился он, четко держа руки по швам. – Свободный художник, абстракционист, – добавил он со значением.
– Ого, – только и сказал писатель, не спуская глаз с Фиминого иконостаса. – И с какого такого фронта?
– Из тыла, – скромно ответил Фима и, наслаждаясь вопросительным выражением на лице хозяина и его знаменитого гостя, добавил: – Вражеского…
Моня со стуком поставил на низенький стол бутылку вина. Фима добавил коньяк, писатель поднял пузатый портфель из кожзаменителя, отстегнул пряжку и стал доставать заморские яства, в основном в баночках. Заодно он выставил бутылку виски и пузатую низкую бутылку импортного напитка.
– Кальвадос, – пояснил писатель, – сам не пробовал, но читал у Ремарка… – Он продолжал опустошать бездонный портфель. – Днем обедал в одном посольстве, вот получил контрибуцию, – довольный завершил он объяснения.
Академик из такой же стенки, что у Мони, вынул бутылку водки и бутылку какой-то бурой настойки.
– Клавдия Алексеевна приготовила на случай простуды. Народный рецепт. На спирту.
– А где супруга? – поинтересовался Моня.
– В больнице, – грустно ответил Сахаров.
– У русского гения должна быть русская жена, – заметил писатель, оказавшийся, как выяснилось через пару лет, совсем не провидцем, во всяком случае в отношении секретных академиков..
– А что с Ломоносовым и его немкой делать? – обиделся Моня.
– Мы с Александром Исаевичем вчера тайно встретились у академика Файнберга… – Сахаров решил поменять тему. Фима незаметно хмыкнул. – Обсуждали мою работу «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». Александр Исаевич категорически не согласен с моей теорией конвергенции. Вот и решили продолжить общение, не обращая внимания на слежку за Александром Исаевичем. Он специально приехал из Рязани, так что присоединяйтесь к диспуту. Особенно интересна эта тема должна быть нашему уважаемому художнику.
Фима благосклонно помахал рукой.
– А нельзя ли для поднятия градуса интеллектуальной свободы, – он скосил глаза на столик, который благодаря хозяйственному Солженицыну напоминал цветной разворот из книги «О вкусной и здоровой пище» 1952 года издания с цитатой-предисловием от товарища Сталина.
Трижды Герой Соцтруда печально проследил за взглядом абстракциониста и схватился за голову:
– Пойду хотя бы картошку поставлю…
– Вы, кстати, не еврей, – крикнул ему вслед Фима.
– Увы, нет, – ответил уже из кухни отец водородной бомбы.
– Странно, – удивился Фима, – кто бы мог подумать… Такой умный…
– А вы? – прямо спросил инженер человеческих душ, указав пальцем на Фиму. К Моисею Соломоновичу у него такого вопроса, естественно, возникнуть не могло.
– Мы остзейские, обрусевшие и православные, – ответил коммунист Финкельштейн. – Приготовились! По нашей традиции, начнем с застольной, – и без спроса полез в сервант за хрустальными бокалами.
Начали, тоже по традиции, с водки. Фима мгновенным движением сорвал жестяную накладку с горлышка бутылки, прозванную в народе бескозыркой. После чего разлил в четыре бокала грамм по пятьдесят. Писатель открыл импортную банку с сардинами специальным ключом, приклеенным сверху. Моня и Фима внимательно наблюдали за этим небывалым действием.
– Вот гады, – сказал чекист.
– За это и выпьем, – изменил национальный порядок тостов писатель.
Махнули. Ловко подцепив сардину за хвост и задрав бороду, Александр Исаевич проглотил рыбешку и облизал кончики пальцев. Моня понюхал открытую коробку конфет. Фима ограничился запахом обшлага собственного пиджака.
На кухне что-то загрохотало.
– Трудно без жены, – заметил писатель.
Фима разлил по второй. Поднял бокал и произнес что-то вроде тоста, закончив традиционным «лехаим!», после чего перекрестился и выпил.
– Двести лет вместе даром не проходят, – заметил Фима.
– Гениально, – воскликнул Александр Исаевич.
Возникла пауза. Все слушали, как на кухне продолжает что-то падать.
Моня поделился только что полученной информацией:
– Скоро суд над ребятами, которые вышли на Красную площадь, протестуя против ввода войск в Чехословакию.
– Много народу вышло? – деловито спросил Фима, разливая оставшуюся водку и все время задирая бутылку и проверяя, чтобы вышло всем поровну.
– Восемь человек.
– Сколько среди них инородцев? – спросил писатель.
– Не считал, похоже, половина.
– Беда в том, – заметил писатель, – что в русском революционном движении всегда было много евреев…
– А вас не смущает, что в Америке в баскетбол играет слишком много негров? – вдруг вскипел Моня.
– У каждого своя профессия, – подвел итог Фима.
Тут появился с кастрюлей академик.
– Чистить не стал, – объявил он, – давайте, как у костра, на привале… А о чем спор? Выпить товарищу не нальете?
– Уже налито, – сказал Фима. Потом хлопнул себя по лбу. – Я же таксиста не отпустил! Стоит же во дворе, бедолага! Кстати, я его за водкой отправлю. Как старший по званию.
Оставшаяся троица, обжигаясь, сосредоточенно чистила картошку в мундире на расстеленных газетах.
Спустя пару часов, так и не добравшись до дискуссии по поводу своих «Размышлений…», академик спал на диване, подогнув ноги и по-детски сложив руки под щекой. Очки он не снял, но они были на лбу. Напротив в кресле, вытянув длинные ноги, тихо похрапывал Моня. Бодрствовали только Солженицын и Фима.
Александр Исаевич мерил шагами сахаровскую гостиную, как тюремную камеру, отставив в сторону стул, на котором висел пиджак хозяина с геройскими звездами. Не обращая внимания на спящих, он темпераментно рассуждал высоким, почти пронзительным голосом. Фима, сморщившись, понюхал содержимое бутылки, приготовленной отсутствующей Клавдией Алексеевной.
– Не дыша можно, – сообщил он.
– Наливайте, – махнул рукой инженер человеческих душ. На ходу он взял протянутый бокал и тоже понюхал.
– Что-то вроде полыни, чеснока и рыбьего жира, – сообщил он Фиме.
– А спирт есть?
– Немного, но есть.
– Тогда, – продолжая дискуссию, Фима поднял палец свободной руки, – вот что я тебе скажу, Александр. Ты человек молодой, а я уже пожил на этом свете, и если сделать вывод из твоего выступления, то Каплан специально в Ленина промахнулась!
Этот спор они продолжили и дальше.
Утром Фима пригласил всю компанию в шашлычную. Академик отказался. Он единственный, кто торопился на службу.
Заветная троица высадилась из такси на углу улицы Герцена и Тверского бульвара, рядом с огороженной деревянными щитами площадкой, на которой начиналось строительство нового здания ТАСС. Напротив с опущенными руками стоял памятник Тимирязеву. Фима закурил.
– Был бы с нами Андрей Дмитриевич, – заметил он, – можно было бы загадать желание…
– Это в каком смысле? – поинтересовался писатель.
– Да в том, что мы бы оказались между двумя академиками…
– А кто из нас второй?
– Вы даже не представляете, – вставил реплику Моня, зная друга детства.
Фима кивнул на памятник, который производил впечатление писающего мужчины.
– У вас острый глаз, Алоиз Алоизович, – определил писатель.
– Наш Маннекен-Пис, – гордо сообщил ему почетный чекист.
– Откуда вы знаете про брюссельский фонтанчик? – удивился писатель.
– Был там пару раз проездом, еще до войны, – скромно заметил Фима.
– Невероятно, – резюмировал будущий нобелевский лауреат.
Довольный Фима стрельнул недокуренной сигаретой. Рассыпая искры, она описала дугу и упала за воротник плаща парня, который рядом безучастно рассматривал памятник. У парня даже выражение лица не изменилось. Но спустя секунд пять он прижался к фонарному столбу и потерся об него спиной.
– Молодец! – незаметно от друзей отчеканил Фима, проходя мимо. – Отмечу в рапорте!
– Служу Советскому Союзу! – беззвучно ответил парень, от которого теперь пахло подгоревшей едой.
Троица за разговорами перешла улицу, направляясь к кинотеатру повторного фильма, рядом с которым располагалась небольшая шашлычная. Чуть поодаль, ближе к Театру Маяковского, две крупногабаритные официантки били, скорее всего, пытавшегося сбежать посетителя. Обе дамы были в форменных платьях с белыми кружевными фартучками и традиционными накрахмаленными кокошниками на крашеных кудрях, сохранивших форму бумажных бигуди. Выглядели они как сестры-близнецы. Одна, заломив мужичку руки, прижала его спину к мощной груди, а он покорно висел в ее объятиях, склонив голову перед неизбежной судьбой. Судьба являла собой пластиковый поднос, которым вторая необъятная валькирия била мужичка по голове.
Троица остановилась у дверей шашлычной поглядеть на публичную экзекуцию.
– Вот она, точная картина судьбы русского человека, – вздохнул писатель.
– Но бабы же не гойки, а наши, – возразил Фима, явно не забывший вчерашнего спора.
– И не представительницы проклятого Запада, – скромно заметил Моня.
Солженицын в ответ только тяжело вздохнул, что означало: «много вы понимаете».
Тем временем публичная казнь продолжалась. Чем сильнее был замах у карающей тетки, тем легче отскакивал легкий поднос от головы приговоренного. К тому же на нее была натянута видавшая виды кроличья ушанка.
У распятого мужичка на помятом лице даже появилась всепрощающая блаженная улыбка святого. Несмотря на прохладный осенний день, бьющая взмокла, да и силы ее были небезграничны.
Фима пронзительно засвистел в три пальца. С грохотом поднялись сидевшие вокруг и на Тимирязеве голуби. Держащая отбросила мужичка метров на десять, и обе, переваливаясь, прошли на рабочее место с чувством выполненного долга.
Через пятнадцать минут одна из них подошла к голубому пластмассовому столику, за которым устроились представители идеального среза советской интеллигенции: ученый, писатель и чекист.
– Что? – спросила служащая общепита.
– Шашлыки, – начал Фима.
– Понятно, что шашлыки. Что пить будете?
– Боржоми есть? – спросил Моня.
Официантка в ответ фыркнула, без слов подтверждая глупость заданного вопроса.
– Шестьсот грамм! – быстро сориентировался Моня. – Александр Исаевич, присоединитесь?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.