Текст книги "Житие Блаженного Бориса"
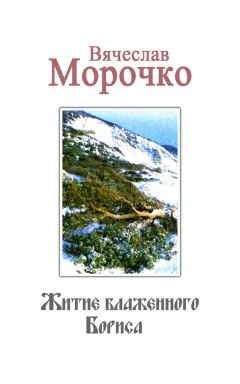
Автор книги: Вячеслав Морочко
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 21 страниц)
Часть четвертая
Прага
1.
Поезд (Алма-Ата-Москва), которым я уезжал шел в том же западном направлении, как тот, каким я прибыл в Отар. Но публика была иная: меньше военных, больше казахов. Хотя и среди военных встречаются казахи. – много меньше, чем, например, украинцев, но иногда попадаются. У меня был знакомый – освобожденный секретарь комсомольской организации, всегда улыбающийся лейтенант Бай-Мухаммедов. Естественно, его называли Разъебай-Мухаммедов. Он всегда улыбался, говорил очень быстро, казалось, очередная фраза хватала за хвост предыдущую.
Теперь я сидел за столиком на боковом месте, попивал кумыс, который носили по вагонам, и смотрел в окно. Я не часто ездил по стране, а тем более так далеко. Все меня интересовало. И в Алма-Ате я купил карту, где были и горы, и реки, и границы республик, и, кое-какие дороги даже пустыни, а вместо населенных пунктов – кружочки.
Судя по карте, мы ехали сквозь «Пески Муюнкум, но не доехали до Джамбула, когда на «пески» легла ночь, На самом деле, никаких песков я не видел: передо мной расстилалась равнина с очень скудной пожелтевшей растительностью. А ночь скрыла от глаз примечательные детали дороги, среди них были город Чимкент, река Сыр-Дарья, Аральское море, знаменитый «космический» Байконур. Подозреваю, расписание специально составили так, чтобы прикрыть сокровенное.
А утром мы подкатили к городу Ленинску, состоящему из однотипных белых пятиэтажек, и долго стояли на станции. Я никогда раньше не видел моря. Я мечтал увидеть море и теперь подпрыгивал, приподнимался на носках, лез на верхнюю полку, ожидая, не блеснет ли где-нибудь за домами хотя бы крошечная полоска воды, ведь, судя по карте, город располагался на морском берегу.
«Молодой человек, – посоветовал интеллигентный пожилой казах, завтракавший за столиком, в купе. – Не стоит поднимать пыль. Если вы ищете море, то его здесь нет. Арал давно весь высох».
– Как высох!? Вот же карта!
– Карта – печатный продукт. Ему нельзя доверять.
– То есть как?!
– Как несвежим фруктам.
2.
Наконец, поезд тронулся. Мы въезжали в самый пыльный угол страны. На пути было несколько городов, таких как Актюбинск, Уральск и пара знакомых из географии речек: Эмба, Урал. Было известно, что здесь расположены военные полигоны. Но сначала все это закрывала пыль, а потом ночь – лучшие на свете секретчики. Пыль не только, скрывая солнце, носилась снаружи, но стояла внутри вагонов и поскрипывала на зубах. А утром следующего дня я проснулся от солнечного света, отражавшегося в волжской воде, и грохота колес по мосту. Внизу, на правом берегу великой реки, почти под мостом, вдруг возник мой родной город.
Скоро я был уже дома, обнимая заметно повзрослевшую маму. Сколько мы с ней себя помним, нам помогали родственники – многочисленные любящие дяди и тети. Она считалась у них самой младшей и слабой. Это был довольно большой клан, крепко связанный с Волгой. Они плавали на пароходах, катерах, работали в порту, на пристанях, в пароходстве, в мастерских. Одни из них торжественно звали себя моряками, другие поскромнее – речниками. А сторонние люди называли их, просто, водниками. Длинный многоэтажный дом, в котором большинство из них жило, так и назывался «Домом водников». Крепкая родня окружала нас с мамой и, после гибели отца, не давала пропасть, несмотря на странную мамину хворь. Она выкарабкалась и, временно работая ассистентом в университете, готовилась к возвращению в свой архив.
Все выпускники военных училищ сначала получали отпуск на родину, а потом следовали в часть назначения. У меня все вышло иначе. Командировка в Отар была временным мероприятием: сборы никогда не проходят долго. Теперь я находился в отпуске. Но документов с новым назначение у меня пока не было. Я ждал их. В армии так бывает, особенно, когда направляют за кордон: твои документы отсылают в Москву, там проверяют и перепроверяют, потом отправляют в штаб Военного округа по месту жительства. И если все в порядке, тебя вызывают в штаб для получения предписания о назначении и проездных документов. Как сказал Колюжный, меня собирались направить в Группу Советских войск в Германии. Он спросил моего согласия. Я уклончиво ответил: «Если я там, действительно, нужен».
– Все мечтают, а ты как-то неуверенно отвечаешь.
– Если все мечтают, то я не считаю себя самым достойным.
– Борис, ты должен стремиться, быть самым достойным.
– Ну, разумеется.
– В каком смысле?
– В том, что я вижу, все решается без меня.
– Требуется хотя бы формальное согласие.
– На какой срок?
– Пока холост – на три года.
– А если женюсь?
– Еще на три.
– Что поделаешь, ладно уж, так и быть, согласен.
3.
За отпуск я не встречался со сверстниками: связь с ними была обрублена с восьмого класса, с тех пор, как меня определили в суворовское училище. К тому же в последнее время я все больше ощущал себя стариком. И вообще, молодежь на гражданке оставалась для меня загадкой, вроде инопланетян. Зато я повстречал три старушки, оставившими след в моем детстве.
Первую из них я увидел, еще не успев переодеться в цивильное платье. Я бы прошел мимо, если бы она не спросила: «Стой, Борис, это – ты? А я гляжу, знакомый идет. Да ты что, не узнал меня!? »
– Простите.
Я видел, старушка была растрепана и немного навеселе.
– Да я же Лёля! Вы помните (она перешла на вы) мы с братишкой играли и пели во время налетов.
– Теперь помню. Ну, как братишка?
– Братишка – в больнице. Лечится от этой заразы! (Она изящно щелкнула по шее.)
– А вы?
– А я что – мне уже ничего не поможет! Я помню, вы были мышонком, а стали таким мужчиной! Честно! Честно! – вам идет форма! Да, кстати, у вас не найдется три рублика? Всего три!
Я выгреб из кармана все, что имел.
Еще одна старушка когда-то преподавала историю в пятых – седьмых классах. Мы любили ее слушать, а за глаза, называли «египтянкой». Рассказывая, она усаживалась на крышку передней парты, выставив на всеобщее обозрение свой прекрасный «древнеегипетский», а на деле, еврейский профиль. В ушах до сих пор звучал проникновенный, чуть сипловатый низкий голос «египтянки». Прошли какие-нибудь десять лет, а из стройной, вдохновенной тридцатипятилетней красавицы она превратилась в седую старушку с обострившимся, скорее всего от болезни, но полным достоинства мудрым лицом. Встретив, она не узнала меня. Я для нее был одним из многих. Скорее всего, в ее глазах форма не только не украшала, но наоборот, лишала индивидуальности. Узнав, я не решился ее останавливать: не был уверен, что ей это будет приятно. А еще раздражало исходящее от нее ощущение нарочитой стерильной бедности. Мы ведь тоже не были богачами.
Третья старушка была самой древней. Ей уже было под восемьдесят. Когда-то она сама взялась учить меня игре на фортепьяно. Но до «суворовского» я освоил с ней всего несколько гамм. Она служила в оперном театре концертмейстером и была давней маминой знакомой. Это она организовывала наши посещения музыкальных спектаклей. Вот и сейчас она достала билеты на концерт в большой зал консерватории имени Собинова. Перед концертом она пригласила нас с мамой зайти на чай.
Пианисточка (так я ее про себя называл) жила в длинном одноэтажном купеческом доме, превращенном в барак. У пианистки было две с половиной комнаты: зал с памятным для меня пианино, спаленка и горячая комнатка без окна, но с дыркой для трубы от буржуйки. Центрального отопления не было, но если не закрывать дверь, тепло от буржуйки распространялось по всей квартире. На конфорках печурки грели воду. В цементном полу теплой комнаты оборудовали сток. Здесь и стирали, и мылись. Но места общего пользования (туалет и кухня) располагались в коридоре. Когда-то в квартире проживала семья из трех человек. Но супруг умер еще до войны. Сын живет в другом городе, и старушка осталась одна. Мы с мамой выпили чаю с вкусным пирожным. Пианистка, продемонстрировав, что есть еще порох в пороховницах, сыграла нам мощный марш из «Ромео и Джульетты» Прокофьева, и все вместе отправились в консерваторию.
Мы не торопились. Времени еще оставалось достаточно. К тому же нам было известно, что у старушки болели ноги, и скакало давление. Дорога шла в гору между рядами больших, но уютных зданий, пока перед нами зеленой стеною не встал разбитый в центре Саратова парк-сквер «Липки». Мы пошли через парк, который снился мне ночами в казарме. Теперь казалось, что с этими аллеями я никогда и не расставался. Мы прошли мимо эстрады, на которой по праздникам и выходным, даже во время войны, играл духовой оркестр. Он тоже мне снился. Это была счастливая дорога сквозь сон. И ничего не предвещало беды.
Наконец, мы вышли из парка на площадь. Отсюда начинался наш прекрасный «Кировский проспект». Слева, на углу его стояло красивое здание с башенками – консерватория. Пианисточка провела нас в «Большой зал», который оказался не таким уж и большим. Но, видимо, где-то находился и другой – поменьше.
Играл гастролировавший в городе Ленинградский симфонический оркестр. Я люблю музыку, но не являюсь большим ее знатоком. Я не все понимаю. А если понимаю, то по-своему не так, как советуют знатоки, не по правилам, а как принято воспринимать явления природы или события жизни. Я люблю и запоминаю только то, что меня как-то трогает. В этот раз меня поразил «Грустный вальс» финна Яна Сибелиуса. То ли я слышал его первый раз, то ли подача была необычной. Я нашел в нем не столько «грустное», сколько сокровенное. Он вошел в меня тихим шепотом, точно крался на цыпочках и вместе с тем действовал зрительно, как дисплей, на котором в виде сполохов отображался скорый и ужасный поворот судьбы пианисточки. Я не мог сказать почему наваждение касалось именно ее, но было похоже, старушка чувствовала то же, что я, хотя не показывала вида. Когда мы вышли, все, кроме мамы, выглядели подавленными.
Через два дня мы узнали о страшном событии: пианистка, моясь в корыте у себя в теплой комнате, потеряв равновесие, упала на раскаленную до красна буржуйку и не сумела подняться. А соседи, сбежавшиеся на звериный вопль, потрясенные картиной, не смогли ее сразу снять. Несчастную не довезли до больницы. На другой день умерло еще две старушки из оперного театра. Чувствительных ветеранов сцены погубило воображение, когда им неосторожно сообщили обстоятельства гибели пианистки. Надо сказать, потрясен был весь город.
Отпуск оказался испорченным. Как раз в день похорон пришла бумага, следовать в штаб округа за назначением и проездными документами. Получив документы, я вернулся в Саратов, купил билет до пункта сбора во Франкфурте на Одере, собрал вещи и попрощался с мамой.
Ехал я с пересадками: сначала до Москвы, потом до Бреста, затем через Польшу до Франкфурта на Одере. В Москве у меня были сутки свободного времени. Я пробежался по улице Горького, взглянул на большой театр, на Красную площадь, соблазнившись красивыми куполами, посетил собор «Василия Блаженного», переночевал в комнате отдыха Белорусского вокзала. На другой день сел в брестский поезд, а в Бресте прокомпостировал билет на отходивший вечером франкфуртский поезд, сдал вещи в камеру хранения и отправился в город.
Начал со знаменитой крепости на Буге. В музее ознакомился с ее историей. Заглянул в казематы, осмотрел то, что сохранилось от обращенных к Бугу кирпичных стен. Потом прогулялся по Бресту, пообедал, мысленно попытался выделить общее в городах подобного типа, отнеся к ним, кроме Бреста, Аксай и Шадринск. Хотя Брест являлся областным городам, я поставил его в ряд с другими, где, кроме убогих улиц, имелось еще что-то высокое для души. В Бресте то была, естественно, крепость, в Аксае – знаменитый Собор, а в Шадринске, как ни странно, – театр, если можно назвать театром сарай в центре города, где во время спектакля «Ромео и Джульетта» дважды гас свет, но все остальное было на месте. Шла война, на гастрольную ссылку приехала труппа что надо, и, будучи второклассником, я пережил потрясение.
На длинных столах в специальном зале прошел я таможенный осмотр. Было не столько унизительно, сколько любопытно. Когда мы тронулись, на улице уже стемнело. Мы, простучали по мосту через Буг и встали. Кто-то опытный прокомментировал: «Смена караула. Ничего интересного. Ложимся спать». Тронулись, но через три часа снова встали. «Ребята, это – Варшава»! «Ребята» – пассажиры, в основном, такие, как я, прилипли к окнам. В это время в вагонах суетились какие-то незнакомые люди. Кто-то сказал: «Ребята, следите за кошельками! Тогда незнакомые люди переключились на нас. Они говорили по-русски, хотя и с акцентом. Им нужно было, чтобы мы купили у них «самописки» – не простые – а со срамным секретом: кнопку нажал – картинка меняется. Кто-то, наверно, купил. Города мы не увидели – только мокрый перрон: ночью шел дождь. Родина Фредерика Шопена – автора самой нежной и романтической музыки – так и запомнилась темным, мокрым перроном и порнографической «самопиской».
Ранним октябрьским утром мы подползали к границе с Германией, когда я проснулся и вспомнил, Польша – католическая страна, где должно быть много костелов и соборов с островерхими башнями. За окном брезжил свет, но какой-то странный. Мы направлялись с востока на запад. Светать должно было у нас за спиной. Я не видел зари: небо было затянуто облаками, но в том направлении, куда мы ехали, небосвод был почему-то светлее. Действительно, то там, то здесь поднимались башни, но они не были такими высокими и острыми, их не было так много, как ожидалось. То, что просачивалось над Германией сквозь облака, только усиливало сумрак на католическом берегу. Этот призрачный свет отражался в болотцах, мелких озерах в окнах серых домишек расположенных в пойме реки, вызывая странное чувство тоски и вины. Тут мы не то, чтобы остановились, а притормозили и поехали дальше. В вагонах опять появились польские пограничники в четырехугольных фуражках-конфедератках: паспортный контроль.
Когда подъезжали к мосту через Одер, то сразу же на другой стороне увидели светящийся дебаркадер вокзала: прозрачный навес над платформами изнутри освещали яркие лампы. Нам будто бы объявили: «Ребята, вы попали в Европу»!
Прямо из окон вагона через стекло дебаркадера внизу открывалась вокзальная площадь: перрон был приподнят над ней метров на пять. Площадь была небольшая метров тридцать на сто. Но что поражало: так это немыслимое количество патрулей. Каждый патруль состоял из одного патрульного офицера с бляхою на груди и двух рядовых или сержантов с повязками на рукавах. Фактически, площадь была оцеплена.
«Как будто кто-то сбежал из тюрьмы», – предположил сосед.
– Из тюрьмы!? Причем здесь военные патрули?
– Ну, тогда – из «губы».
– Приехали, в основном, офицеры. Кого ловят? На кого облава??
– На них и облава.
Я вспомнил рассказ Магнитштейна: из Группы Советских войск в Германии вернули двух майоров с предписанием «По прибытии уволить». Штабные офицеры ехали в Германию на замену, а во Франкфурте на сборный пункт решили не спешить, сначала от души «оторваться». Не то у них с собой были марки, ни то что-то ценное для продажи. Тем временем их уже объявили в розыск.
– И что?
– Так вот: сошли с поезда, «погудели», подобрали каких-то девиц, что-то от них подцепили, кому-то набили морду, потом бомжевали…
– Лихо!
– Нравится?
– Во всяком случае, по-нашенски!
– А тебе?
– Ненавижу!
– Ты что!? Как нерусский!
– Ненавижу таких!
– Тогда отойди от меня!
Я отошел. Патрули уже были в вагонах. «Товарищи офицеры, всем оставаться на местах»!
– А если не офицеры?
– Всем предъявить документы!
Мой сосед подошел к патрулю и что-то шепнул. Когда пришла очередь проверять мои документы, капитан (начальник патруля) долго копался, потом сказал: «Идите за нами», и мы пошли к выходу. На площади меня посадили в газик и повезли. Пока ехали, начальник патруля еще раз просмотрел мои документы. «Странно, – сказал он, – вроде бы документы в порядке. Вы что выпили»?
– Да нет, вроде бы.
– Вроде бы или нет?
– Не выпил ни капли! А в чем дело?
– Так уж ни капли?
– Разрешите, товарищ лейтенант, вам не поверить.
Он был зловеще вежлив.
– Хотите верьте, хотите нет. Какое это имеет значение?
– Имеет лейтенант.
– Скажите, какое?
– Не хочу с вами разговаривать. Я только патруль. Все равно вы не скажете правды. Ладно. С вами поговорят в другом месте. «В особый отдел», – приказал он водителю.
«Выходим»! – сказал он, когда мы остановились. Я подхватил свой чемоданчик, что лежал на коленях и хотел выйти, но его немедленно отобрали а заодно сняли и брючной ремень. Это напомнило мне «губешник» в училище. «Меня неплохо подготовили», – отметил я про себя. «Так кого ты ненавидишь, лейтенант, русских»? – спросил веселый особист, которому меня передали. «Только не спрашивай: «В каком смысле?»
– А я и не спрашиваю.
«Вот ты уже и спросил! – Он не сильно ударил по носу так, что брызнула кровь. – Я же предупреждал! Ну, прости! Это, что бы было с чего начинать разговор. Так положено, для затравки».
– Вы тоже простите, не предупредил, что у меня – слабые сосудики носа.
– А вот это ты зря: хохмить здесь имеет право лишь тот, кто ведет допрос.
«Все ясно», – сказал я себе, вдел в петли брючной ремень, забрал документы, свой чемоданчик и покинул особый отдел. На проспекте Карла Маркса, по которому бегал трамвай, справился у первого встречного старшины, где находится сборный пункт»? Мне показали. И к моменту, когда приступили к моей регистрации, в здании, где находился особый отделе, все мокрицы разом вернули себе человеческий облик. Наученный опытом, я об этом вовремя позаботился, хотя и ругал себя за излишнюю щепетильность.
Мне выделили койку в казарме. Впрочем, большинство коек оставались незанятыми: как только назначение с мест подтверждалось, пройдя короткие инструктажи и получив немецкие марки, офицеры группами или поодиночке, отправлялись на новые места службы. В зале ожидания человек пятнадцать ожидали вместе со мной подтверждения вызова, когда появился знакомый капитан, начальник патруля, снявший меня с поезда. Он дружелюбно кивнул и тут же скрылся за какой-то дверью. Первым желанием моим было немедленно исчезнуть из зала. Именно с таким намерением я и поднялся, но вместо того чтобы выйти, направился к двери, за которой исчез капитан. Не понимаю, какая муха меня укусила, но я не смог устоять. Я столкнулся с этим человеком, едва вошел в кабинет. Он уже выходил. «Я очень рад, что вам удалось выпутаться, – радушно сказал патрульный. Обычно от нашего провокатора так быстро не отделываются”.
– Это кто провокатор?
– Да тот, в вагоне, который вас раскрутил.
– Вы так весело говорите об этом, словно это игра.
– Конечно, игра: кто кого.
– В таком случае, капитан, это вы провокатор. Должно быть, у вас разнарядка столько-то разоблачить, раскрутить, раскусить, задержать, затащить в особый отдел: а там из любого что-нибудь выбьют.
– Ты правильно понял, лейтенант. А что так разволновался?
Я вдруг понял, он сюда приходил сдавать бляху, а вместе с ней оставил и большую часть значительности. Отсюда игривый тон и даже веселость. Я нагнетал в себе гнев, хотя не представлял себе, что с капитаном буду делать, и в этот момент меня позвали – не по имени, а так, как я уже привык за последнее время, «товарищ лейтенант». У двери кабинета, где шла регистрация новоприбывших, стоял немолодой коренастый полковник и жестом приглашал зайти. Мы зашли вместе. «Лейтенант Паланов?» спросил он так тихо, словно не хотел, чтобы посторонние слышали мое имя. «Так точно» – ответил я таким же заговорщицким тоном. И мы рассмеялись. «Полковник Стоякин! – представился пожилой офицер. – Я давно вас жду. Уже беспокоился, не случилось ли что.
– Чуть ни случилось.
– Вот как!? Поехали! В машине расскажите.
Полковник забрал пакет моих сопроводительных документов, которые пришли по линии отдела кадров, и мы покинули сборный пункт. Стоякин сам сел за руль газика, как он объяснил: «Из соображений конфиденциальности. Моя база тут неподалеку – километров сорок в сторону Берлина. – городок Кенигсвальде «Королевский лес».
– Говорят, малые города меньше пострадали во время войны? – спросил я, чтобы только не молчать.
– В общем-то так. Но здесь, на подступах к Берлину, шли тяжелые бои.
Сам Франкфурт на Одере, через который мы только что проезжали тоже небольшой городок. Здесь еще с довоенных времен ходили трамваи. Но сейчас город не вполне соответствуeт «трамвайному» уровню: мало целых домов, а то, что восстановлено, кажется временным, точно строилось не для себя.
Полковник уверенно крутил баранку и, когда выехали на автобан, попросил: «Теперь расскажите, что с вами стряслось».
И я рассказал, стараясь ничего не упустить. «Вам еще никто не говорил, что для вас, именно для вас, слово «ненавижу» – табу?» – спросил полковник.
– Терпеть не могу людей, которые чувствуют себя в жизни хозяевами и уверены, что им все дозволено! Я слишком долго терпел!
Понимаю. И тем не менее, не нам об этом судить.
Как так!?
A так. Они, действительно, так чувствуют и, наверно, имеют право.
А я не имею?
Имеете.
Но право – это пустяк. У вас есть большее.
Хотите сказать…?
Да! Ответственность! Но, разве вы сами не чувствуете себя стариком рядом с ними?
К сожалению. Я-то кажусь им недоноском, над которым можно поизгаляться.
А как вы хотели. чувствовать себя молодым, а смотреться маститым старцем?
Я понимаю, так тоже нельзя: мы ведь меняемся.
Именно.
Что же делать, если уже невозможно терпеть?
Дорогой мой, даже не представляете, как вы ценны в этой жизни! Если с вами что-то случится, – никто не заменит. У нас нет «запасных игроков».
Но я пока еще цел и мне ничего не грозит.
Не уверен. Еще рано судить. Капитан, начальник патруля, вас запомнил.
Хотите, я отправлю его к мокрицам?
Я вижу, вам это нравится.
Я делаю это только когда вынуждают. – Ой ли?
– Меня проверяли!
Разговаривая со Стоякиным, я совершенно расслабился, точно знал его с детства. Я не просто его уважал, я ощущал сыновние чувства. С ним я был дома, независимо от того, куда он сейчас меня вез.
«Кстати, в нерабочее время можете звать меня Петром Ивановичем».
– Очень приятно, Петр Иванович. А я – просто, Борис.
– Да знаю я!
На Базе в Кенигсвальде мне выделили комнатку в общежитии. Семейные проживали отдельно от общежития: среди офицеров не было холостяков, но среди вольнонаемных – были. Здесь, в отличие от Отара, не выли шакалы но кричали чайки: рядом текла неширокая речка – Шпрее. В тот же день я был представлен Наталье Петровне Стоякиной. К вечеру она напекла пирожков, и был проведен стандартный ритуал омовения.
Началась рутинная работа инженера цеха. Надо сказать, никаких особых талантов в поисках неисправностей я у себе не открыл. То, что произошло в Отаре, оказалось частным случаем. Было странным, что, не имея высшего образования, я занимал инженерскую должность. В первый же день я спросил об этом Стоякина. Он ответил: «Так надо. Ничего. Привыкните, оботретесь, наберетесь опыта». И я привыкал, обтирался и набирался.
Мои коллеги (инженеры цеха) все были много старше, опытнее, носили на груди «поплавки», а ко мне относились по-отечески и с сочувствием. Каждый инженер занимался РЛС одного типа. За каждым была закреплена бригада из солдат и сержантов срочной службы (в основном со средне техническим гражданским образованием). Когда на плановый ремонт поступала станция, ее полностью разбирали. Снимали все детали. От каждого блока оставалось шасси (корпус) и жгут проводов с торчащими во все стороны кончиками. Жгут прозванивали, а если не получалось, меняли на заводской (большинство неисправностей от плохих контактов). Блоки промывали, прочищали, просушивали, а затем собирали из новых деталей и настраивали. Каждый техник отвечал за свою систему, имел рабочее место укомплектованное стендовым оборудованием для проверки и настройки системы. Потом собирали и настраивали станцию в целом. И вот тогда наступал «момент истины». Хорошо, если что-то совсем не работало, тогда можно было попробовать сменить блок, субблок, лампу (тогда были радиолампы), емкость или резистор. Но, если схема работала, но немножко не так, как положено: не тот уровень, не та форма импульса, не то количество строк, что-то лишнее на осциллографе, на экране (какая-то бяка) – отдел технического контроля все равно не пропустит. Надо снова гнать блоки на стенды, перестраивать, проверять, перепроверять ломать голову и пробовать, пробовать, пробовать, как говорится «до посинения», пока досадный синдром не исчезнет.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































