Текст книги "Житие Блаженного Бориса"
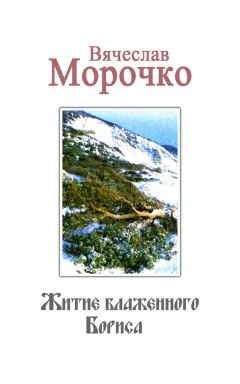
Автор книги: Вячеслав Морочко
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 21 страниц)
7.
Небо и океан не принимают всерьез наши жалкие, едва поднявшиеся над бездной, кусочки суши. Расположенные в теплых широтах, но доступные всем ветрам, они известны полярными вьюгами и тропической влажностью. Совершая мелкие пакости у различных материков, холодные течения собираются к этим берегам, чтобы творить свой шабаш. Единственное теплое течение, приходящее к нам, обогревая соседние берега, лишь прибавляет суровости здешнему климату: нагретые у воды слои воздуха поднимаются вверх, а с Охотского моря, охлаждая острова, на их место проникают более холодные массы. Недаром здесь так популярен миф, что в воздухе недостает кислорода. Даже в самое жаркое лето круговые течения поднимают из глубины океана леденящую жижу с температурою ниже нуля – так называемая «густая вода», окутывающая землю холодной мразью.
Пришел транспорт. Он доставил с материка почти все, что мне обещали. Вместе с грузом, прибыл новый офицер. По штату мне полагались еще двое: замполит и командир взвода связи. Я, конечно, рассчитывал, что связиста пришлют в первую очередь.
«Капитан Пожарский Владимир Иванович, – представился наш новый товарищ, – прибыл на должность заместителя командира по политической части»!
Ну что ж и за это спасибо – я был искренне рад, что нашего полку прибыло.
Пожарский выглядел старше и серьезнее нас с Ленькой, хотя фактически разница в возрасте не превышала двух лет. Видно было сразу, человек имеет за спиной опыт работы с людьми и свои твердые убеждения.
Чувствовалось, после долгого рейса он утомлен, но старается не показывать вида. Я предложил ему с дороги отдохнуть, и он без всякого кокетства согласился. Ему была выделена комната, но пока в ней делали ремонт, я поселил его у себя. Устраиваясь ко сну, замполит успел сообщить, что ему тут начинает нравиться. И еще он поинтересовался, как у нас налажена связь с гражданским населением. Выслушав меня, Пожарский загадочно усмехнулся: «Робинзоны!», потом отвернувшись к стене, моментально уснул и проспал всю выгрузку оборудования.
На другой день я слег. Фельдшер Федор Федорович поставил диагноз: «Крупозное воспаление легких». Карцев рвал на голове волосы, вообразив, что это он, чуть ли не специально, подстроил мне эту беду: когда перевозили оборудование, по его вине у самого берега в воду свалился ящик, и я по пояс в воде, вместе с другими вытаскивал его на берег. Заболел только я, и этот псих вообразил, что он один во всем виноват. В действительности, если кто и виновен, так это я сам.
Зина стала нянькой больному. Честно говоря, после нашего последнего разговора, этого я от нее не ждал. А дела мои были столь плохи, что скоро я нагло завладел ее рукой. Рука была мягкая и прощупывалась почти насквозь. С этой теплой и нежной рукой я никак не хотел расставаться. Под одеялом никто не мог ее видеть. Я прятал ее под щекою, мочил слезами, прижимал к дрожащему телу. Я не собирался ни умирать, ни унывать. Я просто не думал о таких ничтожных вещах. Я сознавал, черт возьми, , что был славным малым и никому еще в жизни не причинил незаслуженно зла, и мне хотелось тихонько смеяться, потому что вокруг оживал причудливый мир, полный комической пестроты, потешного и вместе с тем грустного смысла. Я казался себе вареником, который по ошибке начинили одной только болью, и постоянно находился в приподнятом состоянии духа. В забытьи, подражая Леньке, я пространно рассуждал на тему «О некоторых достоинствах жанра горячечного бреда».
Леденящий студень «густой воды», обволакивая остров, подступал к горлу. Мучительно было дышать, и я смеялся, чтобы не слышать свистящей в груди боли. А «густая вода» билась уже в руках, мяла и царапала тело, клокотала в легких, звенела, переливаясь, в черепе – я был раскаленным сосудом, наполненным леденящей жидкостью. Я, как утопленник, оживший в последний раз уже где-то в безвыходной глубине, судорожно цеплялся за последний призрак от призрака жизни.
Поразительно, осталось впечатление, будто с первого дня болезни я только и делал, что выздоравливал. Болезнь – это святая и счастливая штука в период, когда поправляешься: с твоей болезнью носятся, на тебя чуть ли не молятся – ты почти божество. Очень приятно выздоравливать, и я выздоравливал про себя с самого начала.
И, когда, действительно, началось выздоровление, Зина снова была у моей постели.
«Тебе здесь не тошно? – спросил я ее. – Говорят, я бредил. Надо полагать, было что послушать».
– Тише, Боря! Не надо так говорить! Будешь умницей, скорее поправишься.
Мне на голову легла ее ладонь.
– Вот еще нежности!
Я убрал от головы ее руку, но отпустить совсем не решился: на ней через пальцы ощущалась приятная слабость собственных рук.
– Подумаешь, тоже мне умница нашлась! Какое, собственно тебе дело, как я говорю?
– Тише, Боря! Ну что ты сердишься? Что я тебе сделала плохого?
– Если не сделала, то еще успеешь сделать!
Я был зол на нее: хотелось быть с ней сильным и строгим, а получалось, что она тут командовала мною, да еще набиралась наглости не замечать мои наглые выходки.
«Вот что, – сказал я ей, наконец, – мне кажется, будет лучше всего, если ты немедленно уберешься отсюда! Поняла?»
На этот раз подействовало: она отняла у меня руку и ушла, хлопнув дверью.
Я поднялся за ней на локтях и увидел, что в каморке моей стало уютно, как дома. Я упал на подушку и тихо заплакал, не сознавая, о чем плачется. Обида прошла. Просто было ужасно одиноко и жалко себя. Я даже немножко закапризничал, умолял, чтобы она пришла и вернула мне свою руку: без нее я умру. Мне казалось, я выздоравливаю, но, в сущности, все это происходило тоже почти, как в бреду. В тот вечер у меня снова поднялся жар, Зина вернулась и, как прежде, сидела рядом, перебирая пальчиками мой куцый чуб.
Выздоравливал я быстро.
Слабость и головокружение воспринимались, как результат действия постельного яда: простыни обволакивающие тело как бы сообщали мне это состояние «невесомости». Я не привык чувствовать себя жалким, и теперь, когда почти ничего не болело, не хотелось больше оставаться «святым». Болезнь теперь представлялась кошмаром, точно все это время я был заспиртован в банке и, выброшенный из привычной жизни, подвергался некоему мрачному эксперименту.
Теперь мне докладывали обо всем, что случилось с тех пор, как я слег. Это было лучшим лекарством: слушая, я переживал всей душой, волновался, кусая суставы пальцев, возвращался к жизни – был счастлив. Оживая, я глядел на мир другими глазами. Втихомолку, многие мечтают о времени, когда все пойдет само собою, как надо – как раз то, что я чувствовал во время болезни – тусклая и безрадостная вереница дней. Я, вдруг, понял: по-настоящему, человек живет исключительно в настоящем. И теперь я снова с волнением брал в свои руки упругую тяжесть вверенных мне дел и судеб: пусть рвется, выскальзывает незримо живущая всюду леденящая мерзость «густой воды» – я не позволю ей погрузить мир в сонный бред.
Я точно снова родился, и солдаты, как будто понимая это, поддаются моей бодрости и неожиданному свежему натиску. А где-то там, глубоко под ногами, ворочаясь, громыхает земля – так пусть этот грозный «там-там» отбивает торжественный марш в нашем походе!
5.
Когда я только начал выздоравливать, моим частым гостем стал замполит Пожарский. Я не звал его. Считая своим долгом навещать больного, он приходил серьезный, со спокойной уверенностью на лице. Наверно, такой вид делают доктора, когда не хотят раньше времени тревожить безнадежно больного. Я скоро узнал, что Пожарскому, реально, удалось обнаружить слабые места в нашей деятельности. Он вскрывал недостатки с известным тактом, словно желая сказать, что до него здесь иначе и быть не могло.
Прежде всего, ему не понравилась наша «ленкомната» (Ленинская комната) – помещение для политических занятий и досуга. «Какая-то она у вас пустая, серенькая, казенная», – отозвался о ней Пожарский. Против такой справедливой оценки я ничего возразить не мог: наша Ленинская комната, в самом деле, была серенькая, и если теперь мой новый замполит возьмется ее переделать, я буду только приветствовать. Скоро выяснилось, что документация о проведении политических занятий с солдатами была безнадежно запущена. Он даже признался, что подобные обстоятельства не позволяют ему сделать окончательный вывод о политико-моральном состоянии подразделения.
К своему стыду, я понял, что у нас до многого просто не доходили руки. Пожарский знал свое дело. Во всяком случае, на первых порах я был им доволен.
А вот с Карцевым за последнее время творилось что-то неладное. Едва я встал на ноги, как слег он. Слег так, что поднял шум на весь остров: неожиданно напившись, выскочил наружу и стал колотить в мою дверь, кричать, угрожать, рыдать, ползать на коленках, о чем-то молить.
Его кое-как успокоили и уложили в постель. Я узнал о случившемся лишь на другое утро, вернувшись с дежурства. Это был отвратительный случай. Раньше Карцев не переваривал спиртного: его желудок для этого не приспособлен. Теперь у него, по словам Федора Федоровича – нервная горячка, которая, главным образом, проявлялась в беспомощной матерщине.
Когда он более или менее начал соображать, я решился поговорить с ним. Но лучше бы не решался. Он просто не стал меня слушать, сказал: «Уйди, я не могу тебя видеть! Делай, что хочешь, а я здесь не останусь!»
Зина, молча, проводила меня за дверь. Я ушел, – такой он мне тоже не нужен.
Пожарский подобрал себе группу помощников, и теперь в ленкомнату не зайдешь: все перевернуто вверх дном, пахнет свежей стружкой, ацетоном, олифой, клеем – готовится что-то грандиозное, обжигающее алым цветом. Пожарский держится так, словно нащупал здесь золотую жилу. Ему не надо указывать или советовать. Как говорится, «он сам с усам». И никому не придет в голову назвать его бездельником. Даже если мне что-нибудь очень нужно, у меня не хватает духу попросить об этом Пожарского: он вечно занят, куда-то спешит, отдает распоряжения, делает замечания или нравоучения. Поэтому он до сих пор – не в курсе нашей основной работы. Когда Ленька слег, пришлось назначать старших смен из лучших сержантов – из тех, на кого я мог положиться. И, надо сказать, они ни разу не подвели.
Карцев слег, и нет у меня помощника. Вспоминаю, иной раз придет с мороза, после ремонта с разодранными в кровь пальцами и, грея их над огнем, несет всякую чушь, например: «Я против традиции изображать мороз только белыми красками, для меня в нем – полная гамма металлических цветов.
«Слушай, там еще много работы?» – прерывал я его. Ленька морщился, но я по-другому не мог. Теперь я жалел его, почти так же, как и себя, а, может быть, даже больше.
После захода солнца на кружеве занавесок временами появляется ее тень. Мне кажется, без этих видений я не мог бы дышать.
Последнее время (в связи с болезнями) к нам все чаще наведывался фельдшер – нивх. Иногда он приводил с собой молоденькую, робкую дочь – Анюту. И я заметил, с каким интересом поглядывали на нее наши «мальчики».
Мы с Федором Федоровичем были не просто полукпами. Хотя он и старше меня, в нас с ним жила общая робость, особенно по отношению к тем, в которых с молодых ногтей заложена дерзкая установка: «Главное, сразу бей! Не раздумывай, бей сразу, куда придется! Не давай опомниться!»
Биография нивха была не сложная, но тяжелая. Родился он в селении Ноглики на северном Сахалине, окончил школу, потом, идя по стопам отца, – медицинский техникум, в областном центре. Отец ничего не кончал, но слыл в поселке врачевателем. Многие нивхи умеют лечить, знают лесные секреты: ягоды, травы, коренья, умеют готовить снадобья, а отец Федора, будучи капеляном, вдобавок, имел еще бубен и слыл среди нивхов отменным шаманом, то есть, говоря по-нашему, – «психотерапевтом». Учитывая наследственный характер передачи навыков, Федор Федорович, после смерти отца, получил его «практику», женился и вроде бы зажил, как человек. Кстати, слово нивх как раз и означает – человек.
Но пришли времена, когда к словам начали относиться особенно придирчиво. Шамана можно было назвать колдуном, а врачевателя с восточными чертами лица – просто японским шпионом. У молодого фельдшера появились завистники и конкуренты. Они и назначили его «врагом народа». Мужа и жену отправили на поселение в магаданскую область, а малолетнюю дочку оставили бабкам.
Хотя Федор Федорович и в ссылке работал фельдшером, он не сумел уберечь супругу, истосковавшуюся по родному острову и дочурке. Жена осунулась, высохла, почернела и умерла в одночасье от пневмонии. Вернувшись из ссылки, Федор Федорович приехал на Сахалин и, взяв дочь, завербовался на острова.
Он не сообщал мне, что имеет отношение к капелянам. Об этом не принято сообщать. Это надо чувствовать. Кто не чувствует, тому не дано. А я не рассказывал ему про мокриц. Это было для меня чем-то не совсем приличным – почти табу. Я думаю, в этом роде у него тоже было нечто свое – своя, так сказать, «фишка». По сути, этим даже не принято интересоваться. Хотя принято делиться впечатлениями и пожеланиями об иных (некапелянских) делах. Мы подружились. Я мог с ним говорить обо всем, как со старшим. В основном, говорили о том, что нас мучило.
Я рассказал ему о своем разговоре с Зиной, когда застал ее всю в слезах. Я не мог забыть ее слов:
«Хочу жить! И не хочу, чтобы мой ребенок стал сиротой. Разве не ясно? Я знаю, что тут случилось три года назад у соседей. Мы смертники! Мы все здесь – смертники, Боря!»
«Она тебе нравится?» – в лоб спросил Федор Федорович.
– Дело не в этом.
«Однако, я ее понимаю», – выручил фельдшер.
– Но пойми и меня. Скажи: мне нужна тут паника?
– Паника никому не нужна. Надо знать, что делать.
– А кто это знает? Об этом нигде не писали. Только слухи ходили.
– Я был там, Боря. Сутки спустя приплыл со спасателями. Потом нас предупредили, чтобы не распространялись, – «не сеяли панику». Я и не «сеял». Не хотелось опять – в Магадан.
– Федор Федорович, ты говоришь, «надо знать, что делать». А ты знаешь?
– Пока что, нет.
– Пока что!? Значит, в будущем, возможно, узнаешь?
– Возможно.
– От чего или от кого это зависит?
– От тебя.
– Ну, ты даешь!?
– Я ничего не даю.
«Я ничего не даю!» – заявил Федор Федорович. А теперь слушай! И несколькими точными фразами изложил мне свои сокровенные мысли. И я понял, что мы думаем об одном и том же, но каждый по своему. У меня перехватило дыхание. А он последовательно изложил события, происходившие на соседнем острове во время Цунами. И эта последовательность, в мельчайших подробностях, врезалась в память и не выходила из моей головы все последние дни.
Пока я болел, замполит вызывал к себе на беседу многих солдат и сержантов, так что скоро он был в курсе всех наших дел, кроме боевого дежурства. Пожарский наладил связь с гражданским населением и этим очень гордится. Часто он возвращается из поселка только под утро. Это вызывает тревогу: мне известно, у замполита на материке жена и двое детей. Я давно собирался поговорить с ним на эту тему, только не знал, как подступиться.
Он первый ко мне «подступился». Для меня было полной неожиданностью, вдруг, увидеть Пожарского оскорбленным. Выяснилось, он решил нанести визит к Леониду, и был выдворен. С ним обошлись даже круче, нежели со мной. А вдогонку его обозвали «Иудой». Имя библейского злодея никак не вязалось с горделивой славянской внешностью замполита. Но я не мог и представить, какой он сделает вывод из этих событий.
«Что, собственно, у вас тут происходит? – начал он.
«А в чем дело?» – поинтересовался я.
– Люди поговаривают о твоей связи с женой Карцева. Надо же! Путаться с женой подчиненного!? Представляю, какие анекдоты ходят среди солдат. Как мне, замполиту, смотреть им в глаза? И почему я должен выслушивать оскорбления от обманутого товарища? «Считаю, что Карцевым нет больше смысла оставаться на острове!» (в этой фразе я, вдруг, почувствовал голос Зины). Подай рапорт, пусть переводят на материк. Если ты не напишешь, я сделаю это сам, но дальше так продолжаться не может! Молчишь!? Ну и молчи! Все равно, отпираться – бессмысленно!
Я продолжал молчать. Мне почему-то казалось, я просто не так его понял: кто мог сочинить обо мне такую нелепость!?
Понемногу, словно просыпаясь, я начал понимать, в чем, собственно, меня обвиняют. Мне стало тошно. Первым желанием было сорваться с места, к которому был пригвожден грязным обвинением.
Распахнув дверь, выскочил на свежий воздух. Моросил мелкий дождь. Все вокруг было пропитано влагой. Подумалось, и, в самом деле, надо быть идиотом, чтобы любить эту скользкую мразь. Надеялся, Пожарский хоть здесь оставит меня в покое, но скоро услышал сзади его шаги: он задержался только чтобы накинуть плащ, и теперь, готовый к превратностям погоды, быстро догонял меня. Скоро я снова имел «удовольствие» слышать его голос.
«Имей в виду, – продолжал Пожарский, – я совсем не желаю тебе зла, но если мне придется действовать самому, будет хуже: от тебя потребуют объяснения люди, которые специально занимаются такими вопросами». Он говорил со знанием дела. Было похоже, ему самому-то уже пришлось давать объяснения этого рода. Неожиданно для себя я оказался лицом к лицу со своим мучителем и схватился за борт его плаща: «Замолчи! Это все ложь!» – Я смотрел на него снизу вверх, борясь с желанием сию же минуту разбить эту ненавистную физиономию, чтобы остановить поток несправедливых слов.
«Так я и знал, что ты начнешь отпираться!» – Пожарский даже повеселел. Он смотрел на меня сверху вниз, как на пойманного воришку, и стало понятно, он только и ждет, чтобы я потерял над собою власть. Эта мысль мгновенно отрезвила меня.
«Кто тебе это все сказал?» – Я не узнал своего голоса: бесила наглость Пожарского.
– Это моя забота: на то я и замполит. Я знал об этом уже через неделю после прибытия.
«Это бессовестная ложь!» – я не находил других слов и должно быть, в эту минуту выглядел беспомощным.
«По тому, как это тебе не понравилось, чувствую, что здесь – все правда», – сказал Пожарский с видом доктора, которому удалось, наконец, поставить верный диагноз. – И после этого ты еще будешь все отрицать!? Мне жаль тебя. Не умеешь врать – не берись. Ну, оступился, с кем не бывает. Думаешь, я святой?»
«Не думаю!» – признался я. Но он пропустил это мимо ушей.
– Все мы живые люди. Советую впредь быть со мной откровеннее: и самому будет легче, и вместе скорее что-то придумаем. Без доверия вместе служить невозможно. Ведь мы делаем одно дело.
Пожарский начинал выдыхаться: он явно не ждал от меня такого терпения. По его расчетам, я уже должен был либо во всем признаться, либо набить ему морду. Но я не сделал ни того, ни другого и он выглядел разочарованным.
– Ну, хорошо, не хочешь решать сейчас, обсудим вопрос позже. Соберись с мыслями, подумай. А насчет Карцева надо решать скорее.
– Мне нечего больше с тобой обсуждать! И никакой докладной посылать я не буду: у меня для этого нет оснований!
«Зато у меня они есть! – Пожарский явно нервничал. – Карцев меня оскорбил. Этого уже предостаточно! С тобой, я вижу, не сговоришься! Придется самому взяться за дело! Предупреждаю, тебе от этого легче не будет!»
Наконец, замполит оставил меня в покое. Я сел прямо на мокрый камень и облегченно вздохнул. Только сейчас мне пришло в голову, что «гаденький» дождик был здесь моим союзником. Я смотрел, как большими шагами, соблюдая выправку, Пожарский покрывал расстояние от меня до казармы. В одном месте он поскользнулся и сел, но быстро поднялся, обиженно взглянул на меня и зашагал дальше. Я думаю, такие люди, чаще всего, судят о других по себе. У меня были все основания считать его негодяем. Видимо, он об этом догадывался. Горячность замполита, скорее всего объяснялась желанием вывести всех вокруг на чистую воду, доказать, что и они нисколько не лучше.
6.
Вскоре я получил с материка предписание, выслать докладную записку. Командование интересовало, что у нас тут «творится»: Пожарский не терял времени даром.
О чем же я мог доложить? О его ночевках в поселке? С моей стороны, это было бы участием в склоке. Получалось бы, что мы просто хотим друг друга запачкать. Это было не для меня. Я ничего не ответил, предоставив Пожарскому возможность и в дальнейшем действовать одному. В скором времени с материка поступило еще одно предписание. Ни о каких докладных записках уже не было речи. Мне ставили на вид, что я в первый раз не ответил, и как-то неуверенно сообщали, что, в ближайшие месяцы, Карцева, по всей видимости, переведут на материк. По существу из письма следовало, что меня прощали, отдавая дань каким-то моим мифическим достоинствам, но, все же, слегка журили за некую распущенность. Советовали впредь быть воздержаннее и больше прислушиваться к мнению товарищей – то бишь Пожарского. В этих «предписаниях» я не ощущал «руки» полковника Ароновского. Они шли по линии замполита и, как бы, от политотдела соединения, но минуя, вернее игнорируя мнение командования.
Когда я увидел Пожарского в следующий раз, Он был настроен вполне дружелюбно. А глаза говорили: «Ну, теперь ты, наконец, убедился, что имеешь дело с человеком, который привык своего добиваться». Он подошел ко мне и сказал: «Борис, нам никак нельзя с тобой ссориться. У нас на руках слишком ответственное дело. Нам вверены живые человеческие судьбы и самая совершенная техника. В нашем положении заниматься интригами слишком большая роскошь. «Кто бы спорил».
А затем ко мне пожаловала Зинаида. Такой несчастной я ее никогда не видел. Она молчала, и мне ничего не оставалось, как только осведомиться о самочувствие Леонида. Она залилась слезами.
«Ему хуже?» – спросил я.
«Да что с ним сделается!? – взорвалась Зина.
– Значит, он поправляется? Тогда зачем плакать? Или опять что-нибудь стряслось?
– Стряслось! Кажется, если я не подохну, у нас будет еще одна Надюшка!
– Ах, вот что! Зачем тогда плакать? Разве это плохо? Если ты собиралась меня разжалобить, то уже не стоит трудиться. По всей видимости, через несколько месяцев мы расстанемся: вас переводят на материк.
– Не может быть!? Это правда, Боренька?
Ее щеки, вдруг, покрылись румянцем, а глаза зазвучали, как две прекрасные песни. И снова я был поражен: такой счастливой и красивой ее никогда не видел.
– Чего же ты раньше молчал!?
– Кому говорить-то? Вы оба давно не показываетесь и к себе не пускаете.
«Ах, какой ты хороший! – Причитала Зина. – Я знала, что ты все можешь! Как мы тебе благодарны!»
Она была до того счастлива, что, стиснув мои щеки ладонями, вдруг принялась так целовать меня, что я потом еще долго не мог прийти в себя и сообразить, что вся эта радость не имеет ко мне отношения. А когда сообразил, справедливости ради, напомнил о Пожарском.
«Прошу тебя, не говори мне про эту сволочь!» – неожиданно оборвала Зина.
Скрипнула половица. Мы обернулись: Ленька был уже здесь. Обессиленный, он привалился к дверному косяку. Глаза полны слез. Казалось, он давно боялся увидеть нас вместе. Я хотел подойти, но жена овладела им раньше и затараторила в самое ухо: «Леня, ты даже не знаешь, что для нас Боря сделал! Ты будешь так рад!» Осторожно взяв под руку, она уводила его домой, захлебываясь, втолковывая ему, как глухому что-то свое, сама на грани истерики. Я был готов от стыда провалиться сквозь землю. Передо мной была женщина, доведенная до отчаяния, вынужденная унижаться, теряя человеческий облик. А я невольно находился в центре этого изуверского действа, и чуть ли не дирижировал им.
По мнению Федора Федоровича у Карцева – нервная горячка. Фельдшер лечит больного домашними средствами, и постепенно Леонид поправляется. Последний раз Федор Федорович после Карцева зашел прямо ко мне и кое-чем удивил. Сюрприз был не очень приятный, но и не слишком нежданный. «Слушай Боря, однако, твой замполит почитай всех баб в поселке перепробовал».
«Вот гад!?» – вырвалось у меня.
«Слыхал, вы с ним не больно-то ладите, так я смотрю, дело такое, решил Анютку, загодя оборонить, то есть, как бы застраховать. Я навещаю больных – не бываю дома целыми днями».
– Понятно. И как? Застраховал?
– Застраховал.
– Завалился он в дом, когда меня не было. Думал девку потрогать, и получил свое.
– Маленькие полукапские хитрости? Некоторые называют их так.
– Ну да, вроде этого. Зато теперь он надолго запомнит.
Я не стал лезть в подробности, спросил о том, что меня волновало: «Как там старший лейтенант поправляется?»
– Скоро будет здоровый.
Ну и слава богу!
В нашей работе – чудесная сила. Уже ради нее есть смысл выздоравливать.
Мы ловко жонглируем в пространстве такими чудными «предметами», как электромагнитные колебания. В мерцающем свете сигнальных лампочек чувствуем себя в своей стихии. Капризная, мощная, туго сжатая сила бьется в толще черных шкафов, сообщая о себе язычками разноцветных огней.
Ночами иногда кажется, что наш остров бесшумно скользит в океане, а где-то рядом, в темноте, проплывают благоухающие теплые страны, и мне становится горько: все мимо и мимо плывет мой кораблик. На этом печальном суденышке я, по-прежнему, безумно один.
Люблю твердую землю, хорошие сухие дороги, ясное небо, красивые здания, но работать люблю там, где нервные клетки заряжены электричеством действия, где, пронизанный ноющей болью заботы, я обрастаю бородою туманов.
Должно быть, направляясь к нам, Пожарский уже знал, что в политотделе планируют выслать на остров инспекторскую комиссию, и спешил подготовиться, чтобы в грязь лицом не ударить.
Но, вместо комиссии прибыл один майор – маленький, лысенький, бодренький. Всю службу он проездил по такого рода командировкам, и привык относиться к ним, как к плановым вылазкам на охоту, рыбалку и прочее. Мой замполит оказался его старым знакомым. На материке они были, чуть ли ни соседями по дому. Пожарский встретил инспектора, как родного, а майор, обрадованный, что у черта на куличках попал к знакомому человеку, похлопывал его по плечу, называя просто, по-родственному, – «Коля».
Поселив гостя в комнате, торжественно именуемой «гостиницей», Коля явился ко мне и значительным шепотком сообщил: «Спокойно! Этот – не вредный, мешать не будет. Кстати, он привез письмо. Вот!».
Я вскрыл конверт. Солдату писала соседка по дому. Видимо, кто-то надоумил ее дать адрес политотдела: «Виктор, хочу тебе сообщить, – писала женщина, – изо всей вашей семьи твоя мама в доме осталась одна. Галя, сестра твоя, на прошлой неделе уехала в Красноярск вместе с мужем своим Володькой. Матери здесь одной тяжело. У нее на руках целый дом. А какие у нее руки! Она уже почти ничего не видит – старенькая у тебя мама. Галина приглашала ее ехать с ними, но она не поехала. Все ждет тебя. Вот видишь, попросила меня написать тебе, чтобы ты скорей приезжал. Сама уже ничего не видит. Виктор, приезжай. Дому нужен хозяин. Даже дров некому привезти и залатать крышу. Скажу тебе, что твоя мама совсем больная, а еще, что она все глаза свои выплакала тебя непутевого ожидаючи …»
Я вернул письмо Пожарскому.
– Составь ходатайство командиру части, чтобы выслали отношение в районный военкомат. Если подтвердится, я буду ходатайствовать о досрочной демобилизации.
– Хочешь потерять человека? Эти военкоматы почти всегда подтверждают.
– В том-то и дело, что чаще всего не подтверждают!
– Пожалуйста, я составлю ходатайство, но мы еще об этом потолкуем.
– Нам с тобой еще много о чем нужно потолковать!
И в самом деле, я искал случай потолковать с Пожарским в спокойной обстановке. Но никак не мог застать его дома после работы.
Сначала мне хотелось поговорить с ним о комсомольских собраниях. Я хорошо помнил наши собрания в дни, когда всем было очень трудно: мы собирались тесно, чтобы согреть, ободрить друг друга и обсуждали, как лучше распределить усилия, чтобы до холодов закончить с постройкой жилья и оборудованием рабочих мест. Мы собирались, как только намечался прорыв: вместе решать было легче. Выступали и предлагали главным образом те, у кого были золотые руки, кто мог научить, дать совет. А если находились лодыри, мне не надо было указывать на них пальцем: никому не хотелось делать за них работу. По правде сказать, это были не столько собрания, сколько производственные совещания. Когда подпирало время, нерадивым приходилось туго.
С приездом Пожарского многое изменилось. У него хватило энергии перестроить все на свой лад. Он любил говорить: «Комсомолия для замполита – архиважный участок работы».
Теперь на собраниях царили протокольные настроения. Конечно, это наше упущение, что раньше мы плохо вели протоколы: честно говоря, было не до них. Мы даже резолюции не всегда успевали оформить. Зато нынче собрания разыгрываются, точно по нотам, с развернутыми протоколами и заранее подготовленными резолюциями. У Пожарского на собраниях появился новый актив. Те, кто в трудное время сидели на задних скамейках и помалкивали, теперь пересаживаются вперед. Они тянутся к Пожарскому, видимо, ощущая в нем что-то родственное и убеждаясь, что от него теперь многое может зависеть. В выступлениях зачастило словечко «факты»: «Отмечать факты», «изживать позорные факты», «факты сами за себя говорят», «из этих фактов следует» и т.д. и т.п.
Эти факты все меньше и меньше начинали мне нравиться.
На комсомольских собраниях мне даже стало как-то неловко глядеть в глаза своих лучших солдат. Они словно спрашивали: «Объясните, что здесь, собственно, происходит?» А что я мог им ответить? Собрания идут по всей форме. Без каких бы то ни было отклонений от устава. Все выступления политически выдержаны. Резолюция красиво написана. Вот когда я пожалел о Леньке! На собраниях он умел зажечь настроение. Мы оба с ним в свое время часто ошибались, особенно в суждениях друг о друге. Но совместная служба здесь нас многому научила. Просто, до приезда Зины, нам с ним не хватало тепла.
Я давно стремился застать Пожарского после работы. И в этот вечер он, неожиданно, оказался дома.
Он меня принял весьма радушно. Угостил чаем, принес табуретку (я даже не знал, что у него есть еще одна), сам сел у стола напротив. Наше свидание было похоже на кабинетный прием: я – «проситель», он – чуткий «начальник». Так, должно быть, он здесь беседует с теми, кто пришелся ему по душе. Вид комнатушки придал моим мыслям определенное направление, и, забыв, с чего хотел начать разговор, я спросил, почему он не возьмет на остров жену. «Ах, плутишка! – погрозил он мне пальчиком. – тебе, верно, мало одной чужой женки?»
Я не ждал от него такой наглости, и, признаться, растерялся. Видимо, и Пожарский в этот раз не намерен был портить со мной отношения, а поэтому тот час же спохватился и попросил извинения.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































