Текст книги "Житие Блаженного Бориса"
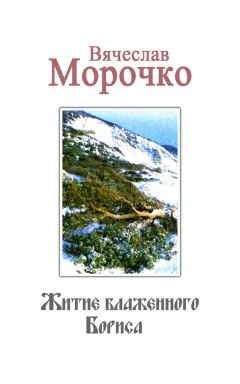
Автор книги: Вячеслав Морочко
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 21 страниц)
4.
На исходе зимы, меня и двух моих техников (ефрейтора и сержанта) вывезли небольшим автобусом на магдебургский полигон, где в это время проходили учения: на одной из станций вышел из строя наземный радио запросчик (НРЗ).
Скажу сразу, исправить поломку на месте не удалось. Сделав запись в станционном журнале, о том, что HPЗ требует ремонта на стендовом оборудовании, то есть, в условиях базы, я отправился искать начальника станции и зашел в ближайшую будку мобильного командного пункта. Обстановка здесь была полусонная. Мне показалось, я слышу тихую музыку, от которой становилось не по себе. Широкие плексеглазовые окна планшетов делили внутренее помещение надвое. У планшетов топтались дежурный офицер с указкой и считывающий данные диктор с микрофонной гарнитурой. Я заглянул в узкий, залитый ярким светом «дневных» ламп отсек планшетистов: именно здесь рождалась невыносимая музыка – я вновь слышал вальс Яна Сибелиуса. Двое ребят с гарнитурами наносили на органическое стекло маршруты воздушных целей. Я понял, это про них у меня в ушах звучит невыносимая музыка. «Грустный вальс» входил в меня тихим шепотом. Двое ребят в наушниках принимали данные от операторов РЛС и покрывали планшеты трассами целей и значками дополнительных сведений (время, высота, количество).
«Товарищ лейтенант, вы кого-то ищите»? – спросил ближайший ко мне планшетист. Его чистое честное лицо выражало только вопрос и ни малейшего предчувствия близкого конца. Я в двух словах объяснил, кто мне нужен. «Так вы ищите старшего лейтенанта Самойлова? – переспросил планшетист. – Минуту»! «Самойлов у вас? – спросил он в микрофон – Его здесь ищут. Ага хорошо»! Товарищ лейтенант, – это уже было ко мне. – Самойлов сейчас подойдет». Я поблагодарил, открыл дверь будки и спустился по трапу на грунт. На душе было тяжко. Этот солдат был моложе меня. У него были спокойный голос и ясное лицо… И он был обречен. Я чувствовал рядом смерть. Два молодых человека, едва начавшие жить, были заряжены смертью. И с этим ничего нельзя было сделать. Мои мысли путались. Я чувствовал, смерть будет странной страшной, но, скорее всего мгновенной, хотя я не знал, какой именно.
Смеркалось. Привыкая к сумраку, я сделал всего два шага и напоролся на замполита. Он бродил в чистом поле между зелеными будками мобильного командного пункта и уже нашел себе место, чтобы отлить без свидетелей, когда появился я.
– Лейтенант, вы кто такой? Откуда? Что здесь делаете?
Я доложил, кто – такой, откуда, что делаю. И даже показал журнал, который захватил с собой. «Здесь я все написал». Пока докладывал, подполковник не выпускал из рук «шланга», а, выслушав, отряхнул его и отправил в брюки. «Значит, расписались в бессилии»!
Извините, не понял.
И зачем таких тупых присылают!?
И тут появился Самойлов. Он вынырнул из-за будки и направился прямо ко мне.
Вы искали меня?
«Он хотел признаться, что с задачей не справился». – объяснил за меня подполковник. Я подумал, зачем ему надо меня уязвлять, и, вдруг, до меня дошел запах: он просто пьян.
По поводу станции мне пришлось еще раз все повторить начальнику штаба. Он был огорчен, что РЛС придется отправлять на базу. На время учений она фактически выведена из строя, а чтобы направить ее в Кенигсвальде потребуется месяц, а то и два на оформление. Тем не менее нас троих покормили, дали с собой немного продуктов сухим пайком и подбросили на попутке до ближайшей железнодорожной станции.
Когда все было обговорено, улучив минутку, я спросил Самойлова: «Что там стряслось с этими планшетистами»?
Старший лейтенант от такого вопроса даже опешил: «А ты откуда знаешь»(мы уже перешли на «ты»)!?
Чувствую.
Да брось! Что ты можешь чувствовать? Что-то слышал?
Ничего я не слышал! Говорю, чувствую!
Слушай, лейтенант, нам запретили об этом говорить.
Кто запретил?
Да тот замполит, который у тебя на глазах будку подписывал. И действительно, нечего сор выносить из избы! Что тебя это волнует?
Мне кажется, очень скоро ребят ожидает страшная смерть!
Да брось, лейтенант, думай лучше о том, как добраться до дома.
Железнодорожная станция представляла собой открытую платформу на маленькой тупиковой ветке. Пошел снег, засвистела метель, (это в центре Европы) и мы хорошенько промерзли, пока ждали поезда. Билеты приобрели уже в вагоне. Их было всего два. И тащил их маленький паровозик. Остаток ночи наш поезд медленно полз среди снежной равнины, а мы пытались согреться и подремать.
Под утро добрались до Магдебурга, сразу же купили билеты на так называемый пятьсот десятый поезд, который, следуя через всю страну, останавливаясь на самых крошечных полустанках, где были воинские части, в конце концов, должен был доставить нас в Кенигсвальде.
В Магдебурге был большой вокзал с воинским залом. Здесь тоже были патрули, но они не цеплялись, как во Франкфурте. Пассажиров было не много. Мы согрелись, отдохнули, перекусили и решили прогуляться по городу. А город был примерно такой, как мой Саратов. Как в Саратове, здесь ходили трамваи. Здесь тоже была река – пусть не Волга, а Эльба. Здесь так же был оперный театр. Там и тут была уязвленная гордая провинция.
Мы подошли к главному евангелическому собору Магдебурга. Мои техники жались ко мне: им было неуютно в чужом городе, далеко от дома и от своей части. Мною двигало упрямое любопытство, хотя, положив руку на сердце, на душе было не спокойно: тревожила судьба планшетистов.
Собор состоял из двух частей. Главное здание с огромным двух башенным порталом, куда я хотел попасть, было, видимо, на реставрации. Я определил это по слабым косвенным признакам: следы на ступенях, краска на створках дверей, немного строительного мусора у входа. Вообще-то, как мне говорили, немцам не свойственно мусорить, но эти признаки и не бросались в глаза. Я их специально выискивал в оправдание своей догадки, уж очень мне хотелось попасть в храм не во время богослужения, а неофициально. С правой стороны к стене Собора примыкало широкое одноэтажное здание, из окон которого доносились звуки органа. Я предположил, что это временный храм, заменяющий основной на период ремонта. Но туда меня не тянуло. Я поднимался к главному входу. Мне еще не приходилось бывать в церкви. Со стороны любовался, а входить не решался. Храм любой религии представлялся чем-то вроде космического вокзала, связывающего землю с заоблачными мирами.
«Товарищ лейтенант, вы хотите зайти? – спросил мой сержант.
Хочу.
Может быть, мы вас здесь обождем?
Отчего же?! Зайдем вместе, – решительно сказал я. И мы протиснулись в дверь, которой изнутри что-то мешало отворяться во всю ширь. Мы были поражены. Снаружи красно-кирпичный собор казался обшарпанным и закопченным. Внутри нас встретил ослепительно белый цвет. И то, что заглядывало внутрь сквозь огромные витражи, тоже казалось бело мраморным. Чистота окружавшего белого цвета была сродни чистоте белых простынь. Кроме нас в храме было всего несколько человек (то ли рабочие, то ли реставраторы). Они смотрели на нас с настороженным любопытством, как и мы на них. В храме было много мрамора в виде скульптур, постаментов, тумб и просто кусков. Мы были околдованы гулким пространством. Оно превосходило ожидание нашего воображения и напоминало белый кошмар.
Заметив несколько крупных не закрепленных стоящих с разным наклоном распятий и фрагментов распятий, я вздрогнул: эти бледные фигуры говорили о смерти и снова напомнили о планшетистах. В ушах опять звучал «Грустный вальс». Теперь храм казался не то большим патологоанатомическим залом, не то адской пугающе белой живодерней. Я почувствовал тошноту. Оставаться здесь было невыносимо. К тому же у меня, вдруг, пропал голос. Почти шепотом я сказал: «Ребята, уходим».
На вокзале мы сели в самый старый и самый медленный в Восточной Германии поезд, в котором каждое купе имело отдельный выход наружу, и проспали до самого Кёнигсвальде.
5.
Пришла весна и с ней время инспекторских проверок в войсках. Не ожидал, что мне лично придется в этом участвовать. До сих пор меня самого проверяли, и я сам испытывал дрожь перед проверяющими. А теперь я не знал, как себя вести с проверяемыми и вообще, что мне делать, что говорить. Как не ударить в грязь лицом, и в то же время соблюсти справедливость. О моем участии в проверке Стоякину позвонил знакомый офицер штаба Группы Войск, который ни раз приезжал к нам на Базу. Его звали подполковник Никифоров Сидор Иванович. Он и провел со мной инструктаж по телефону.
В назначенный час я должен был прибыть в Вюнздорф, к штабу Группы, и позвонить в отдел из проходной, а там уж меня подхватят.
– Как добраться до Вюнсдорфа?
Ну, не на поезде же! На попутках, конечно, как делают все. Вы поняли?
– Честно говоря, я дома-то никогда на попутках не ездил, а тут чужая страна, чужой язык.
Вот-вот – немецкий учить надо. В школе ты какой изучал? Немецкий? Тогда тебе и карты в руки.
Так то – в школе. Там специально учат, чтобы не дай Бог говорить не научился.
Подполковник хохотнул: «Да тут и языка-то никакого не требуется. Проголосовал, сел в машину сказал: «Битте, нах…» и назвал город
Вюнздорф?
Нет, конечно! Прямо до места никто тебя не повезет.
А как же?
Есть такая золотая фраза: «Бис курве нах… (До поворота на… и опять назвал город)». Изучи по карте маршрут. Знай все поворотные точки. И главное – побольше наглости.
От базы до автобана я шел пешком, потом до Цоссена с двумя пересадками добрался на немецких попутках, а дальше до Вюнсдорфа к проходной штаба Группы – на военной полуторке. Из проходной позвонил в свой отдел подполковнику Никифорову. «Быстро же ты добрался! – удивился Сидор Иванович. – Ступай где-нибудь перекуси. Через час мы выйдем», – он решительно перешел со мной на «ты».
Основную массу офицеров, приглашенных из разных частей, забрал большой автобус. Подполковник Никифоров (председатель комиссии) взял меня и еще одного лейтенанта в свой газик.
Мы долго ехали на север, минуя Берлин и вообще – большие города, мимо аккуратных лесопарков и живописных озер по самой глубинке Восточной Германии.
«Председательский» газик не всегда возглавлял колонну: порой он отставал от автобуса, а иногда, по указанию подполковника, выезжал на другую дорогу, тогда как автобус продолжал следовать заданному маршруту.
Моего соседа по заднему сидению звали Василий. Он так и представился: «Василий». Я в тон ему ответил: «Борис и спросил – Что кончал?»
Строевое.
Что будешь проверять на «инспекторской»?
Строевой смотр. Строевую подготовку.
«Он у нас строевик»! – подтвердил подполковник, – вышагивает, гоголем. Держим, как образец. У нас ведь отдел специфический – инженерно-технический».
Пустынная дорога шла пролеском. Справа, на опушке резвились два зайца.
«Стоп-машина! – скомандовал подполковник. – Васек, передай мою «дурочку».
Водитель затормозил, а «Васек» перегнулся назад, достал и передал Никифорову длинный, забранный в чехол предмет. Чехол еще не был снят, когда я догадался, что это – винтовка с оптическим прицелом.
Сидор Иванович опустил у себя стекло, выставил ствол наружу и начал прицеливаться. Непуганые серые зайцы встали, как вкопанные, и глядя на нас, прижав уши, насторожились. После зимы они выглядели довольно тощенькими и несчастными. Два выстрела прозвучали сразу один за другим.
В машине звук почти оглушил так, что я схватился за уши. Набежала слеза.
Прозвучала команда: «Васька, вперед! Мешок не забудь»!
Васька был уже наготове и немедленно рванул к лесу.
«Отличный парень, – как бы оправдывался подполковник, зачехляя ружьё, – нам с трудом удалось его удержать в отделе. Знаний маловато, но не заменим, когда надо что-то прибить, достать, подмести, принести, передать».
Василий уже копошился сзади машины, загружая мешок в багажник. «А теперь догнать и перегнать»! – приказал водителю «председатель» , как только лейтенант запрыгнул на сидение.
Вась, а Вась, как там зайчики?
Один еще дрыгался, верещал. Чуть не царапнул. Пришлось рыло свернуть!
«А ты бы так смог»? – спросил он мня.
Я? Нет!
Вижу, ты не охотник.
И не борзая – добить, принести.
«Вижу, не одобряешь? – констатировал подполковник. – Зря я тебя у Петра Ивановича выпросил. Думал оценишь. Не знаешь ты нашей жизни! И знать не желаешь! Короче: «Чужак!» Тебе не понять, когда куда-нибудь выезжаем – нам главное оторваться от штаба, расправить плечи, вдохнуть свободы! Вот ты лично, что думал проверять на инспекторской?»
Как что!? Станции.
«Станции!? – Никифоров рассмеялся. – А много ты знаешь станций, что бы проверить? Они же все разные: Метрового сантиметрового, дециметрового диапазонов, обнаруженческие, орудийной наводки, станции наземной артиллерийской разведки, и все это есть в дивизии, куда мы едим. Ты готов?»
Готов!
Как ты это себе представляешь?
Я все продумал.
Ну, ну, поделись!
Локатор есть локатор – принцип один. Попрошу на ночь в одну из комнат штаба принести документацию на все типы станций.
И что?
К утру подготовлюсь. В документации есть основные проверки и установки для определения готовности станции. У нас так работает контроль ОТК. Но мне все не нужно. Только самое-самое важное!
А ваше ОТК пользуется документацией?
А как же!
Ну, и кто тебя ею здесь обеспечит?
Товарищ подполковник, это ваши проблемы, это вам надо.
Ух ты как заговорил, лейтенант!
Вы сами советовали: «Побольше наглости».
Ну ты даешь!
А как же вы раньше-то проверяли?
Что мы проверяли: порядок, чистоту, покраску! Что бы не было разбитых плафонов! Чтобы портянки в станциях не валялись!
«Товарищ подполковник, – встрял в разговор Василий, – а, может, он шпион? Ишь ты какой!? Выложи ему документацию и все тут! Документация, наверняка, секретная! А, может, нам пристрелить его, как этих зайчиков? Или рыло свернуть?
Закрой рот, Василий! Ладно, Боря, валяй. Обеспечу я тебе на ночь документацию, если ты такой умный. Но только учти дверь на ключ запру и часового поставлю!
Ради Бога.
Не прошло и пары часов, как мы прибыли на место, в скатывающийся к озерам городок Нойштрелиц.
К вечеру локаторщики устроили для меня неофициальный ужин в городском «гасштете» на берегу озерка. Было много пива и «тараньки» – вяленой плотвы, воблы, леща, уклейки и собственно тарани. Здесь собрались в основном начальники станций. Они ласково называли гасштет «У мути» то есть «У мамаши»: пожилая хозяйка единственная в городке, разрешила русским офицерам отбивать, чистить и рвать на столах тараньку. После чего местный народ почему-то стал избегать ее заведение.
Когда мы вышли гурьбой из гасштета и спустились к воде, я чувствовал себя расслабленным, разомлевшим, почти что счастливым. «Какое красивое озеро!» – невольно вырвалось у меня.
«А хочешь, мы тебя в нем искупаем»? – кто-то сказал почти шепотом.
Да нет уж, не стоит: холодновато.
«Тогда, делай вывод», – произнес тот же голос.
На другой день был строевой смотр дивизии. Сначала – в каждом полку отдельно. Потом вся дивизия прошла по плацу с песнями и под оркестр торжественным маршем мимо трибуны, перед штабным начальством и членами комиссии. То был воистину день триумфа Василия. Там и тут он придирчиво проверял внешний вид, строевую выправку, демонстрировал строевые приемы с оружием и без оружия, на месте, в движении. День напролет – с упоением, выпятив грудь, «ходил гоголем», всех поразил, всем намозолил глаза.
В одной из комнатушек штаба я был заперт с секретной документацией на все типы стоявших на вооружении радаров. Больше всего меня волновали не РЛС слежения и орудийной наводки ПВО, которые изучал в училище и теперь ремонтировал на базе, а станции наземной артиллерийской разведки (СНАР). По трассам артиллерийских снарядов они позволяли определять расположение вражеских батарей, но с ними мне еще сталкиваться не приходилось. Я заготовил и закодировал, как учил Магнитштейн, понятную только мне одному шпаргалку по контролю и настройке основных параметров.
На следующий же день я сдал всю документацию, включая шпаргалку в секретную часть и начал инспекторскую проверку.
Сам не ожидал, что буду таким придирчивым: меня разозлили разговор в машине и угроза искупать в озере. Я тоже начал с внешнего осмотра, но основное внимание уделил техническому состоянию и боеготовности техники. В огромном открытом парке, где выстроились РЛС, я переходил от станции к станции. Сначала осматривал внешне, потом просил включить, сам проверял параметры. Если что-то не соответствовало, предлагал, пока есть время, подстроить, наладить, заменить неисправные узлы и детали, отмечал в тетради дефект, переходил к следующей станции, потом возвращался, убедиться, что дефект устранен. Это чем-то напоминало гроссмейстерский сеанс одновременной игры в шахматы. Оценка получалась сама собой: если повторно не заходил – отлично. Заходил один раз – хорошо. Остальные – удовлетворительно. Двоек и колов не ставил. Только у одной станции записал в журнал: «По сроку службы станция нуждается в среднем ремонте», то есть отправки к нам на базу. В результате проверки и материальная часть была приведена в боеготовное состоянии, и люди кое-чему научились. Начальники станций благодарили меня. Командир дивизии пожимал мне руку. Но в последнюю ночь в Нойштрелице один из членов комиссии все-таки искупался в озере. Вася сказал, что, возвращаясь из города в казарму, нечаянно оступился на мостике. Интенданты дивизии немедленно выделили ему комплект сухого обмундирования. Все были довольны. Даже подполковник Никифоров выразил мне благодарность, но на обратном пути в свой газик не пустил, отправил в автобус.
6.
Когда я рассказал, как прошла инспекторская проверка, Стоякин рассмеялся и спросил: «Борис, чего бы ты для себя больше всего хотел?»
– Хотелось бы учиться дальше.
– Ты еще будешь учиться, я тебе обещаю. Но твое предназначение – в другом.
В чем же?
Скоро узнаешь. А сейчас я тебе расскажу, что несколько лет назад случилось неподалеку отсюда.
– Неподалеку, – это в ближнем лесу?
Чуть дальше.
В соседней стране?
Не в соседней, но в ближней, фактически через страну: страны-то здесь – малюсенькие.
Речь, скорее всего, – о Венгрии?
Угадал!
Значит, о Венгерских событиях.
Именно!
Ну, и как?
Это был настоящий кошмар! Помню, когда ночью наша колонна вошла в город, он еще выглядел вполне мирно: сияли витрины, по улицам ходили люди. Бросались в глаза освещенные изнутри телефонные будки со справочными книгами внутри. Но, присмотревшись, заметили два наших танка со снесенными башнями. Мы свернули на какую-то улицу и неожиданно попали под мощный прицельный огонь со всех сторон из орудий и стрелкового оружия. Потом я увидел зарево, а на фоне его – колокольню церквушки, с которой вдоль улицы бил крупнокалиберный пулемет. Наш танк стреляет, не может попасть в колокольню. По асфальту ползут раненые в крови, обгоревшие танкисты. Нельзя высунуться, оказать помощь. Помню, укрылись в телефонной станции. Из батальона уцелело пятнадцать человек. Стало ясно, положение вышло из-под контроля. Начались грабежи магазинов. В беспорядки вовлечена молодежь. Жители покидали город. Если солдаты мирно беседовали с горожанами, по ним тот час же начинали стрелять из-за угла. Наши бронетранспортеры не имели крыш: их можно было просто забрасывать из окон гранатами и бутылками с зажигательной смесью. Состояние истерики подхлестывалось ублюдочными формулировками типа: «Ревизионистская крамола», «Боннский реваншизм». А друзей называли по-идиотски: «группой здоровых лиц».
В результате событий мирное население потеряло две с половиной тысячи человек убитыми и двадцать тысяч – ранеными. С нашей стороны погибло семьсот человек, ранено – полторы тысячи.
Петр Иванович умел рассказывать, особенно, когда делился личными впечатлениями.
– К чему я это говорю? Так или иначе, надо учиться влиять на события.
– Разве можно этому научиться?!
– Думаю, можно. Что ты чувствуешь, когда тебе плохо?
– Трудно сказать, смотря в каком случае. Но чаще всего,
когда ощущаю тревогу, чешется правая ладонь. И чем больше тревога, тем сильнее зуд.
– Зуд!? Это странно!
– В центре ладони как будто возникает задирина. Царапаю ее
ногтями. Кожа как будто отслаивается и ее можно снимать лепестками-лохмотьями вместе с мясом и мелкими косточками. Ладонь раскрывается, точно кровавый цветок. А потом начинают зудеть руки, плечи, шея.
– А как вы это чувствуете?
– Плохо. Страшная слабость, головная боль, ноет сердце, пока не нащупаю «кнопку». Там, где два нижних ребра сходятся на грудине, у капеляна и полукапа есть болезненный выступ. Он есть у всякого , но у других – не такой болезненный. Если сильно нажать на него, боль становится невыносимой, до потери сознания. Боль – своего рода реле, включающее, скрытые механизмы, влияющие на окружающий мир, который резко меняется. Я чувствую это, когда выхожу из беспамятства. Убийственное, невыносимое, немилосердное, дьявольское теряет свою остроту, становится терпимым, удобоваримым.
– Но это фантастика!
– Ни чуть не большая, чем твой фокус с мокрицей.
– Выходит, у каждого – свое.
– Я общаюсь со многими и вижу, что «кнопка» это – для всех,
тогда как «мокрица» – метод редкостный. А Магнитштейн вам об этом не говорил?
Не успел. Или постеснялся. Зато говорила Мария Ивановна.
Колюжная? Знаю ее. Очень умная женщина
Я так понял, это вещи сугубо интимные.
– Интимные, но серьезные. Как видите, можно по разному влиять на события.
– Это можно воспринимать, как искажение действительности.
– Вопрос техники. Можно воспринимать, как угодно, лишь бы влиять. Но это немыслимо без жгучей необходимости!
– Как-то странно, что это досталось именно мне – человеку, можно сказать, постороннему в этой жизни.
– Мне так не кажется.
– Но вы даже не знаете, каких усилий мне требуется, чтобы говорить с другими на равных на общие темы!
– Действительно, не знаю и с трудом верю.
– Ну, хорошо, вернемся к Венгерским событиям. Вы говорите о влиянии. Но тогда вы были возмущены, испытали шок – жгучее неудовлетворение происходившим, и никак не могли повлиять?
В том-то и дело! Тогда я только нащупывал возможности, искал семена зла.
А теперь нашли?
Прости, Борис, ничего определенного сказать не могу. Есть только догадки и надежда на твою помощь.
Не густо. Особенно второе.
– Огромная почти пустая страна! Если иные страдают от тесноты, мы пропадаем от пустоты.
– Разве простор – это плохо?
– Все хорошо в меру. Есть критический уровень пустоты, после которого опустошение прогрессирует. Огромность пространства порождает скуку, ленивое безразличие, к результатам труда, к людям, безвкусие. Немеренность – зла и тосклива. Убивая соревнование, она благоволит бездарностям, ведет к вымиранию и оскудению. Естественно встает вопрос, есть ли смысл заполнять пустоту? Не лучше ли держаться от нее подальше. Все разумное стремится от пустыни к цивилизации, а не наоборот. Можно, конечно, вдохновить на короткий подвиг отшельничества и мученического труда, но это, как правило, в скором времени вырождается в халтуру. И наоборот теснота малых земель и городов может одарить любовью и трепетным вниманием к каждому клочку земли, к каждому дому, каждому камню, как к редкому дару.
В громадной стране в связи с немыслимыми расстояниями возникают трудности с коммуникациями, с общением, с обменом опыта и вообще хроническая задержка развития. От неумения создавать и распределять блага, от скуки, неудовлетворенности в обществе распространяется пьянство, закипает бешенство неудачников, обиженных и завистников. Формируется класс несчастных людей не способных проявлять инициативу и улыбаться.
У правителей огромной земли возникает панический страх невозможности защитить ее от соседей. Единственный путь, превратить государство в единый военный лагерь. Вместо любви к земле прививается сознание лагерника. Вот с этим сознанием мы и живем и общаемся с народами малых пространств, то есть с нормальными компактными народами.
– Я бы сказал, за такие мысли не поздоровится.
– Считай, что это врачебный консилиум.
– Какие же мы врачи!?
– Действительно, скорее знахари или шаманы.
Он рассуждал, как истинный «враг народа». К этому я не был готов. Меня возмущали не столько сама крамола, сколько коварство мысли неожиданно перевернувшее представление о человеке. Я был в одном лице и прокурор и судья, и не мог выслушивать лепет его оправданий. Чувство, что я испытывал, было сродни восторгу: никогда не думал, что ненависть может вызывать восторг. Это происходило от уверенности, что в любую минуту можно запустить вариант «мокрицы». Но сначала можно насладиться разоблачением, торжеством чувства собственной правоты, низостью и беспомощностью супостата. Оправдания его не то что, не доходили до моего сознания, они были мне не интересны. Меня распирало мстительное победное чувство.
Возбуждение и возмущение скоро утомили меня: по сути своей я был человеком с уравновешенной психикой и не привык долго «бушевать». При этом я не издавал никаких возгласов: у меня даже не было заготовок слов, которые невольно вырываются в таких случаях у нормальных людей. Потом мне все обрыдло. Пустота, о которой говорил Стоякин, в сознании моем стала отождествляться с усталостью, которую я начал испытывать. И, вдруг, неожиданно для себя, я предложил: «Вот что, давайте разберемся спокойно». «Вот! Это самое главное! – подхватил он. – Значит, действует?!»
– Что имеете в виду?
– Как раз то, о чем мы говорили: о влиянии на события!
– Вы просто внушили мне эти слова!
– Какие слова!?
– «Давайте разберемся спокойно».
– Я вам что-нибудь говорил или как-нибудь к ним подвел?
– Не знаю…
– Всё вы знаете! Я вам показывал.
– Простите.
– Что с вами, Борис!?
– Как-то не по-себе… Так вы это с помощью «кнопки»!?
– Да, только я ничего не внушал. Просто мы успокоились, сроднились и стали понимать друг друга.
– Сроднились!
– Да, это, видимо, ключ к пониманию.
– Я хочу научиться.
– Учитесь, Борис, вы сможете. Вас для этого сюда и прислали.
– Только для этого!?
– Для этого… и для всего остального.
И я начал учиться. Новый прием не то что не был мне свойственен, он был для меня неудобен. Честно говоря, после описаний Стоякина, и, особенно, после первых проб я, просто. боялся притрагиваться к «кнопке». Удивительное дело, мне никогда не приходило в голову пробовать его действие на подчиненных. Мои отношения с ними были настолько естественными, что я боялся что-либо в них нарушить. Раньше я никогда никем не командовал. Все командовали мной. Я так понимаю, в училище не было более робкого курсанта, чем я. Теперь мне казалось, бойцы испытывали ко мне если не сыновнее, то братское чувство. Попросту говоря, они жалели меня. А я жалел их. Сам не знаю, почему. Они не мерзли, не испытывали голода. И служба у них была интересная. Мы с ними ходили в караул, бегали кроссы, ездили на стрельбы а, главное, вкалывали в цеху. Не мешки, конечно, таскали, но вкалывали так, что мало не покажется. Петр Иванович показал применение кнопки на моем примере. А я не мог никого найти, не мог решиться выбрать партнера в этой игре. Когда я поделился с полковником, он еще больше все усложнил, сказав: «Партнер может быть не один. Может быть много партнеров – вернее, может быть коллективный партнер. Кстати, Борис, – спросил он меня, – ты последнее время читаешь газеты?»
– Последнее время некогда.
– Телевизор хоть смотришь?
– Да я по-немецки – не очень.
– Понятно.
Телевизоры у нас у всех были. Старенькие с маленькими экранами. Мы покупали их по дешевке у тех, кто возвращался по замене на Родину. С нашими антеннами мы принимали всего два канала: один из Восточной германии и один из западного Берлина, который местному населению смотреть не разрешалось. У немцев была хорошая музыка – и легкая и серьезная. По Восточному каналу все больше вещали, по Берлинскому – больше развлекали, Но последнее время много разговаривали по обоим каналам, и все чаще слышалось слово «Чехословакай»: приближалась тревожная пора, так называемой, «Пражской Весны». Я понимал, что беспокоило Стоякина: он не только не выпускал Венгерские События из виду, но и меня заразил тревогой. Он передал мне стопку газет, которые полностью дублировали друг друга, не позволяя себе никакой вольности. Из них и из передач БиБиСи я хотя бы приблизительно выяснил, что происходило в соседней стране. А происходило там нечто странное, называвшееся «демократизацией». Для чего? Разве и без этого у них не было власти народа? Как только ослабла цензура, появились высказывания в пользу экономических реформ, за ускорение политической реабилитации. Среди интеллигенции (писателей и студентов) стало распространяться инакомыслие. Впервые появилось выражение: «Социализм с человеческим лицом». Провозглашена «Великая Хартия Вольностей»! В результате, секретарь президиума Центрального Комитета КПЧ и одновременно президент Чехословацкой республики, Навотный вынужден был оставить свои посты, уступив первый – Дубчеку, а второй – генералу Людвигу Слободе.
Я не вполне разделял тревогу Стоякина. Здесь не было фашистского переворота. В Чехословакии, в отличии от Венгерских событий, вооруженный народ не ходит по домам, убивать евреев и коммунистов. Но полковник объяснил, что «Пражская Весна» приведет к более независимому курсу внешней политики, что вызовет подрыв восточно европейской системы военной безопасности, а, возможно, и цепную реакцию ее распада. А это способно нарушить установившееся военное равновесие в мире. Советский Союз этого не потерпит – вмешается. И опять будет кровь. Много крови.
– А может быть не вмешается?
Петр Иванович только грустно смотрел на меня.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































