Текст книги "Житие Блаженного Бориса"
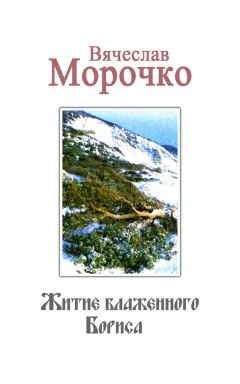
Автор книги: Вячеслав Морочко
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц)
4.
На клубной лавочке меня поджидала чета Магнитштейнов. Преподавателям в отличие от офицеров подразделений (командиров взводов, батарей и дивизионов) разрешалось брать жен в лагеря. Если строевые офицеры ютились в палатках, то у преподавателей был маленький барачный городок, где каждый имел отдельную комнату. Но удобства все равно стояли на улице, не то, чтобы общие, – а раздельно М от Ж.
Прасковья Ивановна прикатила, как только муж телеграфировал по «семейному телеграфу» о событиях в лагере. Выяснив обстоятельства, она возвратилась в город и прежде чем вернуться обратно, справила некоторые тяжкие дела, бремя которых взвалила на себя добровольно, можно сказать, по зову души.
Среди знакомых, можно их называть почитателями, а еще лучше – жертвами, она отыскала нужного человека, который через третьих лиц нашел ей другое нужное лицо из военных юристов, который мог довести в правильном русле дело «О лагерном карауле». Сложнее всего было найти эту личность и внушить охоту взяться за дело, которое никто не хотел на себя взваливать. Остальное уже было делом техники. Познакомившись с «жертвой», она бралась за нее с присущей страстностью. Ей не надо было ждать случая, когда жены не окажется дома. Она ныряла в чужой альков, когда в доме все крепко спали, будила жертву и приступала к любимой работе: приперев обнаженной плотью, внушала то, что считала нужным, подчиняя себе прокурорскую волю. «Мышцы несчастного до того расслаблялись, что он непрерывно трещал, выпуская газы, жена от этого шума иногда просыпалась и, не открывая глаз, сквозь сон, жаловалось: «Дорогой, ты что нынче так распукался, – спать не даешь?» – изящно хвастаясь на клубной скамеечке Прасковья Ивановна. При этом белое с небольшими веснушками лицо Магнитштейна становилось пунцовым: будучи полукапом он все же оставался интеллигентом, то есть, подобным мне, размазней.
Из нас троих, именно она была «мачо», владеющим харизмой вождя,. В ней жил азарт хулиганки, но при всей свирепости и утрированности женского начала, была она незлоблива и незлопамятна и уже не помнила, как однажды я ногой проводил ее на пол со второго яруса курсантской лежанки.
Боря, – спросила она, – а вы не заметили, этим летом, в лагере новое лицо?
– Этим летом я в лагере, можно сказать, и дня не прожил.
– Ну да, разумеется, это я не учла. В таком случае, обратите внимание: в офицерской столовой – новая буфетчица.
– Честно сказать, в офицерскую столовую меня никогда не тянуло.
– Я имела в виду только буфет.
– У нас – солдатский буфет. Офицерский нашему брату – не по карману.
– Понимаю: халва и ситро – шалунишки-слаткоежки! – она хохотнула, – как-то у вас все не по-мужски, не по-русски.
– По-русски это что – шоколад пралине пирожное безе, трюфели?
– Колбаса и водяра – все, что вам надо!
Мы опять с ней потихоньку входили в состояние конфронтации. Меня раздражали ее похотливая озабоченность новыми лицами, неуемная гордость чистотой своего капелянского происхождения и особыми капелянскими доблестями. Она как-то выразилась, что Земля не подозревает, какие раскаленные характеры населяли схлопнувшийся героический мир. Я возразил, дескать, уверен, что там были всякие: и герои и трусы и гении и бездари, и благородные и подлые – самые разные, как везде
«Ты ничего не понимаешь! – говорила отчаянная патриотка исчезнувшей тверди. – Там действительно была жизнь – не просто страстишки, как на этой горошине, а всепоглощающая кровавая страсть с большой буквы! Страсть, исполненная муки и ужаса смерти, рева и визга мучений, разбросанных конечностей и внутренностей – мясорубка плоти, но зато торжество, апофеоз страсти. Это нельзя понимать! Это надо почувствовать. Иногда я завидую тем, кто сгорел там заживо. Это великое аутодафе – одновременно и сумасшедшая мука и страстное наслаждение. Как жалко по сравнению с этим выглядят здешние сказочки про любовь, служащую продолжению рода! Капелянская страсть, напротив, служила уничтожению рода, ради наслаждения личности. Там у жизни был четкий смысл: мы рождались, чтобы получать наслаждение, чтобы искать наслаждение, чтобы драться за наслаждение. Мы были расой прекрасных богов.
Слушая ее высказывания, сам Магнитштейн скромно улыбался в усы. Мне было трудно понять, то ли он побаивался ее, то ли гордился своей половиной. Эта пара была, действительно, как лед и пламень. Он – скромный, спокойный и педантичный, она взрывная, неугомонная, однако умеющая притворяться сдержанной, даже мудрой. Я подозревал, что она не глупа, но ей нравилось оборачиваться ко мне непотребной стороной. А он улыбался в усы, как будто знал нечто мне неведомое.
Вообще-то усатые часто вызывают недоверие. Спрашивается, зачем им под носом лишняя растительность, делающая человека похожим на кошку или таракана? Но когда обнаружил, что усатые чем-то настораживают, даже пугают, догадался, что усики – всего только демонстрация, лучше сказать имитация, мужской силы, мужества и просто угрозы для незадачливого самца. Кроме того, усы это маска за которой легко спрятать растерянность, страх, смущение или, просто, волнение. Короче, эта некая черта, которая в действительности отсутствует, но очень хочется, чтобы она была. Тот, кто реально владеет грозными свойствами, либо не носит усов, либо носит их по традиции часто национальной, а еще чаще антинациональной. Например, можно носить усы антисемита-Насера, чтобы скрывать свои еврейские черты.
По-моему, мы говорили про буфетчицу, напомнил рыжеусый майор.
– Не люблю буфетчиц.
– Это совсем не то, что вы думаете. И потом, вас никто не принуждает влюбляться.
Я невольно взглянул на Прасковью. Поймав этот взгляд, Магнитштейн расхохотался: «Господи! Тут все иначе!
– Иначе это как?
– Взгляни сам! Ну, приди, купи у нее что-нибудь.
Я проклинал то обстоятельство, что вернулся именно в выходной день. Но разве можно винить обстоятельства!? Не в них ли – самое святое и мистическое, что нам предоставляет жизнь? В воскресенье некоторых счастливчиков приезжали навестить родные. Был даже ветхий барак, который гордо называли гостиницей. Но выходило, что и у меня здесь оказались родственники, которых знали все наши ребята. Но главное, что я сам сознавал, что Магнитшейны, действительно состояли со мной в каком-то родстве, так же, как все земляне были друг другу родными. А мне были родственниками и те и другие. Не будем уточнять степень родства. Тут лучше не копать.
Магнитштейны проявили настойчивость. Им было любопытно, что выйдет. Меня все это утомляло. Я глядел на них с улыбкою юного старца. Меня утомляли и вместе с тем казались забавными их приставания. Они поступали со мной так, как со всеми поступала жизнь, когда она была спокойна и не напоминала фурию. Короче, через полчаса я оказался в очереди в офицерский буфет. Буфетчицей оказалась девица небольшого росточка с мало запоминающейся физиономией. Она либо совсем не пользовалась косметикой, либо пользовалась в таких незначительных дозах, что неопытным глазом трудно было заметить.
Ее движения были столь стремительны, что я невольно решил, что она капелянка. Качественная сторона ее облика ускользала. Я бы затруднился сразу сказать, красива она или наоборот, – неприглядна.
Когда подошла моя очередь, я даже не успел выбрать, что взять. Пришлось назвать стандартный курсантский набор: 200 граммов халвы и бутылочку лимонада. Я не сразу засек, что, услышав мой голос, она точно захлебнулась воздухом и впала в оцепенение.
– Барышня, что вы, как дохлая курица! – проворчал маленький бритоголовый, с усиками а-ля Котовский, преподаватель «Партполитработы» капитан Шмытько. Он страдал наполеоновским синдромом неприятия всех, кто выше его росточком.
Я возмутился: «Как можно такое говорить женщине!?»
– А вы бы молчали, товарищ курсант! Вообще, что вы здесь делаете в офицерской столовой?! Халва есть и в вашем буфете!
– Разве дело в халве?
– Вы еще разговаривать будете!? Вон отсюда! И чтобы я вас тут больше не видел!
Я хотел открыть рот и что-то сказать. Меня перебили: «Молчать! Смотреть мне в глаза»!
Если в обычные дни офицеров кормили по специальным талонам, то в выходные – столовая работала, как кафе, за деньги. Почти все столики были заняты. В бараке стоял гул, и разговор у буфета могли слышать лишь те, кто был рядом. Но сидевшая через два столика чета Магнитштейнов слышала почти все, потому что прислушивалась, потому что пришла, чтобы слышать. Я не хотел смотреть на Шмытько, но не смог удержаться. Это был только миг. Я увидел лишь то, что находилось у капитана под носом. Его усики топорщились и ерошились.
Я, было, решил, что в волнении им так и положено становиться торчком. Но понял, что заблуждаюсь.
Эти усики, не просто топорщились, они трансформировались: сначала напоминали густую щетину, потом странно слиплись и раздвоились, затем прыснули в стороны и стали длиннее, чем у Магнитштейна, потом вдруг стали больше самого Шмытько, и, наконец, вдруг, шмыгнули куда-то ниже прилавка вместе с хозяином.
Пока девушка выходила из оцепенения, я расплатился, взял блюдце с халвой, ложечку, бутылочку с надетым на горло бумажным стаканчиком и проследовал к столику магнитштейнов.
«Это, случайно, не ты его?» – кивнув в сторону буфета, спросила мужа Парасковья.
– Мокрицы не мой профиль. Это Боренька – специалист по членистоногим.
– Да, я интересуюсь этими тварями. А в чем дело?
– Я думаю, а не раздавят ли его тут, походя, товарищи офицеры.
«Боишься, ценный кадр пропадет? Не волнуйся, – успокаивал жену Магнитштейн, – Шмытько – мужик тертый, шустрый и скользкий. Часа не пройдет где-нибудь высветится».
«Ну, тогда нам здесь больше нечего делать, – сказала женщина, поднимаясь с места, айда, Мотя, покувыркаемся».
– Тебе бы все кувыркаться!
– А чем же еще здесь на лоне природы заниматься?
Они как будто перестали меня замечать.
5.
Перед отбоем наш взвод построили и объявили: что мы назначены дежурным взводом. Был такой вид наряда на непредвиденный случай – дежурный взвод. На моей памяти таких случаев еще не было. И в этот раз, ложась, мы рассчитывали поспать до подъема.
Ночью, под сенью палатки, на жестком матрасе, устилающем составные деревянные нары, я пускал почти детский храп к небесам полным звезд и соснового духа. Полы палатки были приподняты и сонные голоса леса сливались с сопением моих однокурсников. Я смотрел вещий сон, как смотрят в кино прямой репортаж. Мне приснился начальник училища – генерал Алексеев. Я не видел его… – я был им самим. Была жаркая ночь. Я сидел на скамеечке возле домика, называвшегося «генеральскою дачей». Играла шелестящая музыка. Так шелестят листы жести, по которым носятся хулиганы. Это музыка – боли сердца. И, легонько прикасаясь ладонью, я чуть-чуть утоляла эту боль. Последнее время жизнь все чаще казалось, висящей на волоске. Какое счастье, что мы (командиры частей и бригад) когда-то нашли это место – без мошек и комаров, где в жаркую ночь можно снять с себя лишнее. Каждый хвастал, что это его заслуга. А потом оказалось, лагеря здесь еще – от Нестора Ивановича. Я был в одной майке, но от боли и недостатка воздуха меня бросало в жар. В окне за спиной, в комнатке, где стоял диван и где обычно генерал отдыхал, уютно горел ночничок. Эта музыка боли, и все события последней недели гремели безжалостной жестью, кололи шпагою флейты, вонзавшейся в грудь. Училище – его училище – несло потери в мирное время. И расследование ничего не дало. Это была катастрофа, не совместимая с жизнью. Над генералом сгустилась туча, и это видел каждый в училище. Даже молодая жена генерала (он недавно женился вторично) не поехала в лагерь, предчувствуя скорое возвращение. Когда-то он был «молодым богом» – деревенским драчуном, а в армии отчаянным рубакой. Он умел звереть, – наливать кровью глаза, вернее, делать вид, что звереет. По сути, он был добрейшим и даже трусливейшим человечком, но мог позволить себе доброту только дома, где им командовали женщины: мать, супруга, две дочери, вторая жена, случайные походные жены. Но со временем ему обрыдло их обслуживать, а им – вилять перед ним аппетитными попками. Он стал до слез, до обморока жалеть молодых офицеров, солдат и курсантиков, потому что страдал, ощущая себя «последним евреем», так ему рисовалась пропасть ущербности, от того, что не имел своих сыновей.
Теперь по утрам, просыпаясь, он чувствовал влажный след свисавшего через губу змеиного жала. Это был, родившийся в генеральском сознании, суеверный знак угасания. Поселившийся в нем подлый змий медленно поедал внутренности, откладывая зловонные желеобразные экскременты. Он пил, чтобы выжить змия, не веря, что это поможет. Кроме музыки боли он слышал сейчас и нечто иное. То доносились чуждые ему дрыгающие танцевальные ритмы, ни то из офицерской столовки, ни то из ближних офицерских бараков. Почему-то именно теперь вместе с глупыми игривыми звуками он подумал о Паланове – об этом до нелепости жалком курсантике, судьба которого как-то странно сцепилась с его собственною судьбою. Если будет доказано, что Паланов, действительно, виноват, это автоматически будет значить, что виноват и он – генерал Алексеев, – что он где-то допустил недосмотр, а, может быть, сам проявил подозрительный умысел. Исчезновения людей, явления омерзительных тварей связали его со смешным курсантиком, от которого не добиться толку.
Я (генерал) вздрогнул и поднял голову услышав за спиной шум. Это было похоже на шаги внутри дома. Кто-то как будто вслепую слонялся по ссохшемуся за зиму паркету моей спальни. Я повернулся всем телом и увидел раскачивающуюся тень огромной мокрицы. Она наклонялась вперед, шевелила лапками, вертела усатой головой и, двигаясь по комнате, сбила стоявший на тумбочке светильник. Шаги за открытым окошком замерли, и мне показалось, что это был сон или галлюцинация. Пошатываясь, грея ладонью сердце, я зашаркал в дом. Мой генерал не испытывал страха. Скорее он был взбешен. Все эти штучки с мокрицами уже невозможно было терпеть. Через прихожую я вошел в первую комнату. Глаза, привыкшие к темноте, различали все, что мне было надо. Подняв телефонную трубку, я рявкнул: «Дежурного – ко мне! Немедленно!» и, сунув трубку в гнездо, отправился в спальню. Войдя, я не стал поднимать ночничок, а прямо у двери включил верхний свет. Подняв глаза, я содрогнулся, громко выругался и рухнул на пол.
За окном, а потом на крыльце послышались шаги, и я «отцепился» от генерала, точно сломался крючок, что меня держал, и тут же прицепился к вызванному генералом дежурному.
Я (дежурный) в капитанском звании, бодро взбежав на крыльцо, постучал в открытую дверь и с придыханием попросил: «Разрешите войти, товарищ генерал?» Мы не слишком часто видели начальника училища: большую часть времени он находился в отъезде: по делам или по болезни. Чем меньше он мозолил нам глаза, тем сильнее мы его уважали. Со своих заоблачных высот он смотрел на нас, как папа римский на верных католиков. Но сейчас мне никто не ответил. Осторожно (на цыпочках) войдя в комнату, через раскрытую дверь в спальню я увидел распростертое на полу тело, одетого по-домашнему шефа. Ступив на порог спальни, я вспомнил: дабы не помешать следствию, в подобных случаях какие-либо самостоятельные действия предпринимать запрещается. Вернувшись в комнату, я позвонил помощнику, чтобы вызвал врача, разбудил дежурный взвод (возможно, понадобится оцепление) и сообщил о происшествии дежурному следователю по военному лагерю, после чего вышел на крылечко и закурил. Судя по виду, скорее всего шеф был мертв. Но даже, если бы он был жив, я бы побрезговал приближаться.
«Фильм», в котором я был генералом, оборвала команда: «Дежурный взвод, подъем! Стройся!» Наш маленький пузатенький старлей был уже здесь. Как он успел!? Равняйсь! Смирно! Вольно! В сторону генеральской дачи бегом марш! Раз было указано направление, соблюдать строй было не обязательно. Старлей бежал первым, задавая темп, а я замыкал строй. Не потому что был в строю самым маленьким, а потому что у меня были самые старые ноги, совершенно неприспособленные для кроссов.
Хотя я и бежал последним, но, пожалуй, лучше всех представлял себе, что увижу, когда окажусь на месте. Еще подбегая к даче, опытный старлей начал расставлять оцепление. Так, что, в конце концов, я один оказался непоставленным, а потому проследовал за своим юрким начальником в дом. «Постойте, – бросив сигаретку, сказал дежурный и поплелся за нами, – здесь пока нечего делать. Я жду врача». «Для кого?» – неожиданно спросил командир взвода, уже успевший проникнуть в спальню. «Как для кого!?» – удивился вопросу дежурный и застыл на месте: только теперь, глядя из комнаты поверх боковины дивана, он вдруг понял, что генерал был в спальне не один. На генеральском диване лежал грязный человек в сапогах и в портупее. Видимо, именно внешность его вызвала у генерала шок. «Черт! Так это же Шмытько – партполитработа! Что он тут делает?» «Спит, как дитя малое». – доложил мой начальник.
– На генеральском диване!?
– Именно!
Старлей внимательно изучал одежду, вернее, грязь на одежде спящего. Принюхивался к запахам. Что-то ему все это напоминало и по первому случаю в караульном помещении и по второму – с позже уволенным полковником Гайдаем.
– Слушай, Паланов, – спросил он, – а не твоих ли это рук дело? Только ты у нас на такие вещи мастер!
– А то чьих же? Конечно моих!
– Во как! – Чему-то обрадовался дежурный.
– Чего ржешь, капитан?
– А ты не понял, старлей? Гляди, каких воинов настрогал!? Без пяти минут офицер, – и уже набирается наглости хамить своему командиру!?
– А тебе-то что?
– Не тебе, а вам! И вообще! Как вы разговариваете со старшими! Теперь понятно, почему у вас такие подчиненные!
– Да пошел ты!
– Вернитесь, товарищ старший лейтенант!
Но старлея уже след простыл.
Кроме офицерских званий в училище существовала особая градация значимости. Низшими по этой шкале считались именно офицеры штаба, к которым и относился дежурный. Остальные посматривали на «штабистов» с ухмылкой, дескать, умеют только бумажки из кабинета в кабинет таскать. Ко второй категории относились преподаватели. Хотя они и работали в основном языком, но были людьми относительно культурными и образованными. Это и определяло их значимость. «Что с них возьмешь, одно слово – «Интеллигенция»? Высшей «кастой» считались начальники взводов и батарей. В училищах по сравнению с войсками они котировались рангом выше. Например, если в войсках командир взвода – лейтенант и старший лейтенант, то в училище – старший лейтенант, капитан. И так далее. В батарее – капитан, майор, в дивизионе – майор, подполковник. Одним словом – начальники.
Я попытался вслед за своим начальником ретироваться, но дежурный остановил меня: а вы, товарищ курсант, подождите. Вы прямо сегодня пойдете у меня на гауптвахту!
– За что!?
– За пререкание со старшими!
– Каких пререканий!? Я помню каждое слово. Могу повторить. Командир взвода тогда спросил: «Не твоих ли это рук дело?» Я ответил: «А то чьих же? Конечно моих!»
– Ну и что?
– И все! Взводный подтвердит.
«И я могу подтвердить! Это его рук дело! – молвил, вдруг, пребывавший в забытьи капитан – «партполитработа». – Этот, судя по его успехам, тупица, сделал меня самого козявкой и заставил пресмыкаться по лагерю».
«Что ты бредишь, Шмытько!? Погляди, на кого ты похож и где ты лежишь!
Шмытько приподнялся на локтях, осмотрелся и сел. Облик Котовского был смят и повержен. У капитана кружилась голова и путались мысли. Он бормотал что-то бессвязное. В это время на подъезде к «даче» затарахтела санитарная машина. «Всё, – сказал дежурный, – приехал доктор, сейчас примчится и следователь»
– А следователь зачем?!
– Все, уматывай! Чтобы ноги твоей здесь больше не было! Пошел! Пошел!
«Партполитработу» пришлось силой вытолкнуть из генеральской дачи. Мне было интересно, чем все кончится. Я задержался в первой комнате и видел, как, вернувшись к дивану, дежурный стряхнул пыль и грязь с покрывала, расправил постель, перевернув, взбил большую подушку, на которой только что, свернувшись, лежал маленький грязный «Котовский». Мимо меня прошли молоденький военврач (старший лейтенант с тонкой шеей и пухлыми губками ребенка, не успевшего в срок заматереть) и медицинская сестра (приятного вида тетенька лет сорока). Они раскрыли свои саквояжи и склонились над генералом. «Я не решился переносить на диван», – оправдываясь, лепетал дежурный.
«Правильно решили, – согласился доктор, – а теперь, пожалуйста, тише!»
Доктор выслушивал больного. Дежурный не выдержал: «Так он что, еще жив?!»
«Сильнейший сердечный приступ». – объяснил старший лейтенант.
Они сделали больному укол, непрямой массаж сердца.
«Дышит? – спросил капитан.
– Пока дышит.
Медики совещались:
– Отправить в госпиталь…?
– Ни в коем случае! Не перенесет дороги. Хорошо, если сможем переложить на диван.
– Прямо здесь придется оборудовать сестринский пост.
– Товарищ капитан, вы нам поможете перенести больного?
– Сейчас, я курсантиков позову! – дежурный выскользнул во двор искать курсантиков.
Я вышел из соседней комнаты в спальню. «Надо перенести?»
– Надо. Но один вы не справитесь.
«Вы поможете. Хотя ноги у меня слабые, зато руки сильные».
Медики переглянулись. В таких случаях, я всегда, что думал, то и говорил. Это почему-то удивляло и веселило. Хотя особого повода веселиться не было. Мы поднапряглись, волоком подтащили больного к дивану, потом посадили, подняли верхнюю часть туловища, закинули ноги и дело, как будто, было сделано. «Теперь бы поставить капельницу». – мечтательно произнес военврач. «Капельница-то есть, – призналась сестра, но я не захватила стойку: не думала, что понадобится сестринский пост.
– Послушайте, курсант, как ваше имя?
– Борис.
«Очень приятно, Борис, что вы взялись нам помогать. – молвила сестра, – вы могли бы помочь нам еще в одном деле»?
– Подержать капельницу?
– Вот именно, пока мы привезем стойку. Я только доеду до медсанбата, возьму ее и сразу вернусь».
– А я, – сказал врач, – должен собрать весь комплект медикаментов для поста. Мы скоро вернемся. Самое долгое полчаса.
– Да, да пожалуйста, что я должен делать?
Минут через пять я уже сидя на стуле, попеременно меняя руки, держал навесу капельницу, жидкость из которой по капле уходила через иглу в вену больного. На улице уже рассвело. Заглянувший на дачу дежурный, убедившись, что обошлись без него, хотел было ретироваться, но заметив, что я с капельницей – один, взглянув на больного, спросил: «Думаешь, будет жить?»
– Будет!
– Ишь ты!? Кто ты такой?
– Я – Паланов!
– Паланов!? – он рассмеялся и пошел, продолжая смеяться и повторять: – Надо же! Он Паланов!
Дежурный уже скрылся из виду, но еще звучал за кустами его голос и смех: «Послушайте, он – Паланов! Паланов! А не какой-нибудь Пупкин! А по мне так лучше уж Пупкин, чем такой вот Паланов!»
Я испытывал к больному не просто жалость. Мимолетный сон в палатке дал мне возможность сравнить две души: дежурного и генерала. Дежурный имел пустую, брезгливую, вздорную душу. У генерала душа была тоже не сахар, однако, вдруг, выяснилось, что он обо мне думал, жалел меня, тревожился, ощущая связь с судьбою курсанта. В этой душе было что-то родное. Мне не хотелась, чтобы она иссякла. Так не хотелось, что я заплакал. И тогда генерал подал признаки жизни. Он издал тихий стон, пошевелил губами и открыл глаза. Я затих и даже мысли мои притихли: боялся, каким-то непостижимым образом они потревожат его. Но кроме мыслей, были слезы и еще много другого, что рождалось в душе полукапа. Просачиваясь через руку в капельницу, оно по резиновой трубочке текло вниз, по игле проникало в вену, а по ней уже подбиралось к сердцу, которое (как миллионы других больных сердец) алкало живительного неземного участия. Эти капли могли струиться только от сердца к сердцу. Я почти физически ощущал, как, разжижаясь, его тягучая кровь бежала по мелким сосудам – жизнь возвращалась.
Когда медики вернулись, появился и следователь. Еще на улице, поинтересовавшись, в чем дело, он отправился искать дежурного.
– Это что за фокусы!? – Удивилась сестра, при виде пустого дивана. «Он пошел в туалет», – объяснил я.
– Как вы могли пустить!?
– Как я мог не пустить? Он генерал.
– Но вы же видели, в каком он состоянии!
– Ему, вроде, лучше.
– Вроде! Но не настолько же, чтобы самому ходить в туалет. Кстати, где он у вас?
– У меня!? Простите, я понятия не имею.
Но тут объявился и сам генерал:
– Мария Ивановна, не ругайте курсанта. Он ни при чем. Что же прикажете пачкать диван? И вообще, поверьте, мне, действительно, лучше.
– Не поверю! Час назад едва прослушивалось сердце!
– Не верите?! Да вот же я! Смотрите! Вы же чем-то меня лечили? Вот капельница пустая. Вот, игла на столе. Сколько жидкости вы в меня вбухали!?
Молодой врач улыбался. «Вы так здорово выглядите, словно месяц лечились».
– Месяц не месяц, а ночка прошла.
– А мы вам сестрицу на пост привезли – молоденькую.
– Молоденькую – это хорошо!
Я подал голос: «А мне, разрешите идти?»
– «Да, да, курсант, вы свободны», – сказал молодой врач.
– «Спасибо большое!» – благодарила сестра.
– «Идите, Паланов, я вам пришлю благодарность. – Пообещал генерал, – а если понадобитесь, вызову снова! Придете?
– Так точно, товарищ генерал!
– Ну, тогда все в порядке!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































