Текст книги "Росстань (сборник)"
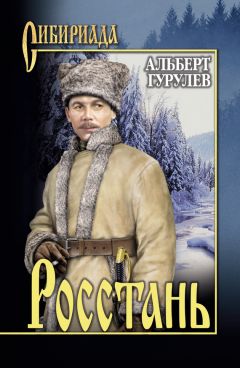
Автор книги: Альберт Гурулев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 26 страниц)
Фекла Михайловна, пожалуй, самое доброе существо в квартире, но и она же ее наказание и Господень бич: целыми днями она стирает. По свидетельству старожилов квартиры, прачечный бум наступил только в последние годы, когда Фекла Михайловна стала быстро дряхлеть. Стирает она истово, стирает столь много и подолгу, что можно подумать: весь дом носит белье не в прачечную, а к Фекле Михайловне. На газовой плите постоянно стоит большой эмалированный таз, окутанный паром, – кипятится белье. В коридоре сырой и плотный банный воздух. В общей ванной комнате плещется вода. Фекла Михайловна, выстирав какую-нибудь тряпицу, мелкими шаркающими шажками идет к тазу. Носит она всегда по одной вещи. Силы уже давно оставили Феклу Михайловну, крепко отжать белье она уже не может, и с тряпицы на пол обильно течет вода. Между ванной и плитой – мыльная река. Иногда по дороге к плите она останавливается, прислушивается к себе или к шуму за дверью, и в этом месте с постирушек натекают озера. Вразумлять ее бесполезно.
– Чего вы к старухе привязались? Такая хорошая старуха, – хвалит она себя. – Вместо того чтобы ругаться, радовались бы: за собой еще могу прибрать и на себя постирать.
Фекла Михайловна никаких ограничений в своей страсти к стирке признавать долго не желала. Пытались ей устанавливать для стирки определенный день в неделю – бесполезно. Сходился на кухне товарищеский суд, ругались с Феклой чуть ли не в крик, но и это ничем не помогало. Старуха только угрюмо горбатилась, тускло моргала голыми, без ресниц глазками и назавтра снова принималась за стирку. Квартира сдавала свои позиции.
– Вы хоть не стирайте, когда мы приходим вечером с работы. Неужели вам дня не хватает?
И это не помогло. Тогда наиболее решительные женщины стали действовать с позиции силы. Вернувшись вечером с работы, они стаскивали таз с парящимся бельем с плиты и уносили его в комнату Феклы Михайловны. Фекла Михайловна первое время плакала бессильными слезами, пыталась стукнуть обидчика сухим, как куричья лапка, кулачком, но потом смирились. Сила сломила силу. И теперь в коридоре наступает власть Феклы Михайловны лишь после того, когда все уходят на работу.
Долгое время для всей квартиры оставалось загадкой, где же Фекла Михайловна берет столько белья, что его хватает на ежедневную многочасовую стирку. Разгадка оказалась весьма простой: Фекла Михайловна не делает большого различия между грязным и чистым бельем. В горке белья, приготовленного ею в стирку, можно встретить немало вещей, которые она парила и стирала вчера.
У Лахова с Феклой Михайловной сложились вполне дружеские отношения. Едва он переехал в эту квартиру, как Фекла Михайловна подкараулила его в коридоре и заговорщицки прошептала: – Если че постирать надо – вы мне скажите.
– Да нет, ничего не надо, – вежливо отказался Лахов. – Что нужно по мелочи – я сам стираю. А все остальное буду носить в прачечную.
– В прачечную! – возмутилась Фекла Михайловна. – Там же машины… Только изорвут-измажут. Да и зачем мужику этим самому заниматься? – Фекла Михайловна хотела сказать еще что-то, но в коридор вышла Нина Владимировна, старушка осеклась и зашелестела ногами на кухню.
Через несколько минут она робко постучалась в комнату Лахова.
– Так я насчет постирать. Если че, так я…
Лахов видел перед собой иссохшую, сгорбленную, изработавшуюся старуху и хотел было решительно отказаться от ее услуг, но сумел-таки приметить, что глаза у Феклы Михайловны как у больной собаки: в них и преданность, в них и тоска, в них и извинение за свою немощь, и просьба – не оттолкнуть.
– Хорошо, хорошо, – сказал он торопливо. – Если что понадобится, я вам скажу. Но я уже привык – сам стирать.
Потом целую неделю Фекла Михайловна вопросительно поглядывала на Лахова, потом, так и не дождавшись предложения постирать, перешла к наступательным действиям. Лахов не имел привычки запирать свою комнату на ключ и, вернувшись как-то из недельной командировки, увидел, что ношеные рубахи, которые он за неимением платяного шкафа складывал в картонную коробку, а то и просто оставлял брошенными на стуле, выстираны. Выстираны, выглажены и сложены аккуратной стопкой на стуле. Лахов вернулся из поездки поздно ночью, а утром ему уже надо было быть на службе, а в чемодане у него – это он помнил – не оставалось ни одной свежей рубашки, и он планировал дождаться открытия магазина, купить по дороге на службу рубашку, положить ее в портфель и переодеться в редакционном туалете.
– Спасибо вам великое, Фекла Михайловна, – совершенно искренне сказал он старухе, хотя в другое время, в сердитую минуту, ему бы могло очень не понравиться, что в его отсутствие заходили в комнату.
– Да я же всегда… – глаза Феклы Михайловны наполнились слезами благодарности. – Ежели что постирать… Да ты, мой хороший.
Спустя много времени, когда Лахов сумел разглядеть соседей поближе, он поблагодарил ту минуту, когда не отругал Феклу Михайловну за самовольство. И тогда же он подумал: «Надо иметь человеку дело на земле, надо человеку почувствовать свою нужность».
С тех пор из всех жильцов Фекла Михайловна выделяет его, Лахова, да еще медсестру Марину.
…Как ни пытался Лахов уснуть, ничего из этого не получилось, и он решил вставать. Он вышел во двор, обошел вокруг машины, попинал скаты и, увидев, как далеко по дороге пропылила ранняя машина, неизвестно перед кем почувствовал свою вину за то, что он все еще не в пути, хотя до сих пор не знал точно, куда он едет. Куда-то к Байкалу, и все. Боясь показать свою торопливость и тем обидеть гостеприимного хозяина, он подсоединил аккумулятор, проверил масло в двигателе и стал прогревать мотор, все острее и острее испытывая эту непонятную свою вину и слов, но надеясь, что вот такая поспешность даст ему душевное успокоение.
– Ты почто ехать собрался? Торопишься, что ли? А чай пить? – забеспокоился дед Николай.
– Да нет, – стесняясь самого себя, ответил Лахов. – Я только двигатель хочу прогреть. И как же без чая ехать? Без чая нельзя.
– Нельзя, нельзя, – согласился старик.
* * *
Лахов раньше не подозревал за собой такой способности: просыпаясь утрами, не спеша перебирать события прошедшего дня, вспоминать свою прошлую жизнь, запоздало мучиться или радоваться давним стечениям обстоятельств. «Старею, что ли», – думал Лахов, думал без всякого страха, зная, что до настоящей старости ему самое малое никак не меньше двух десятков лет. Но он и радовался этой открывшейся способности, которая, как он понимал, могла проявиться лишь в такой ситуации, в которую он себя определил сейчас: безлюдный берег озера, легкий, необременительный быт – поиски дров для костра, костер, рыбалка. Прежде он не раз ловил себя на мысли, что никак не может сосредоточить внимание на собственном бытие, подумать о своей жизни, осознать свою суть, свой характер, свое место в длинном ряду жизни, имя которому – род, племя, осознать свою ответственность за право жить, за высшее доверие, которое оказано тебе родом: представлять этот род на земле. Все было некогда, все спешил, будто кто-то другой расписывал день по минутам, втолкав в расписание сотню мелких нужных и ненужных дел. Встречи с людьми, командировки, планерки, летучки, телефонные звонки, обеды с приятелями, подготовка к собраниям, собрания, кино, встречи, магазины. Сотня дел, остановиться некогда, а сделанного на грош. А почему сделанного-то на грош? Вон ведь в какой запарке живешь, как говорится, ни сна ни отдыха. А черт его знает, некогда об этом подумать. Утром около уха будильник звенит – подъем! И началось. На умывание десять минут. На одевание пять минут. Включил радио – надо последние известия прослушать. И верно, надо. Как же без этого! Надо завтрак сготовить. Ах ты черт – черти во всем виноваты – бежать уже надо, некогда завтракать. Троллейбус, автобус. До чего транспорт безобразно ходит, черт бы его побрал!
Ну а вот теперь появилась возможность подумать. И пусть даже не подумать, не разобраться в своей жизни, не спланировать ее, а хотя бы получить возможность глянуть на неё, на свою жизнь, как бы со стороны. И то благо.
Не обидел ли он своим поспешным отъездом старого чабана? Да вроде нет. Ведь он сказал, что хочет как можно скорее оказаться на берегу Байкала, а уже одно упоминание о Байкале может оправдать любую поспешность. Он поблагодарил за чай, пожал сухую и плохо гнущуюся ладонь старика, выслушал советы, где лучше всего найти безлюдный и красивый берег, и выехал на дорогу.
Он проехал километра два, на первом отвороте от большака повернул вправо – так посоветовал сделать чабан – и минут через десять остановился около развилки малоезженых дорог. Он вышел из машины, стараясь отыскать взглядом приметы, следуя которым он непременно, по словам деда Николая, приедет в место редкой красоты. Все сопки были вроде бы одинаковыми, не было среди них той скошенной, вершина которой должна остаться по правую руку. «Может быть, и на этот раз повернуть по правой дороге», – подумал Лахов, но тут же понял, что над такой задачей ему придется ломать голову еще не один раз – по склонам сопок разбегались несколько чуть приметных и ветвистых, как дерево, дорог, – и решил держаться одного общего направления – на восход солнца. Ведь до Байкала оставалось каких-то пять-десять километров.
Обогнув ближнюю сопку, Лахов увидел, что в одном из сопочных междугорбий небо опустилось много ниже горизонта, будто небо выколупнуло в земле огромную воронку и заполнило ее своею голубизной, и Лахов понял, что он видит Байкал: небо слилось с водой. Проселок увел в долину, и озера не стало видно, но Лахов знал, что теперь-то он никуда с пути не собьется, выедет к Байкалу. Он еще попетлял по слабо приметным степным дорогам, распугивая бойких сусликов, и, взлетев на очередной взлобок, невольно нажал на тормоз. Не остановиться здесь было бы грехом. Надо было просто осознать видимое, и сейчас у Лахова было время остановиться и осмотреться. В полуночную и полуденную стороны – на север и на юг – расплескались-растеклись два голубых крыла и ушли за далекий горизонт. Противоположный берег – прямо на восход солнца – потерялся в голубом дрожании, и можно бы подумать, что восточный берег далек и лежит тоже за окоемом, если бы не были видны снежные пики гольцов, вздымающиеся над синевой озера и упирающиеся в синеву неба. Километрах в десяти от берега, а может быть, и дальше, в голубой невесомости плыл маленький, совсем игрушечный, теплоходик. «Вот бы где надо устроить святое место», – подумал Лахов.
Берег здесь был высок и крут, местами обрывался отвесными скалами прямо в белую полоску прибоя, и Лахов еще некоторое время ехал вдоль берега, пока не приметил отворот дороги, уходящий в узкую лощину. Малоезженая дорога, вся в каменных волдырях, выпирающих из земли, обогнула скальный взгорбок и круто устремилась вниз. На короткую секунду Лахов испугался крутизны, но машина уже пошла под уклон, пугаться и давать задний ход было поздно и можно было ехать только вперед. Лахову никогда не приходилось спускаться по таким крутякам, и он включил самую малую передачу, тормозил двигателем, придерживал машину тормозом, но и все равно казалось, что машину неудержимо тянет вниз и она вот-вот, сорвавшись со всяких тормозов, неуправляемая, рванется вниз. Но крутой уклон быстро кончился и перешел в довольно-таки пологий спуск, и Лахов смог оглядеться. Узкая дорога – двум телегам не разъехаться – лепилась к покатому боку сопки. Слева сопка, справа овраг. Сорвись туда – и машина много раз перевернется, ударяясь о камни, прежде чем застынет грудой покореженного железа далеко внизу. С тоскливым беспокойством Лахов подумал о пути наверх, но тут же успокоил себя: не сама же собой образовалась эта хилая, но все же дорога – люди ее проложили – стало быть, можно по ней и туда проехать и обратно.
Обогнув сопку и спустившись вниз, Лахов увидел небольшую и уютную долину, с трех сторон окруженную сопками. С четвертой стороны – Байкал. В одном углу долины приметил одинокую палатку, рядом с нею машину под тентом и синюю струйку дыма угасающего костра. Затаборится на ночлег было бы лучше всего поближе к людям, оно спокойнее бы было, но Лахов подумал, что, быть может, люди эти, как и он, ищут тишины и одиночества, отдыха от суеты, присутствие же чужого им будет в тягость, и решил остановиться где-нибудь подальше. Он выбрал место на противоположной стороне долинки, под самой сопкой, неподалеку от разлапистой лиственницы, выросшей на каменистом взлобке.
Лахов вышел из машины, разбросил руки над головой. Воля вольная, свобода. Ни летучек, ни телефонов, ни… Ничего нет. Только дикие сопки, только Байкал, только небо над головой, только теплый ветер, пахнущий полынью и чабрецом. Нет, не зря пробили люди сюда дорогу, не напрасно дорога не зарастает.
Но одновременно Лахов испытал не осознанное еще беспокойство, непонятную горечь и одиночество. Будто вся эта дикая красота существовала сама по себе, а он, Лахов, сам по себе, и существуют они в разных плоскостях и никак не соприкасаются.
«Может, костер развести», – подумал Лахов, не зная, чем занять себя, и одновременно раздражаясь на себя, что не может вот так просто посидеть, посмотреть на мир, подумать. Будто бежал он, бежал по бесконечной дороге – ну не бежал, а ехал, какая разница – и тут дорога внезапно кончилась, впереди стена и тут бы самое время остановиться, отдохнуть, а не может: сердце на пределе своих возможностей гонит кровь, опадают и вздымаются легкие, рвется шумное дыхание, ноги взбивают пыль. Все требует движения. Некуда бежать, а надо. Тут и бег на месте пригодится. Иначе худо будет бегуну.
Ехать дальше было некуда, дорога кончилась, впереди Байкал. Костер разводить было рано. Палатку ставить не нужно было, Лахов собирался ночевать в машине. Пить водку не хотелось: не было вроде причины выпить вот сейчас, немедленно, да и не любил он пить один. «Остается одно – постирать», – невесело пошутил над собой Лахов.
Но бывают дни, когда и Фекла Михайловна не стирает. Видно, уже не может. Тогда она серой копешкой горбится на стуле неподалеку от входной двери. Двери всех комнат закрыты, единственное окошечко пропускает мало света, к в коридоре по-осеннему сумрачно. Заняться старухе нечем, и, если в коридоре никого нет, она сидит около своего стола тихо, неподвижно, и можно подумать, что она спит. Иногда она засыпает и вправду, начинает всхрапывать и валиться набок. Просыпается испуганно, как от толчка, мгновение смотрит непонимающе, но готовая к защите, потом успокаивается и, пожевав мятыми губами, затихает снова.
И так она сидит часами. Когда в дверях скрежещет ключ, Фекла Михайловна мгновенно просыпается, вздергивает головой и торопливо спешит к дверям. Ног Феклы под серой длинной юбкой почти не видно, будто катится она на колесиках, и тогда сильно напоминает игрушечную заводную мышь: серенькая, юркая, бесшумная, глаза бусинками, настороженные. Самая большая радость для Феклы, когда появляется Марина, молодая веселая медсестра, живущая в маленькой угловой комнате. Особенно хорошо бывает, когда Марина приходит со своим давним приятелем Сережей. Марина тогда бывает возбужденная, веселая, и Фекле становится весело. Она в улыбке морщит лицо, гладит Марину и Сережу иссохшей лапкой, помогает раздеваться.
– Я сама разденусь, Фекла Михайловна, – смеется Марина. – Или вон пусть Сережа помогает. Он мужчина.
– Так-так, – соглашается Фекла Михайловна. – Бравая ты сегодня.
– Я всегда бравая.
– Так-так.
Сережа чаще всего молчит, улыбается ласково и снисходительно, Фекла Михайловна только поддакивает, говорит и смеется одна Марина, но в прихожей становится весело, шумно, светло – Марина включает все лампочки.
Веселье для Феклы продолжается недолго: Марина уводит Сережу в свою комнату. Гаснут в коридоре лампочки, изо всех углов выползают серые мышиные сумерки, и Фекла Михайловна снова горбится на стуле около своего стола и дремлет. Дрема теперь не такая глубокая, Фекла Михайловна часто прикладывает согнутую ладошку к уху, ловит звуки из-за близкой двери. А из Марининой комнаты доносятся приглушенные голоса, смех, музыка. Там весело, там живут.
Иногда Фекла Михайловна взбунтовывается и начинает наступление на веселую комнату. Фантазия у Феклы крошечная, и потому старуха ничего не может придумать, как достать из шкапчика рюмку на высокой ножке и постучаться в дверь к Марине, Марине все эти стуки известны, и она давно готова к ним, воспринимает их как неизбежное зло, но открывать дверь не спешит и спрашивает не очень гостеприимным голосом:
– Что надо?
– Рюмочку налейте.
Рюмочку Фекле наливают, а иногда даже приглашают в комнату, где солнечно, весело и празднично. Лахов, хоть и не очень долго прожил в этой квартире, уже понял, что ради вот таких счастливых минут и стучится Фекла в чужую дверь. Но удача случается редко. Обычно из-за приоткрытой двери показывается Маринина рука с бутылкой, и Фекла сразу догадывается, что в заветную комнату ей сегодня не попасть. Она мгновенно теряет интерес к выпивке и, лишь вино смочит дно узкой рюмки, отводит Маринину руку.
– Хватит, хватит.
Правда, и счастливые случаи бывают не так уж редко, особенно в праздники или выходные дни, когда Сережа приходит надолго. Иногда милостивая Марина приглашает Феклу Михайловну в свою комнату, даже не дожидаясь ее стука в дверь. Вот тогда Фекла может выпить и рюмку и две. Скорее всего, Фекла не любит ни вино, ни водку, но ради того, чтобы побыть в компании, среди людей, готова и выпить.
Но вот беда – умеет Фекла быстро надоедать. Вначале она осторожно, даже робко, входит в комнату, садится на краешек стула, чинно сложив руки на коленях, заискивающе помаргивает красными веками, ловит каждое движение хозяйки, старается услужить, постепенно вступает в разговор и как-то быстро забирает власть, и уже говорит она одна, говорит громко и настойчиво, сердится, когда с нею не соглашаются или слушают недостаточно внимательно. Подлаживаясь к молодым, она чаще всего рассказывает, как к ней на улице приставали мужчины. Это ее основная тема для разговора. Пристают к Фекле Михайловне в разных местах, разные мужчины, зато в полном соответствии с давними и забытыми слободскими традициями ухаживания и приставания.
– Я это иду и уже в наш двор заворачиваю, а они – вот они стоят. Народу еще много идет, день еще. А они стоят. И тепло так. Даже жарко. Думаю, зря я кофточку надела. Только я шла тогда не в этой кофте, эта уж износилась совсем, я в синей. В синей-то и сопреть недолго. Я даже воду-газировку пила. Два раза подряд пила. На Большой у гастронома. У гастронома вода совсем нехорошая, теплая и несладкая совсем. Я продавщице-то и говорю…
– Фекла Михайловна, – останавливает ее Марина, – вы же начали рассказывать о каких-то мужчинах, которые к вам приставали.
– А я и рассказываю, я не молчу, – недовольно отзывается Фекла. – Вот перебила. Это куда же я тогда шла?..
– Домой вы шли, домой. И уже в наш двор зашли…
– Так-так, – соглашается Фекла Михайловна. – А потом че? А-а, ну-ну! Я тогда хлеба еще не взяла. Иду и думаю – хлеба у меня, однако, нет. А ужинать с чем? Ладно, если Нина Владимировна догадается взять и на меня, а если забудет? На той неделе так и было. Я из дому никуда не выходила, а соседка забыла хлеба купить. Да, может, и не забыла, а пронадеялась на меня.
– Ну, а приставали-то к вам когда? – подталкивает Марина к окончанию рассказа.
– Тот раз и приставали.
– Ну, как-нибудь потом дорасскажете, – не очень вежливо советует Марина.
– Да ты почто такая? – тусклые глазки у Феклы Михайловны становятся сердитыми и беспомощными. – Я же рассказываю, а ты не даешь, перебиваешь. Я иду, а два мужика стоят и глядят на меня. Один из них бравый такой, с усами. Руки он вот так растопырил и давай меня имать.
– Ну и как, поймали? – Марина проявляет интерес.
– Ну, дак как же. Далась я им. Я вот так как-то вывернулась, боком, боком – да и давай бежать.
– Убежали, значит?
– Убежала.
Трудно представить себе бегущую Феклу Михайловну, но Марина соглашающе кивает головой и тут же говорит с деланой жалостью:
– А вот ко мне что-то никогда и никто не пристает.
– У тебя эвон какой ухажер есть, – показывает Фекла Михайловна на Сережу. – Тебе че печалиться.
Сережа в разговорах участия не принимает, лишь улыбается, согласно кивает головой и ласково смотрит на Марину.
Было тепло, ярко светило круто идущее над головой солнце, камни и песок сделались горячими, и Лахов, решившийся позагорать, вытащил из багажника палатку и разбросил ее на земле. Он лег навзничь, справедливо считая, что прежде всего солнцу надо показать бока и живот, а спина всегда успеет загореть, забросил руки за голову, смотрел на легкие и потому очень далекие, редкие среди огромной синевы облака.
А иногда Фекла Михайловна бывает особенно настойчива в своем желании проникнуть за заветную дверь, и тогда Марине и Сереже не так-то легко удается отбиться от старухи. Как-то Марина пришла без обычного шума и смеха, не зажгла лампочек в коридоре, а быстро прошла вместе с Сережей в свою комнату. Фекла Михайловна готовилась к очередной стирке, была в ванной и за шумом падающей из кранов воды не услышала прихода соседки. А увидела уже поздно – дверь Маришиной комнаты закрывалась. Фекла завернула краны и торопливо вытерла руки о передник.
Сережа в последнее время стал приходить реже, а в тот раз пришел после особенно долгого перерыва. Фекла Михайловна наскучалась без веселой компании и веселых разговоров и теперь хотела наверстать упущенное. Она толкнулась в Маришину комнату, но дверь оказалась на запоре. Нина Владимировна была дома, суетилась на кухне с поздним обедом, видела Марину и Сережу, видела расстроенное лицо Марины и строго посоветовала Фекле Михайловне:
– Вы не лезьте к Марине в комнату, оставьте ее сегодня в покое.
– А че, рази уж и нельзя?
– Нельзя.
– Нельзя спросить, как у ей здоровье? А потом мама у ей, Марина сама говорила, болеет. Тоже надо спросить. – Довод Фекле Михайловне кажется очень убедительным, и она торжествующе смотрит снизу вверх мышиными глазками, словно игрок в карты, сделавший очень удачный ход.
– Можно, – соглашается Нина Владимировна. – Вот выйдет она из комнаты, тогда и спросите. А пока оставьте Марину в покое. Ей сейчас, по-видимому, не до вас.
Фекла Михайловна бурчит что-то себе под нос, не разобрать что, и садится на свое обычное место около стола. Пока Нина Владимировна на кухне, Фекла Михайловна сидит тихо и покорно, положив на колени изработавшиеся руки. Но дух Феклы Михайловны не сломлен. Едва Нина Владимировна выключила газ и, прихватив тряпицей чайник, ушла в свою комнату, как Фекла Михайловна оживает, подозрительно прислушивается и, успокоенная, достает из шкапчика стеклянную рюмку – свой пропуск в Маринино общество. По-мышиному осторожно подбирается к двери и стучит осторожно, заискивающе. Не получив ответа, она стучится еще и еще, и стук становится тверже и требовательнее.
– Что нужно? – голос у Марины не особенно приветливый.
– Рюмочку старухе не нальете?
Дверь приоткрывается ровно настолько, чтобы прошла Маринина рука. Рука забирает рюмку и через полминуты возвращает ее наполненной. Дверь закрывается, и слышно, как решительно щелкнул крючок.
Теперь Фекле Михайловне водка вроде бы и ни к чему. Она уныло сидит у стола, горестно жует губами, и рюмка стоит до тех пор, пока ее, так и не выпитую, старуха не убирает на прежнее место, в шкапчик.
Фекла Михайловна тычется из кухни в уборную, из уборной в ванную – стирать ей теперь уже не хочется, и белье, видимо, надолго останется киснуть в тазу, – из ванной в свою комнату.
Из комнаты в коридор она возвращается с ярким халатом, переброшенным через руку. Феклу Михайловну трудно представить в какой-либо одежде, кроме как в серой до пят юбке, черном старушечьем фартуке и тусклой кофтенке, и яркая вещица кажется чужеродной даже на ее руке. Фекла Михайловна заглянула на общую кухню, не увидела там строгую Нину Владимировну, а в Лахове, мельтешившем около плиты, она никогда не чувствовала врага, и снова прошелестела к заветной двери. Прислушиваясь (голова чутко склонена набок), она стучит в дверь, стучит негромко, чтобы стук, не дай господь, не донесся до Нины Владимировны, но стучит сразу же настойчиво. За дверью тишина, Фекла, как дятел, облюбовавший кормовое дерево, продолжает стучать и стучать.
– Ну что нужно? – наконец спрашивает Марина, не снимая с двери крючка.
– Тебя нужно.
Марина больше не отвечает, затаилась за дверью. Фекла, приставив ладошку к уху и приоткрыв рот, прислушивается к тишине в Марининой комнате. И с упорством голодного дятла принимается стучать снова.
– Господи, – не выдержав, вздыхает Марина.
Фекла молчит и продолжает стучать.
Наконец дверь, сердито скрипнув, приотворяется, но не настолько, чтобы в нее можно было пройти.
– Что стучите? Нужно-то вам что? – Голос у Марины спокойный, только видно, что это спокойствие дается ей нелегко.
Фекла Михайловна мигает веками без ресниц, глядит заискивающе, морщит лицо, изображает улыбку.
– Посмотри, какой халат у меня.
– Потом посмотрю, – говорит Марина и спешит закрыть дверь.
– Да посмотри мой халат, – просит Фекла и сует руку с халатом в узкий притвор двери. Больше ей ничего не придумать и тогда, считай, не проникнуть в веселую маленькую комнату, и в ее голосе слышится отчаяние: – Посмотри!
«Каждый спасает себя от одиночества как может», – Лахов по давней газетной привычке мысленно составил фразу и сделал вид, что очень увлечен своими кухонными делами и ничего не видит и не слышит, хотя ему очень хотелось подойти к Фекле Михайловне, взять ее за оттопыренное ухо, увести в ее комнату и запереть на ключ. Но он чувствовал, что сделать это так же невозможно, как выбросить беспомощного щенка на мороз.
Добрый человек Марина.
– Ладно, – говорит она. – Ставьте чайник. Чай будем вместе пить. Да не стучите больше. Когда чайник закипит – тогда скажете.
– Да я счас. – У Феклы Михайловны дрожит голос и на глаза наворачиваются слезы благодарности. – Чай заварю. У меня стряпаное есть.
– Да не спешите вы слишком, – говорит Марина грубовато и уже совсем не сердясь, – а то налетите на угол, синяков себе наставите. Много ли вам надо.
– Ты моя голубушка… – шепчет Фекла. – Я столько настряпала. Мука хорошая. И тесто удалось. А ить-то кому?
Время подошло к обеду, и Лахов даже обрадовался, что теперь есть наконец-то, чем себя занять: надо искать дрова, гоношить костер, кипятить чай. Он достал из-под сиденья легкий, в брезентовом чехле топорик и решил сходить к берегу поискать дров или нарубить щепы от лежащего метрах в пятидесяти бревна. Лахов медленно прошел по берегу, тяжело увязая в песок, намытый прибоем, дров не нашел, кроме разбухшего от воды обломка доски. Он отбросил доску подальше на сухой берег, куда не могла достичь и штормовая волна, думая, что через день-другой доска подсохнет, и направился к примеченному бревну. Громадный сосновый балан, видно, крепко промок в байкальских прозрачных водах, пока штормовая осенняя волна не выбросила его далеко на берег. От воды и солнца балан потемнел, верхняя его болонь, ободранная той же волной от корья, зажелезнела, и с таким топориком, какой у Лахова, около бревна нечего было делать. По всему видно: по зарубкам, по царапинам на стволе – приходили сюда оптимисты со своими походными топориками, и, для очистки совести помахав над баланом этими топориками, уходили дальше. Были около этого полутораобхватного бревна и хозяйственные мужики, везущие в своих машинах необходимое почти на все случаи походной жизни. Приходили с двуручной пилой. И эти помаялись. Запиливали с одной стороны, вагами поворачивали бревно, снова запиливали и снова поворачивали. Помаялись, но все ж таки один кругляш, который уже ничего не стоило развалить топором, отгрызли. И теперь на этом довольно-таки свежем срезе четко видны годовые кольца и легко определялось, каким боком сосна стояла к югу и какой бок последним отогревался весной и первым начинал мерзнуть осенью. По годовым кольцам, по их ширине, хорошо было видно, какой год у дерева был сытым, кормным, а какой год пришлось пребывать в скудости. Лахов начал считать кольца-года, досчитал до восьмидесяти, сбился и бросил считать. Несколько полос были особенно узкими, и Лахов, прибросив, что дерево свалили три-четыре года назад, подумал, что эти года вполне могли прийти на давние годы его, Лахова, студенчество, годы тоже не очень кормные, и почувствовал к дереву нечто вроде симпатии. Он прислонился к его теплому и сухому боку и стал смотреть в море, где в блескучей синеве приметил черный шар, время от времени появляющийся на поверхности воды. С каждым своим новым появлением над водою шар приближался к берегу. Теряясь в догадках – что бы это могло быть? – Лахов решил дождаться, когда черную штуковину прибьет к берегу. Но шар исчез надолго, и Лахов даже подумал, что он его больше не увидит, как неподалеку от берега расступилась вода и показалась лоснящаяся голова нерпы. Лахов замер, боясь нечаянным движением испугать зверя. Он никогда не видел живой нерпы, и теперь – он знал это – ему просто повезло увидеть байкальского тюленя вот так близко, да еще в его родной стихии. Усатая нерпа осмотрела берег черными выпуклыми глазами и не спеша ушла под воду.
– Ух ты! – выдохнул Лахов и почувствовал острое сожаление, что он один на берегу и никто больше этого не видел, никто рядом не толкал его в бок, не испытал такого же радостного удивления, как и он, не выкрикнул: «Ух ты! Гляди! Гляди!» И, пожалуй, впервые в жизни Лахов осознанно и четко понял, что удивляться и радоваться надо ну хотя бы вдвоем. Иначе… Иначе все теряет смысл. И остается только горечь, обостренное ощущение одиночества.
Да, вот и сюда, в эту долину, следовало бы приехать с родственными людьми. С добрыми друзьями, рядом с которыми жизнь и становится жизнью, рядом с которыми и смерть не так уж страшна. Ну, а где они, эти друзья-приятели, как случилось так, что даже в дни, когда только и вдохнуть жизнь – теплое лето, никем не спланированное время, упряжка вольных коней, называемых автомашиной, – нет приятелей рядом. Почему так? Видно, возраст всему виной. У каждого в таком возрасте своя жизнь. Своя круговерть, свое колесо и, выражаясь стилем повыше, своя орбита, с которой ох как трудно сойти, а если и сойдешь, то только уже для того, чтобы навсегда унестись в черную неизвестность. Да и всех приятелей-то осталось – хватит пальцев на одной руке. Иных сверстников – да разве это еще возраст для такого дела? – уже нет. Мог бы Славка поехать. И хорошо, если бы поехал. Да не может Славка поехать. Отпуск Славка проводит теперь только на не любимом им юге под присмотром жены, свято верящей, что уважающие себя солидные люди могут отдыхать только в Крыму или на Кавказе. Володька тоже мог бы поехать, да тоже не может, пишет запоздалую диссертацию, ушел в глухое подполье, замаливает грехи вольной и беззаботной молодости. Василий… И Василий не может, уже был в отпуске.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































