Текст книги "Росстань (сборник)"
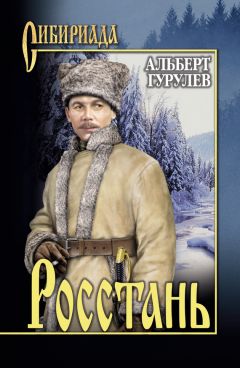
Автор книги: Альберт Гурулев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 26 страниц)
Расходились под утро. В стылом воздухе охрипшие голоса парней выкрикивали частушки. В некоторых частушках в забористый мат вплетались имена поселковой верхушки. Досталось и попу, и начальнику милиции, и даже есаулу Букину.
Трещал лед на Аргуни, лаяли взбудораженные собаки.
Месяц прошел с тех пор, как увезла Устя японцев на завод, а для Северьки кажется – год. Голова кругом, не верится, что вот она, идет рядом, прижимается.
Устя с Северькой от развеселой компании сразу отстали, свернули в узкий проулок.
– Ты скучал без меня? – Устя заглядывает в лицо, гладит рукав парня пушистой варежкой.
Северька молчит. У него вздрагивают плечи, гулко стучит сердце. Земля настыла за длинные зимние месяцы. Холодно на улице. А расстаться, уйти по домам – ноги не слушаются.
– Зачем сюда приехала? Узнает кто.
– Осип и так не отпускал, да я отпросилась… У меня же ни платьишка нет, ничего. Перемыться не в чем.
Давно утихли частушки, успокоились собаки.
– Ознобишься, Устя, – Северька растирает девке руки, жарко дышит на них. – Век бы тебя не отпускал.
– У нас баню топят. Ягнята там живут. Обогреемся.
Баня встретила теплой темнотой, запахом ягнят, прелью березовых веников.
Северька хотел было чиркнуть спичку, но Устя остановила его, сняла шаль, занавесила маленькое бледнеющее пятно окна, нашарила лампу.
– А теперь зажигай.
Вспыхнула спичка. Рядом с собой увидел Северька Устины глаза, полуоткрытые губы.
– Устя!
Спичка обожгла пальцы и погасла. Северька, как лунатик, сделал вперед шаг, протянул руки, и мир перестал существовать.
Назавтра про частушки пришлось вспомнить. В землянку к Стрельниковым зашел Проня Мурашев, десятский. Федька сидел за столом хмурый, с перепоя. В стакане перед ним мутный, зеленоватый огуречный рассол.
– Хлеб да соль, – приветствовал Проня с порога.
– С нами за стол, Прокопий Иванович, – враз ответили Федькина мать и Федоровна.
«Заимочный атаман» прошел вперед, снял папаху, расстегнул шубу-борчатку. Вид у Прони плохой. Лицо бледное, под глазами мешки.
– Я к тебе, Костишна, – проговорил Мурашев. – Насчет сына твоего, Федора.
– Опять чего случилось? – всплеснула руками мать.
– Спроси его, может, скажет.
– Да разве они могут сказать родной матери, – Костишна подбежала к сыну, торкнула сухим кулачком по рыжей голове. – Говори как на духу. Девку каку-нибудь спортил, кобель бесхвостый? Уворовал чего-нибудь?
Федоровна, видя, что над крестником сгущается гроза, поспешила в куть, вышла с двумя бутылками водки, поставила на стол. Федька ободрился, подмигнул Проне. Десятский сделал вид, что не заметил панибратства, но тоже оживился:
– Ничего он не украл. Частушки ночью горланили.
Женщины враз перекрестились. «Слава тебе, Господи, с пустяком пришел десятский. Частушки кто не поет? Все поют».
– К столу присаживайся, Прокопий. Разболокайся и присаживайся.
Проня ладонью пригладил волосы, степенно прошел к столу.
– Тропин сегодня в поселок укатил, а перед этим меня к себе вызвал. Предупреди, говорит, за такие частушки можно и голову потерять.
– Да что ж за такие за частушки? – вытянула шею Костишна. – Ой, да вы выпейте.
Проня с Федькой выпили, морщась, потянулись к капусте.
– Да что ж за частушки? – не отставали бабы.
– Сам точно не знаю, – Проня степенно вытер усы, – но Тропин знает. Нашлись люди, сообщили ему.
После третьей рюмки раскрасневшийся Проня просил Федьку:
– Ты хоть расскажи, что пели-то. А то пришел ругаться, а сам точно не знаю, за что. Ну, и бесстыжий ты, Федька, – вдруг закричал Проня, увидев ухмылку на лице парня. – Совесть у тебя иманья. Ну, так расскажи, – закончил он уже миролюбиво.
– Может, еще по одной выпьем, а уж потом…
Заходили кадыки на шеях.
– Про Тропина это, значит, так… Эх, трезвый сразу и не вспомнишь. Хотя нет, стой… Мать, заткни уши.
Федька лениво, без азарта, не пропел, а пробубнил слова частушки.
– И дурак же ты, Федька, – изумился Проня. – Да за такую песню Тропин тебе свободно может карачун сделать. Чего на себе шкуру дерете?
Когда вторая бутылка подходила к концу, Проня расстегнул пуговицы на рубахе, навалился грудью на стол.
– Я так это дело понимаю… Эта милицейская душа вас давно бы к ногтю прижала. Да за семью свою побаивается. Думает, хоть здесь пусть спокойно будет. Он ведь и семью Смолина не трогает, хоть она и здесь живет. Ты меня уважаешь? Но все равно скажи своим друзьям, чтоб потише себя вели.
– Да вон они и сами идут, – припал Федька к окну. – Сейчас мы и поговорим.
Когда вернулся с сеном старший сын Федоровны, Савва, уехавший еще до света в дальнюю падь, в землянке дым шел коромыслом. Лучка играл на гармошке. Северька плясал. Проня и Федька сидели на лавке в обнимку, пели пьяными, белыми голосами. Иногда Проня останавливался, хлопал Федьку по колену.
– Как вы там пели? Сейчас вспомню.
И заливался смехом.
Девки ворожили. У Симки Ржавых. Сговорились они еще вчера. Не забыли позвать и Устю Крюкову.
– Только крадче от парней надо.
– Да я и, вообще-то, ото всех прячусь.
В зимовье у Симки стариков нет. Их она еще днем спровадила к кому-то из родственников. В землянке сейчас тишина стоит. Девки разговаривают шепотом. Нервно посмеиваются.
– Первой Солоньке будем ворожить, – распоряжается Симка.
Солонька, некрасивая, сухопарая деваха по прозвищу Оглобля, пугается:
– А может, не мне? Мне потом.
Но подругам любопытно чужую жизнь подглядеть.
– Тебе, тебе. На жениха.
Симка бросает на жестяной противень ком бумаги, поджигает его. Пламя пожирает бумагу. Высвеченные огнем лица кажутся белыми, чужими. Бумага сгорает. По черному комку пепла мечутся красные искры.
– Смотри, Солонька! – Симка сунула противень между единственной в зимовье лампой и стеной.
Тень от пепла упала на беленую стену.
– Видишь, Солонька?
Солонька таращит глаза, но ничего, кроме черной тени, не видит. Пепел, остывая, оседает, меняет свои очертания тень.
– Голова вроде, – шепчет кто-то за плечом Солоньки.
– И верно, голова. Вон нос.
Солонька и сама уже видит голову. И себя ругает: как это она сразу-то не увидела!
– Только на кого он похож? – опять шепчут сзади.
– Видела? – громко говорит Симка. – Нынче жених у тебя будет. Не наш, видно, издалека сватов пришлет.
Солонька, счастливая, похорошела. В глазах девок зависть.
– Теперь кому ворожим?
Пожелали чуть ли не все.
– Может, тебе, Устя?
– Я потом. На кольце.
– Ей чо ворожить? Она свою судьбу знает. Вон у нее Северька.
Когда надоело жечь бумагу, Устя объявила:
– Теперь я ворожить буду. На мамином обручальном кольце. Ой, только боюсь, девоньки.
Ворожба на обручальном кольце непростая. Ворожить можно только в подполье и непременно быть одной и во всем белом. Здесь смелость нужна. Не всяк решится.
Устя быстро сняла юбку, кофту, осталась в одной сорочке. Распустила волосы. И враз стала похожа на колдунью. Открыла тяжелую западню подполья. Темнота глянула снизу страшно и потаенно. По спинам побежали мурашки. Устя побледнела, отпрянула от люка, но потом решительно стала спускаться вниз. В руках трепетала свеча, горячие капли падают на пальцы, обжигают.
Темно, жутко в закрытом подполье. Ворожея поставила на бочку стакан чистой воды, опустила в воду кольцо. Зеркало укрепила так, что в него все дно стакана видно. Оглянулась: нет ли кого за спиной. Теперь в кольцо нужно смотреть. Сидеть долго и тихо.
Наверху тоже тихо. Замерли девки, нельзя разговаривать. Прикрутили пламя в лампе, чтоб сквозь щели туда, в подполье, не светило.
Скрип какой-то. Слышится или чудится?
Светлая вода в стакане. Чистое дно. Колотится сердце. Но вода вроде помутнела. А в кольце – круг. Дрожит круг, расплывается. В круге точка чернеет. Ближе, ближе. Не точка, а человек. Вот он. Лица не видно. А человек уже верхом на коне. Во весь опор скачет казак.
С грохотом упал со стола ковш. Ойкнули девки, сердце ударило в горло. Теснятся друг к дружке. Как напугались! Неловкая эта Солонька. Оглобля и есть оглобля. Неужто не знает, что ковш на краю стола стоит?
Видение пропало. Сколько ни смотрела Устя в зеркало, только стакан, до краев водой наполненный, и кольцо в нем лежит. Обручальное. Пустое.
После Устиной ворожбы девки узнавали, богат будущий муж или беден. Делается это совсем просто. Нужно только сбегать к бане и сунуть руку в окно, в темноту. Хоть и страшновато, а все ж наперед лучше знать, будет ли достаток в доме. Если коснется руки, там, за темным окном, мохнатым, быть за богатым. А голым – быть за бедным.
Хвастались девки: коснулось мохнатым, явственно так – мохнатым. Забывали только: богатых женихов в поселке мало, на всех не хватит.
За полночь девки вовсю разошлись. Вспоминали все новые и новые возможности заглянуть в судьбу. А когда стряпка Силы Данилыча, Фекла, предложила пойти в телятник хозяина и узнать, кто будет первенец – парнишка или девчонка, – согласились идти все и немедленно.
В темноте телят не углядишь. Но если первый телок, попавшийся под руки, бычок, непременно родиться сыну. Способ проверенный.
В телятник пошли прямо через снежные суметы, напрямик, перелезая через прясла. С визгом, хохотом. Неуклюжая Солонька праздничную юбку порвала.
Сила Данилыч, мучавшийся бессонницей, бродил по двору и еще издали приметил девок. «Куда это их понесло?» Потом хитро улыбнулся и опрометью кинулся в телятник. Там он вывернул полушубок шерстью наружу, накинул его на спину и, согнувшись, стал поближе к двери.
– Чтой-то телята беспокоятся, – шепнула Фекла подругам, появляясь в дверях.
Девки проворно кинулись к телятам.
– Парнишка, – радостно взвизгнули в темноте. Потом голос испуганно ойкнул, закричал по-страшному. Девки, сминая друг друга в дверях, кинулись на улицу. Запинались, раскатывались на свежем навозе. В телятнике кто-то непонятный, утробно давясь, хохотал. «Леший!»
Прыгали через жерденик. Хватали открытыми ртами промерзлый воздух. Бежали, не разбирая дороги. Ворвались в зимовье, закрылись на заложку.
Прыгали руки, искали спички.
А на дверь зимовья, с той стороны, с улицы, наваливаются, жадные руки шарят заложку.
Ужас шевелит волосы под платками.
– Ма-а-ма! – заревели за дверью голосом Солоньки.
Страхи-то какие, Господи. Заложку не снимали до утра. Домой не шли. Не спали. Боялись.
IIIФедька возвращался от Лучки, где засиделся допоздна. За дни Рождества и Святок парень умотался от пьянок, вечеринок, работы по хозяйству и теперь шел медленно. На память пришла Симка. Вспомнились ее просьбы присылать сватов. Симкины просьбы радуют, но он ей сказал, что думать об этом сейчас не время, и своего решения держится твердо. Симка по дурости ударилась в слезы, два дня пыталась не разговаривать.
Федька уже шел по переулку мимо зимовья Темниковых, когда с Круглой сопки, прикрывающей заимку с севера, ударил винтовочный залп.
Парень от неожиданности присел за прясло, потом бегом бросился к своей землянке. Казалось, что пули пролетают где-то близко и не задевают его, Федьку, лишь случайно. У дверей зимовья задержался.
Теперь уже стреляли и с Крестовой, голой каменной сопки, где одиноко стоит крест с давних времен. Поговаривают, что похоронен там предок каких-то князей Гантимуровых.
Короткие злые светлячки появились и на соседней сопке.
Он понял, что заимка окружена. Если и оставался выход, так только через калтус и заросли тальника за Аргунь.
Федька нырнул в зимовье и плотно прикрыл дверь.
– Чего там, братка? – подал из теплой темноты сонный голос Савва.
– Кто-то заимку окружил. Стреляют.
На нарах заворочались, зашептали.
– Мать, не тарахти спичками, огонь не зажигай, – сказал Федька, стягивая унты.
Голос старухи дребезжит, волнуется:
– Оно со светом-то бы лучше. В темноте боязно… О, Господи, спаси и помилуй нас, грешных, рабов твоих. Опять стреляют. Кто в кого – один Бог ведает.
– Спит он, твой Бог, и ухом не ведет.
– Сожгут заимку, добогохульствуешь. Узнаешь тогда, почем сотня гребешков.
Не спали. Сидели в темноте. Ждали. Надеялись – пронесет. Когда тишина и ожидание стали тягучими и звонкими, за окнами послышались топот, голоса.
– Идут!
Дверь с шумом раскрылась, ударилась о нары, под которыми спали телята.
– Кто здесь? Огня! Да поживей, – проскрипел простуженный голос.
– Чичас, чичас, – Костишна ломала дрожащими руками спички.
Жирник затрепетал желтым огоньком, осветил двух вооруженных людей. От вошедших пахло морозом, дымным костром, конским потом.
– Живет кто здесь? – спросил кто-то удивительно знакомым голосом. И вдруг захохотал. – Не узнаешь, Федча?
Федоровна зажгла еще один жирник, и в зимовье стало совсем светло.
– Сукин ты сын, Колька! Напужал как. Нет, чтоб по-людски зайти. Все с вывертами.
Федька стоял на полу босой и радостно улыбался.
– Ну, что смотришь, как баран на новые ворота, – веселился Колька Крюков. – Не узнал? Я тебя специально решил напугать.
Оправившаяся после первого испуга Костишна бросилась собирать на стол, но партизаны от угощения отказались.
– Некогда нам, тетка. Как-нибудь в другой раз. Бельишком вы не богаты? Это я мужиков спрашиваю.
Федька, придерживая штаны рукой, открыл старенький сундучишко.
– Чего-нибудь найдется. Вот.
Достал свою новую рубаху, белые подштанники.
– Обносились, что ль? Да ты, Кольша, сюда смотри, в сундук. Может, еще что пригодится?
– Ладно, хватит. У тебя самого не густо. А вот бакарок возьму, – показал Крюков на выгнутый солдатский котелок. – Эта вещь мне нужна.
Ночные гости пробыли в зимовье недолго. Федька надернул ичиги, выбежал на улицу провожать. Около сенника остановил Николая.
– Сказывай, чего приезжали? Не чай же пить.
Николай свернул папиросу, прикурил, пряча огонь в широких ладонях.
– Знамо, не чай пить. За семьей Осипа Яковлевича. А то тут замордовали Анну совсем.
– Вроде не трогают. Но следят за ней. Даже теплую одежду отобрали, чтобы не убежала.
– Я и говорю, Вроде приманки держат.
На улице уже не стреляли. Только слышались громкие голоса, ржание лошадей.
– Вот что, – вдруг сказал Федька. – Устя пусть тоже уезжает. После вашего набега непременно заимку начнут шерстить. А Устю уже видели кому не нужно. И не раз.
– Пожалуй, дело говоришь, – Николай вдел ногу в стремя, легко прыгнул в седло. Сухой, горбоносый конь присел на задние ноги, крутнулся на месте. – Дальше не показывайся со мной.
Федька вернулся в зимовье, растирая покрасневшие руки. Там не спали, на все лады перебирали приход ночных гостей. Женщины громко жалели белье.
– Это что за хунхузы были? Штаны и рубаху забрали. Теперь парню перемыться не в чем… И Колька с ними.
– Не хунхузы, а партизаны, мать.
Женщины замолчали, но видно было, что белье им все равно жалко.
У поселка Караульного Аргунь делает крутой изгиб. Громадная голубая подкова вписалась среди степей и сопок. Поселок стоит на самой излучине многоверстовой подковы и строго следит за дорогой к своим заимкам. Чтобы попасть на Шанежную из леса – поселок миновать трудно. А в Караульном сильный гарнизон японцев, стоят белые казаки. Но Смолин для своего набега выбрал другой путь. Сотня на самых выносливых конях рванулась через китайскую территорию и к полночи вышла на Шанежную. Услышав со всех сторон пальбу, казаки, прессовавшие на заимке сено, не оказав никакого сопротивления, разбежались по приаргунским тальникам, попрятались в кочкарнике, заросшем жесткой травой. Разбежались и люди, назначенные следить за семьей Смолина.
С гиканьем и свистом понеслись партизаны по заимке. К своему зимовью Осип подскакал в сопровождении десятка всадников. Спешившись, постучал в заледенелое окошко.
– Анна, открывай.
– Надолго ли? – бросилась женщина на шею мужу. – Изболелась душа вся за тебя. А тут еще спокою не дают, житья нет. Одежу теплую отобрали, чтоб не сбежала я. Теперь живьем съедят, как уедешь.
– Не съедят, не съедят. Не бойся. Одевай сына.
Через полчаса Смолинское зимовье опустело. Опустели улицы заимки. Только собаки еще долго не могли успокоиться.
Вылезли из заснеженного кочкарника, из тальника казаки, растирали побелевшие щеки, с испугом посматривали на темные сопки.
Партизаны собрались в ближайшем распадке, проверили, нет ли отставших, и, соблюдая осторожность, двинулись на китайскую территорию. В центре отряда шла кошева, запряженная парой рослых лошадей, на которой ехали, закутанные в козьи дохи, жена Смолина, Анна, и Устя. Трехгодовалый парнишка спал. Осип Яковлевич, склонившись с седла, что-то говорил жене, улыбался.
Чуть не половина партизан ведет заводных коней – награда за набег. Кони добрые, казацкие.
К Смолину подъехал Николай Крюков.
– Осип Яковлевич, тут дядя Андрей говорит, что Нилку Софронова зарубил.
– Правда? – живо обернулся Смолин.
Нил Софронов – справный казак из Приречного. Не раз в составе поселковой дружины ходил на партизан. А недавно выдал партизанских разведчиков, оставшихся ночевать в Приречном. С тех пор лишился Нилка покоя, боялся, что зарежут его прямо в постели, и решил смотаться куда-нибудь подальше, переждать смутное время. Только прошлым вечером приехал он на Шанежную, а тут стрельба, партизаны. Нилка заседлал коня, взял двух заводных и наметом пошел в сторону Караульного.
– Срезал, значит, подлеца? – переспросил Смолин дядю Андрея.
…Багровое солнце медленно выкатилось из-за голых хребтов. Полное безветрие. Дым над печными трубами стоит столбами.
Люди обсуждают ночной набег. Ребятишки разнесли по заимке весть: «За крайним зимовьем, по верхней дороге, лежит убитый».
– Кого убили?
– Где?
– Пострадал, бедолага.
– Зря не тронут.
Бросив домашние дела, шли и бежали за крайнее зимовье, где уже чернел народ. Десятский Проня Мурашев на месте. Как-никак заимочная власть.
– Близко не подходить! – орал он на толпу. – Нужно честь по чести все сделать. Вот ты и ты – будете понятыми, – указал он на грудь двух мужиков. – Составим акт – и к поселковому атаману с нарочным.
В толпе перешептываются, качают головами. Многим убитый не знаком.
– Это дело бандитов Оськи Смолина. – Проня знал, как нужно говорить. – Зарубили невинного человека. Ведь это всеми уважаемый житель Приречного Нил Софронов.
Вперед выступил Сергей Громов, отец Северьяна, сивобородый крупный старик.
– Прокопий Иванович, я хорошо знал покойника. Непонятно, как это Нилка оказался у нас. Да не на заимке, а в степи. Я думаю, что он сам участвовал в набеге, и его наши стукнули.
– Что ты, Сергей Георгиевич! Думай, что говоришь. Чтоб Софронов да с партизанами вместе! У него с ними особые счеты.
– Ну, особые, тогда понятно, – отступил старик в толпу. – Значит, не совсем невинно зарубили. Царствие ему небесное, – и перекрестился.
Толпа зашевелилась. Многим понятны слова старика.
Нилка лежал на животе. Руки раскинуты. Правая – ладонью кверху, изрезанная. Хватался за шашку. Голова без шапки, как бы прислушиваясь, припала ухом к земле. Глубокая рана, теперь уже замерзшая – от левого уха к правому плечу. Шашка перерубила позвоночник.
В толпе переговаривались.
– Мастер рубанул мужика.
– Когда все это кончится?
– Ироды.
– По делам вору и мука.
Расходились группами. Богатые шли с богатыми, косились на тех, что победнее: все они в лес смотрят, волки.
Из тесных зимовьев говорили по-другому:
– Молодец Осип. Не испугался. Нагнал белым холоду. И жену увез у них из-под носа.
Ночью вместе со Смолиным ушли несколько парней. Ушел с партизанами и младший брат Темникова. Мурашев, увидев в толпе Федьку с друзьями, не удержался, сказал:
– А вы здесь еще?
После обеда на заимку нагрянули японцы.
– Ищи ветра в поле, – сказала мать Степанки, Костишна, глядя на солдат, неподвижно сидящих в санях.
– Они думают, что Оська дурак. Станет их здесь ждать.
Переночевав, японцы уехали в Караульный. Зачем приезжали – так и осталось для всех загадкой.
Парни дождались своего часа: завтра Петр Пинигин за сеном поедет в Дальнюю падь. Не зря падь называется Дальняя – далеко. Место глухое, лучше для серьезного разговора не найдешь. Люди там появляются редко; так что без свидетелей встреча будет.
Правда, одно смущало: Пинигина после разговора можно в овражек, в снег сунуть, а сани, лошадей куда денешь? Но Федька знал, что это дело плевое: из Дальней он сразу же за Аргунь махнет, в бакалейки. Там у него есть знакомцы, которые с большой радостью купят и лошадей, и сбрую, и сани. И будут молчать.
Утром Северька и Лучка – каждый на своих санях – выехали за сеном. За последними землянками встретили Федьку.
– Уехал уже, – сообщил он радостно. – Видите след? От самого пинигиновского зимовья идет.
Парни сели в одни сани, Лучкиного коня пустили на короткой привязи.
– Берданку взял?
Северька достал из-под соломы старую берданку, Клацнул затвором.
– Зарядов только мало. Два.
– Хватит. Хватит, Лучка?
Лучка сегодня серьезный какой-то. Не улыбнется.
Санный след уводит все дальше и дальше в сопки.
Где-то там, в конце следа, – человек. И скоро этот след оборвется. Оборвутся не две бороздки, оставленные полозьями саней, а человеческая жизнь. И по этой жизни бежит сейчас Северькин конь, с каждым мгновением отсекая от нее коваными копытами маленькие кусочки.
Разговаривать не хочется. Да и о чем? Все уже обсказано: встретить доносчика, сказать ему, что он подлюга, и убить. Из берданы.
Но Федьке не хочется, чтобы парни молчали. Когда молчишь – всякие думы в голову могут полезть. Непростое это дело – человека застрелить.
– Споем, что ли?
– Холодно.
В Дальнюю приехали, когда был уже белый день. Еще издали около второго зарода увидели темную фигуру. Федька не выдержал, выхватил у Северьки бич, хлестнул коня.
– Это вы чо втроем на двух санях за сеном ездите? – встретил Пинигин парней.
– Поздно собрались.
– Верно, поздно. Я вон уж второй воз уминаю.
Парни замолчали. Пинигин вдруг забеспокоился:
– Это вы как сюда заехали? Вашего сена вроде здесь близко нет.
– Для разговору, дядя Петра, – за всех ответил Федька. – А потом мы тебя прихлопнем.
– Эва! – ухмыльнулся мужик. – Шутники.
– А мы не шутим, – Федька шагнул вперед. – Ты ведь не шутил, когда на Иннокентия доносил.
Вот оно что. Сердцем чуял – не с добром они подъехали сюда. Пинигин оглянулся. За спиной – зарод сена. Рядом стоят равнодушные лошади. Впереди – парни. Не уйти. Затосковала душа.
– Да вы что, белены объелись? Ни на кого я не доносил. Крест на вас есть? – закричал он.
И вдруг прыгнул к саням, где, завернутый в тряпицу, лежал топор.
Но Северька поспел раньше. Ударом ноги он свалил Пинигина на мерзлую землю. Тот закрыл голову руками, ожидая новых пинков.
– Вставай!
Пинигин встал, зачем-то отряхнул прилипшее к шубе сено.
– Убивайте.
Северька сходил к своим саням, принес берданку. Сунул ее Лучке.
– Стреляй гада.
Лучка враз стал суше, угловатее лицом. Торопливо схватил бердану. Поднял ее к плечу.
Пинигин застывшими глазами уставился на черный дульный срез. Шарит по груди руками.
Сейчас Лучка нажмет курок, грохнет выстрел, вздрогнет низкое серое небо. Завалится набок ненавистный Пинигин, и отомщенная боль уйдет, исчезнет.
Федька сжал зубы, ждет выстрела.
Северька с виду спокоен, но мысленно торопит Лучку: нажми на курок, скорее.
Глаза у Пинигина безумные. Не видят глаза ни снега, ни людей, ни сопок: все заслонил собою черный винтовочный зрачок.
– А-а-а! – закричал он хрипло.
Дернули головами кони, шарахнулись в оглоблях.
– Не убивайте! – Пинигин повалился на колени.
– Стреляй, Лучка! – Федька повернул голову, зло оскалился. – Не тяни.
Шарит черный ствол по Пинигину. С груди на лоб, со лба на грудь. Мужику явственно кажется, что ведут стволом прямо по его голому телу.
– Не могу я, – неожиданно для всех сказал Лучка и опустил винтовку.
– Можешь! – озверел Федька. – Стреляй, или я тебя изувечу. Лучка дергал головой.
– Бога молить… Бес попутал… – то бормотал, то выкрикивал Пинигин. – Дети… Сироты… Бога молить…
– Северька, а ты что молчишь?
– Это Лучкино дело. Ему решать. – Северька делано спокоен, стоит прямо.
Неожиданно поднялся ветер. Сыпанул колючим снегом, взворошил сено, закосматил лошадиные гривы и хвосты.
В глазах Пинигина злобная мука и надежда.
– Отпустите его, ребята, – Лучка смотрит в землю, кривит лицо. – Пусть уезжает.
– Не выйдет! – Федька схватил доносчика за воротник полушубка, приподнял, ударил кулаком в лицо. Мужик запрокинулся, пытался подняться, но Федька, распаляясь, стал бить его ногами. Удары были глухие, плотные.
– Убью! – Федька прыгнул, выхватил винтовку у Лучки, дернул затвор. – Молись, сука!
Каменным обвалом грохнул выстрел. Но Лучка успел подтолкнуть винтовку, пуля ушла выше зарода.
Федька обмяк, бросил винтовку, медленно пошел к саням.
– Пропадешь ты так, Лучка. Плохо тебе будет жить на этом свете.
Северька поднял винтовку, подошел к Пинигину, все еще лежавшему на земле, тронул его ногой.
– Вставай, язва, и мотай отсюда. Да языком не трепли. Достанем тебя везде.
Пинигин боязливо оглянулся на Лучку – только что в руках этого парня была его жизнь, да и сейчас, скажи он слово, и не уйти ему, быстро поднялся, схватился за вожжи, тронул коня. Второй воз сена был неполный, не придавленный бастриком; сено большими клоками падало на снег. Но Пинигин торопился. И не было в его душе благодарности к Лучке, избавившему его от верной смерти.
Парни стояли молча и не глядели друг на друга.
Богатый казак Илья Каверзин ждал рождения внука. Сын Андрей служил в милиции у Тропина, бывал на Шанежной редкими наездами, и все заботы о Марине, невестке, легли на плечи будущих деда и бабки.
Илья сыном гордился. Высокий, красивый мужчина. Русоволосый, широкоплечий, в отца. И на службе его ценят.
Правда, ползли слухи, что молодой Каверзин – зверюга добрая. Вместе со своим начальником, пьяные, вывели за огороды Кеху Губина и разрядили в него по револьверу.
Илья хоть и считал, что с безбожниками, с красными бунтовщиками, церемониться нечего, но зверства не одобрял, наветам на сына не верил. Смущало одно: голова Кехи разбита не одним-двумя выстрелами. Будто молотили по голове цепом.
Старик понимал, что беременную женщину сохранить не так-то просто. Сглазить, испортить могут. Такие случаи бывали.
Ольга Евсеевна, жена Ильи, больше всего боялась вещицы. Этой нечистой силе ничего не стоит вынуть ребенка из чрева матери, да так ловко, что та и ничего не услышит. А сколько она попортила жеребят, телят. Каверзины приняли все меры предосторожности. В зимовье жгли богородскую траву, свет не гасили до первых петухов. Невестку не показывали даже соседям. На большой живот Марины надели расставленный ошкур от подштанников мужа: от сглазу спасает.
Заранее обдумали, кого позвать к роженице в свое время. Бурятского ламу отвергли сразу. Тот хоть и имеет большую силу, а нехристь. Фельдшера Кузьменко из поселка отверг сам Илья: Андрюха говорил, что Кузьменко к партизанам шибко хорошо относится. Решили, что лучше Федоровны по этому делу здесь, на Шанежной, никого нет. Бабничать она мастерица. Только на заимке ее внуков человек двадцать наберется.
Ольга Евсеевна к Стрельниковым пошла сама, такое дело работнице не доверила.
– Я к тебе, Анна Федоровна. Дело у меня.
Федоровна уже знает, зачем пришла гостья.
– Проходи, Евсеевна. Как здоровье?
Каверзина садится к столу, на лавку, вытирает рот концом платка.
– Болела, голубушка, думала, помру, да Господь не дал, оклемалась.
Хозяйка ставит на стол тарелку серых шанег.
– Не обессудь. Чайку попьем. А ты, Степанка, – кивнула она младшему сыну, – иди погуляй. К Шурке сходи. Чего тебе со старухами сидеть.
Евсеевна вытягивает губы трубочкой, шумно пьет горячий чай, рассказывает свое:
– Левое ухо болело – мочи нет. Грела и все делала. А потом Марина свечку из церкви зажгла, через огонь в ухо подула. Сняло.
Федоровна согласно кивает головой.
– Помогает. Помогает.
– Внука жду. Не откажи, ради Христа – приди, когда настанет время.
Федоровна для приличия отказываться стала.
– Помочь людям – Бог велит. Может, Андрюха фельдшера лучше бы позвал? Человек ученый, грамотный. Не нам чета.
Евсеевна замахала руками.
– Что ты! Нельзя. Андрюха не хочет его. Говорит, проси Федоровну. Платой не обидим.
– Мое хоть и вдовье дело, за платой не гонюсь.
Старая Каверзина ушла довольная, унося строгий наказ беречь невестку, особенно от дурного глаза.
У Стрельниковых гость. На короткую побывку приехал старший брат Федьки, Александр, урядник девятого казачьего полка. Саха – казак бравый. Гордо носит залихватский русый чуб, щегольские усы.
Федька проснулся, когда за маленьким окном занимался день. Жадно выпил ковш холодной, со льдом, воды. Потирая голову, силился вспомнить вчерашние разговоры.
Сквозь зыбкую пелену помнилось: гость сидит за столом, вольно расстегнув ворот, весело шутит, много пьет. Степанка с восхищением смотрит на братана, ловит каждое его слово.
Потом между Федькой и Сахой крутой разговор вышел. Но Костишна их утихомирила. О чем ругались – трудно сейчас вспомнить.
Федька оделся, посмотрел на спящего брата, поманил Степанку за дверь.
– Пойдем сена животине дадим. Сахиного коня накормим.
Степанка собрался быстро. Надел стоптанные ичиги, шею замотал материной шалью, нахлобучил до самых глаз шапку.
Кони встретили их радостным ржанием.
Взяв широкие деревянные вилы, Федька пошел в сенник.
– Чего это мы вчера с Сахой шумели, не помнишь?
– Помню, – обрадовался Степанка. – Ты пьяный был да и давай к нему приставать, что он японцам служит. Материл его.
– А он?
– А он тоже матерился. Тебя краснозадым называл. Хотел тебе морду набить.
– За что это?
– А ты велел ему к партизанам убегать… Ниче, помиритесь, – Степанка пнул мерзлый кругляк конского навоза, вытер нос мохнатой рукавицей.
– Не помиримся, братка. Вот жизнь что делает, – Федька стал серьезным. – Этого разговора у нас с тобой не было. Запомни.
Степанке грустно, что такие хорошие братаны, которыми он гордился, не будут мириться.
– Ты, Федя, сегодня на него не налетай, он ведь гость.
– Не буду, – обещал Федька.
Весь день Федька был дома. Просушил седло брата, вытряс потники, попону. Любовно вычистил винтовку и шашку.
Александр воспринял все это как раскаяние за вчерашние необдуманные слова.
– Я бы сам все это сделал, – говорил он брату, – но коли охота, так уважь.
Только за обедом Федька спросил:
– Чего ты взъелся вечером на меня? Я плохо помню, что говорил.
– Под чужую дудку поешь, вот и отругал я тебя.
– Да нет, брат, – примирительно сказал Федька, – я просто думаю, почему, кто победнее живет, в партизанах ходит. Справные – у Семенова. А мы разве справные?!
– Нет, – жестко ответил Александр, – красные – зараза. Заразу надо уничтожать. Я тебе как старший брат говорю.
В самые клящие крещенские морозы, когда замерзали на лету воробьи и даже вороны, заимка обрадованно загудела: на Аргуни пошла рыба. Об этом сообщил дежуривший на реке в прошлую ночь Северька Громов. Рыбу ждали давно, и народ валом двинулся на лед Аргуни.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































