Текст книги "Скопец. Серия «Невыдуманные истории на ночь»"
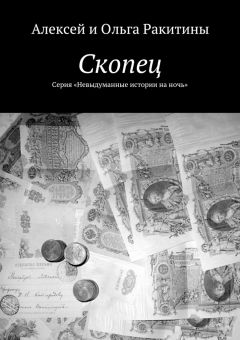
Автор книги: Алексей и Ольга Ракитины
Жанр: Современные детективы, Детективы
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 22 страниц)
4
Утром 31 августа Шумилов проснулся под шум затихавшего дождя. Через приоткрытую форточку можно было слышать шелест листвы в кронах вековых деревьев, редкие крики незнакомых птиц, стук капели по подоконникам и водостокам. Воздух в Лесном был необыкновенно свеж; здесь хорошо спалось и хорошо дышалось. Валяясь в кровати и рассматривая деревья за окном, Шумилов поймал себя на мысли, что покойному Николаю Назаровичу Соковникову никак нельзя отказать в разумности: здесь, в северном предместье столицы действительно чувствуешь себя много лучше, нежели в пыльном городе, что особенно важно для любого пожилого и нездорового человека. Молодец, Николай Назарович, хорошенькое местечко отыскал, чтобы свить себе гнездо!
Завтракал Алексей Иванович вместе с Василием Александровичем. Базаров по-прежнему оставался на положении лакея и за общий стол не садился. Племянник покойного миллионера во время завтрака оставался задумчив: насколько понял Шумилов, его беспокоил вопрос о том, на какие средства содержать дачу и городской дом, из чего платить жалованье слугам, ведь до получения денег по векселям, найденным в спальне покойного Николая Назаровича, оставалось покуда немало времени. Алексей посоветовал племяннику взять в любой банкирской конторе небольшой кредит, буквально тысяч на пять, только чтоб на первые нужды хватило, и продержаться до получения денег по векселям, из которых потом погасить кредит. Поскольку Василий являлся иногородним и никому в столице известен не был, возникал вопрос об условиях кредитования. Шумилов разъяснил надлежащий порядок действий: объявить официально о вступлении в права наследования, подписав у душеприказчика соответствующее заявление, и в сопровождении того же самого душеприказчика отправиться в банк.
После завтрака Алексей Иванович решил поговорить с Базаровым о событиях последних дней жизни Николая Назаровича Соковникова, а также о том, что происходило в доме сразу после смерти последнего. Логичным казалось предположение, что хищение – если оное на самом деле имело место – случилось совсем недавно, скорее всего, сразу же по смерти миллионера. Кроме того, Шумилову не давало покоя воспоминание о том, как Базаров сказал, что это не его «рука по вещам Николая Назаровича ходила». Так и хотелось немедля уточнить: чья же тогда?
Камердинера Шумилов отыскал на заднем дворе, где в своеобразном «кармане», образованном стенами флигеля и сарая, солнечном и безветренном, Базаров чистил многочисленные костюмы покойного хозяина.
– Вот-с, собрал по всем шкафам и сундукам, – увидев Алексея Ивановича, проговорил камердинер, кивком указав на стопу одежды. – Готовлю для нового хозяина, пусть будут в порядке, а уж он пускай решит, что с этим добром делать дальше.
– Видите, Владимир Викторович, как всё неплохо для вас обернулось. Завещание отыскали, и вас теперь никакая актриса не оттеснит от денег. Пятьдесят тысяч – хорошая сумма, с таким кусом можно и на покой, – заметил Шумилов.
– На покой-то можно, да только я не привык, – вздохнул камердинер. – Вот меня уже и Фёдор Иванович Локтев к себе звали-с! Так что, наверное, к нему и направлюсь. Если молодой хозяин прогонит. А не прогонит – ему буду служить.
– Николай Назарович, стало быть, вас более прочих любил, коли денег столько оставил? Ведь как говорят, он под конец жизни скуповат стал? Характер у него вроде как испортился, бранился он много. Трудно к такому человеку по-доброму относиться…
– Да как сказать… – Базаров отложил работу, задумался на какое-то время. – Барин не злой человек был. Несчастный только и одинокий. А чтоб злой – нет, никогда! А кто говорит-то о нём такое, небось Яков Данилович? Уж ему бы лучше помалкивать, не шуршать здеся!
– Гм… Почему вы решили, что именно он?
– Уж зело барин на него серчал в свои последние дни. Он подобрал Селивёрстова одиннадцать лет назад, когда тот чуть было по миру не пошёл. Они вообще-то были старинными знакомыми, потом потеряли друг друга из вида и вот неожиданно встретились на Невском проспекте. Только Николай Назарович оказался богат и успешен, а Яков Данилович последние штаны донашивал. Вид имел прежалкий, скажу я вам! Поговорили они по душам. Селивёрстов пожаловался, дескать, жена умерла, дело расстроилось, а у него до того лавка меняльная была. Одним словом, смирил гордыню и упал в ноги. Ну, Николай Назарович и пригласил его к себе послужить. Жалованье дал поначалу крошечное – всего-то семь рублей в месяц плюс квартиру в городе и стол. Постепенно жалованье прибавлял, сделал управляющим. Тут бы Якову Даниловичу возблагодарить Господа и послужить барину верой и правдой, но… видать, слаб человек, всё ему мало. Короче, стал он подворовывать.
– Вам-то откуда это известно? – Шумилов удивился тому, как легко и ловко Базаров «сдал» Селивёрстова.
– Так барин же и говорил. Для него это тайны не составляло. Каналья, говорил, и вор. Хотел его уволить в самом скором времени, да вот не успел. А незадолго до смерти Николая Назаровича вообще вопиющий случай вышел. Если бы барин о нём прознал, то сидеть бы сейчас господину Селивёрстову не у себя за самоваром, а в каталажке клопов давить.
– Что же за случай?
– Служила у нас в прошлом годе кухарка, Мария Желтобрюхова. Кухарка как кухарка, да только с бо-о-о-льшим гонором, слово ей не скажи. А барин – он ведь никому спуску не давал, и не смотрел, что баба перед ним. Мог и по-матушке послать и затрещину отвесить. Так вот, на масленицу как раз дело приключилось: у Николая Назаровича расстройство живота началось, он сказал, что это после её стряпни. Обругал Желтобрюхову последними словами, дескать, отравить меня хочешь, каналья. Обругал и расчёт дал, гуляй, дескать. Ну, эка невидаль, у нас за последний год человек сорок прислуги сменилось, не меньше…
Шумилов только крякнул:
– Ого-го! Что ж так-то? Не слишком ли борзо?
– Не вру, Алексей Иванович, ей-ей человек сорок! Многовато, конечно, но Николай Назарович крут был на расправу, халатности и нерадивости не прощал. Ленивых просто ненавидел и готов был со свету сжить. Так вот… Марья эта Желтобрюхова, не будь дурой, подала мировому судье жалобу на Николая Назаровича – за словесное оскорбление. Так-то! Сами понимаете, хозяину такая слава ни к чему, суд и всё такое, ещё чего доброго, газеты напишут. Короче, Николай Назарович дал Селивёрстову десять тысяч рублей – езжай, говорит, к судье и как хошь уломай его, чтобы не дал делу ход, взятку предложи или хоть на мебель для присутствия пожертвуй… ну, как полагается. Яков Данилович деньги взял, а когда к судье приехал, то узнал, что и без того кухарке той в иске было отказано, а она и просила-то всего сто рублей в возмещение морального вреда. Селивёрстов обрадовался, доложил барину, что дело улажено, а эти самые десять тысяч в карман себе положил.
– Это он сам тебе рассказал?
– Шутите? – усмехнулся Базаров. – Кто ж такое про себя расскажет? Просто у меня знакомец в суде делопроизводителем работает, он мне и рассказал, что кухарке было отказано, причём даже раньше, чем Яков Данилович приехал дело улаживать. Ну, я всё и понял.
– А хозяину, стало быть, ничего не сказали… – подытожил Шумилов.
– Так а зачем его волновать? У него приступ мог случиться. И без того сердце больное. Я подумал: не моего ума это дело – между людьми встревать. Бог все равно всех по своим местам расставит.
Внезапно из зарослей густой сирени, что примостилась возле дома, раздалось задорное щёлканье, а потом и необычное «фью-и-ить, фьи-ить»….Рассыпчатые звуки привлекали к себе внимание своей необычностью и смелостью, словно невидимая в листве птаха не волновалась за свою безопасность – знала, что в округе нет вездесущих мальчишек с рогатками, и ничуть не боялась привлечь к себе внимание местных котов. Базаров замер, превратившись в слух, лицо его неожиданно потеплело, морщинки в уголках глаз сложились в ласковую гримаску и он внезапно, поджав и изогнув губы, издал громкий ответный свист, очень похожий на птичий. Певунья в кустах ответила протяжным заливистым щёлканьем. Владимир оставил своё занятие и быстро подошёл к кустам. Рука его скользнула в карман сюртука, и он высыпал на дорожку горсть семечек. Ещё раз издал свист с прищелкиванием, подзывая птичку, и вернулся к Шумилову. Лицо его сияло.
– Вот ведь тварь Божия! Неразумная, а память имеет, и благодарность ей ведома почище, чем иному человеку! Все лето мы с ней так общаемся. Она меня даже по шагам признаёт!
Шумилов, подивившись в душе такой сентиментальности, для приличия выдержал небольшую паузу и вновь вернулся к прерванному было разговору, причём несколько назад, не желая особенно уклоняться от темы.
– То есть, Владимир Викторович, прислугу барин прижимал?
– По секрету вам скажу, Алексей Иванович, иногда очен-но. Можно даже сказать – тиранил. Не со зла, конечно, просто характер был такой. Дворники у нас дорожки зимой расчищали по веревочке.
– Это как?
– Как в армии! Барин натягивал верёвочки между колышками вдоль дорожки, а они должны были строго по этой верёвочке чистить. И ней дай Бог зайти им за линию или лишний снег оставить! Гром и молния! За порядком сам всегда следил: как инвентарь сложен – чтоб по росту и ранжиру, у кухарок проверял, как посуда и столовые принадлежности начищены. И ещё каждую неделю собственноручно перевешивал запасы продуктов. Каждую мелочь записывал в приходно-расходную книгу. Говорил бывало, я никому не позволю себя обворовывать. Вот такой характер!
Шумилову живо припомнилось, как в первый день описи пристав просматривал найденные приходно-расходные книги прошлых лет. Самых последних книг так и не нашли. Старые – те все оказались на месте, а одной или двух последних – нет. «Ай-яй-яй, неспроста пропали деловые записи такого хозяйственного человека, – подумал Шумилов. – «Был от этого кому-то прок». Вслух он, разумеется, этого не произнёс, а высказался общо и неопределённо:
– Наверное, такой характер вызывал… мягко говоря, не особенную любовь прислуги?
– Да уж, конечно, Алексей Иванович, – кивнул Базаров. – Знаете, когда доктор приехал и распорядился обмыть покойного, дворники явились и понесли тело. Да так неаккуратно взялись, что уронили Николая Назаровича головой об пол. И что ж вы думаете? Ни сожаления, ни раскаяния, только злобная мелочная мстительность: один из них не постеснялся сказать вслух, что, дескать, хозяин, теперь молчишь, ничего не скажешь, а раньше, поди, всё замечал…
– А как он к вам относился? Тоже, бывало, обижал?
– Пожалуй, что нет… Я же всегда при нём, ходил за ним как за малым дитятей… Иная мать так за ребёнком не смотрит. На меня ли ему жаловаться? Он мне доверял. Остальных в корысти подозревал, говорил, всем от меня что-то нужно. Локтев, мол, старый приятель, а и тот мне своих дочек в крестницы подсунул, надеясь, что им хороший кус от меня по завещанию отломится.
– Так ведь и отломился, – заметил Шумилов.
– Отломился, сие точно. Не стал Николай Назарович напоследок сквалыжничать… Он всех называл лицемерами. А что касаемо меня, так я такой же одинокий старик, что и он. Мы с ним жили бок о бок, да и старились вместе, – вздохнул лакей и слёзы заблестели в его глазах.
Алексей почувствовал неловкость из-за своей недипломатичной прямолинейности. Отступать, однако, не следовало, разговор надлежало закончить.
– Владимир Викторович, опишите, пожалуйста, в подробностях день смерти Соковникова, – попросил он.
– Утром я зашёл к нему в спальню как обычно, в четверть восьмого утра. Спал Николай Назарович всегда с открытыми окнами; кутался в пуховое одеяло, колпак надевал на голову – и сон без просыпа в любую погоду, и зимой, и летом! А вставать он любил, чтоб в комнате было уже тепло. Вот я и закрывал сначала окна, разжигал камин в холодные дни, ну… особенно зимою. В ту ночь, когда умер Николай Назарович – с двадцать четвёртого на двадцать пятое августа – без остановки шёл дождь… Захожу я утром – а окна настежь и воды налито – ужас! – на столе письменном, на кресле, что как раз у другого окна стояло, и столик лаковый красного дерева с наборным узором тоже весь залит. Я аж ойкнул ненароком! Николай Назарович обычно в это время уже просыпался, шевелился в кровати, мог что-то сказать… Н-да-а… А тут – тишина стоит. Я поначалу даже и не понял причины. Подошел к кровати посмотреть… А он как бы и не дышит. Я позвал его, тронул за плечо; он на боку лежал, а плечо уже холодное. Я перепугался, кинулся Якова Даниловича звать – тот в мансарде ночует. Селивёрстов, не одеваясь, сбежал вниз, прямиком в спальню помчался, к хозяину… Подошёл, убедился, что тот мертв. Потом – гляжу через приоткрытую дверь – он к столу подошёл и как будто ящики потрогал.
Базаров помолчал какое-то время, словно бы вспоминая что-то, затем продолжил свой рассказ:
– Увидев, что я за ним наблюдаю, Селиванов вышел ко мне и говорит: надо, дескать, окна закрыть, а то дождь льёт, а рамы разбухли и не прикрываются. Я побежал за плотником… Привёл. Стали они стол двигать – он же вплотную к окну приставлен, сами видели. Потом Яков Данилович начал туда-сюда ходить: то в спальню хозяйскую, то к себе наверх, то опять в спальню… Побудет наверху минут десять – и назад. Выходит из спальни и словно бы прячет что-то под полой пиджака. Р-раз! мышкой наверх шмыгнет и опять назад возвращается.
– И сколько раз он так ходил? – уточнил Шумилов.
– Да раза три-четыре. Потом, когда плотник раму подстрогал, и окно удалось закрыть, Яков Данилыч мне и всей челяди наказал – ничего не трогайте, я… в смысле он, поедет и сам полицию вызовет. Дверь в хозяйскую спальню запер, запряг дрожки, да и отправился. Возвернулся часа через четыре, да только привёз с собою не полицейских, а купца Локтева.
– То есть всё это время полиции в доме не было?
– Нет, конечно, откуда ей взяться? И вот Селивёрстов вместе с Локтевым пошли в спальню хозяина… Локтев вскоре вышел и отправился наверх, в комнату Селивёрстова, а Яков Данилович всё какие-то бумаги из бюро покойного выбирал. Потом, значит, тоже к себе наверх прошёл и через какое-то время опять вернулся в спальню хозяина. Затем приехал доктор, прямиком направился в спальню хозяина и застал там Селивёрстова и Локтева. Причём Локтев курил сигару. Яков Данилович простодушно и доктору предложил сигару из коробки, которая тут же, в спальне стояла.
– Хозяйские, стало быть, сигары, – заметил Шумилов.
– Ну да, а то чьи же? А Локтев с видом знатока говорит: нет, это плохие сигары, мужицкие, лучше вот моих попробуйте. Доктор, похоже, опешил, курить не стал, стыдно, говорит, при покойнике. Н-да-а, людишки!… А Николай Назарович так и лежал всё в той же позе, ведь трогать-то было не велено! Доктор тут же послал дворников – одного за полицией, другого – за священником, отцом Никодимом, что с подворья Валаамского монастыря, он был духовником покойного, ну да вы его видели. Вскоре явился пристав собственной персоной. Посмотрел, расспросил, с доктором потолковал. Выяснилось, что доктор Гессе никаких возражений к захоронению не имеет, разрешение на это даст без проволочек. Ну тогда пристав и говорит, тело уносите, можете обмыть. Тут-то и случился тот казус, о котором я упоминал: дворники тело уронили головой об пол. Н-да, плохая примета, доложу вам… Вот.
– И только после этого дело дошло до опечатывания комнат, – подвёл итог Шумилов.
– Ну да! Пристав сказал: раз покойный был богатым человеком, следует до выяснения всех обстоятельств с наследством и имуществом все личные вещи и покои опечатать. Чтоб не расхитили имущество, значит. Наклеил свои бумажки на шкафы с посудой и книгами, сундуки, гардеробы с хозяйским платьем, спальню, бильярдную… Да вы сами всё видели. Всю мебель в спальне опечатал… Наши комнаты – я имею ввиду свою, горничных, кухарок, Якова Даниловича, ту, что в мансарде – не тронули. Я тем же вечером отправился на почтамт и дал телеграмму Василию Александровичу Соковникову, племяннику покойного. Вернулся, а у нас уже молебен идёт за душу раба Божия Николая… И так все три дня до похорон молились за новопреставленного раба Божия, упокой, Господи, его душу… А на другой день поздно вечером племянник хозяина приехали, Василий Александрович то есть. А потом уж вы знаете всё – завещание читали у нотариуса, и я к вам помчался.
– Послушайте, Владимир Викторович, ваш рассказ может оказаться очень важен для агента сыскной полиции, который приедет сюда по заявлению пристава. Вам непременно надо будет всё, сказанное мне, повторить сыщику. Вы это понимаете? – строго спросил Шумилов.
Базаров как-то замялся, опустил глаза и пробормотал негромко:
– Боюсь как-то, неловкость испытываю… Я ведь Якову Данилычу не ровня, вдруг осерчает, скажет, чего это я пасть разеваю? Он ведь меня в порошок сотрёт! Ну кто я супротив него?
Камердинер выглядел в эту минуту очень смущённым и жалким. Шумилов понял, что рассчитывать на мужественный поступок со стороны лакея не приходится – эта рохля, забитый, трусливый человек никогда не решится открыто изобличить того, кто в его понимании стоит выше по социальной лестнице. Пусть даже эта высота статуса существует лишь в его воображении и ничего не значит с точки зрения закона. Алексей чувствовал сейчас твёрдую уверенность в том, что именно так и развивались события в доме умершего скопца-миллионера: ощущалась в рассказе Базарова жизненная правда, точно и живо описывал он перемещения по дому всех участников тех событий и их действия. И про сигары Соковникова припомнил, маленький штришок, казалось бы, а как много в нём выражено! Перед Шумиловым зримо вставала картина свершившегося воровства, осуществлённого грубо, нагло, зримо. Интересно только, на что рассчитывал Селиверстов, забирая вещи умершего? Неужели на то, что Базаров никому и никогда не решится рассказать об увиденном? Наивно и странно… управляющий вовсе не производил впечатление глупого человека. Или подобная самонадеянность – это вовсе не глупость, а знание человеческой натуры, лакейской слабости и бесхребетности Базарова? Отсюда и расчёт на то, что даже увидев через приоткрытую дверь лишнее, камердинер предпочтёт сделать вид, будто ничего не заметил.
Шумилов вернулся, обдумывая рассказ Базарова, и отправился на поиски Василия Александровича. Соковникова он нашёл в спальне дяди, тот сидел за письменным столом и изучал большой конторский журнал, служивший покойному приходно-расходной книгой. Теперь, когда к документам умершего миллионера полиция открыла допуск, наследнику следовало получше изучить, что же именно он унаследовал.
– Вот, пытаюсь понять, что же у Николая Назаровича должно быть в сухом так сказать остатке, – удручённо проговорил племянник. – Сдаётся мне, что много чего. А ничего нет. Одной только наличности в доме должно быть тысяч пять, не менее. Вычитал про депозиты в разных банках, надо будет завтра объездить, уточнить, что осталось. Чует моё сердце, что была кража.
– Моё сердце тоже это чует, – заметил Шумилов. – Но я надеюсь, что многое удастся вернуть.
– Правда? – Василий с надеждой поднял глаза на Шумилова. – Вы что-то узнали?
– Пока ничего. Считайте, что я сие сказал лишь основываясь на чутье и опыте.
– Надо матушке письмо написать, – неожиданно заговорил о другом Василий. – Она одна сидит в Твери, на хозяйстве, так сказать. Чувствует она себя не очень хорошо, болеет, беспокоюсь я за неё. Мы с мамашей жили небогато, не то чтобы скудно, а скромно, мечтали о наследстве… жизнь в Петербурге представлялась сказочной, недосягаемо-райской. Фонари, театры, мощёные улицы, водопровод, опять же… Теперь вот и наследство вроде бы получил, а в душе горечь какая-то, ощущение обмана. Мне даже не самих украденных ценностей жалко, а досадно, что какой-то негодяй обманул, обокрал, а поделать я ничего не могу. Чувство беспомощности злит. Может, мне надлежит самому поехать в сыскную полицию и подать необходимое заявление?
– Нужды в этом я пока не вижу, – заверил Шумилов. – Это должен сделать пристав, тем более, он сказал, что так и поступит. Полагаю, уже завтра у вас появится сыскной агент. Во всяком случае, вы спокойно можете выждать день или два, там станет ясно, как действовать далее.
– Хищение совершил кто-то из своих, из тех, кто у нас перед глазами, – задумчиво продолжил Василий. – Может, имеет смысл обыскать весь дом и личные вещи работников?
– Ход ваших мыслей мне понятен. Да только краденого в доме уже нет, прошедшего времени вполне достаточно, чтобы вывезти всё. За прошедшие дни каждый работник уже не один раз выезжал в город, так что вор всё опасное для себя уже вывез в надёжное место. Кроме того, по закону вы не имеете права обыскивать личные вещи своих работников. Так что идея, конечно, хорошая, но несколько запоздавшая.
– Что ж, спасибо, вы так всё ловко по полочкам раскладываете!
– На самом деле наука нехитрая, – усмехнулся Шумилов. – Василий Александрович, мне надо бы съездить в город, поскольку истекает время моего отпуска, взятого на три дня. Разберусь сегодня со всеми делами и вернусь либо вечером, либо завтра утром.
– Что ж, действуйте, – кивнул Соковников. – Давайте-ка, я распоряжусь, чтобы вам экипаж заложили.
Он с трудом вышел из-за стола, придерживая рукою бок, перехватив взгляд Шумилова, пояснил:
– Почка болит, хоть ты тресни! Чаёк пью, а толку – чуть! Но невозможно же всё время для снятия боли пить опий, правда?
Они вместе вышли во двор, где Василий подозвал конюха, отдал необходимые распоряжения и через четверть часа Алексей Иванович уже ехал в направлении Петербурга.
Ещё не было двух часов пополудни, как Шумилов закончил свои дела в «Обществе взаимного поземельного кредита» и направился к себе на квартиру. Следовало переодеться в чистое, да и перемену белья сложить в портфель, дабы забрать с собою в Лесное. Пользуясь случаем, он отобедал с квартирною хозяйкой, госпожой Раухвельд, и уже вышел из-за стола, когда горничная Маша сообщила, что к нему явились гости: господа Пустынцев и Гаршин. С первым Шумилов хорошо и давно уже был знаком – они вместе заканчивали Училище правоведения, вторая же фамилия ничего Алексею не сказала.
Выйдя в прихожую, Алексей увидел рядом с Владимиром Олеговичем Пустынцевым мужчину среднего роста с густой тёмно-русой бородой, показавшегося ему поначалу довольно молодым, но нарочито хмурым. Высокий лоб незнакомца прорезала глубокая вертикальная морщина, насупленные брови и нарочито прямая осанка выдавали стремление показать свою независимость и значимость. Так обычно держат себя подростки, добирая солидности и важности. Одет незнакомец был подчёркнуто аккуратно, даже франтовато: сюртук от хорошего портного, шелковый галстук, рубашка накрахмалена, да так, что казалось захрустит при энергичном движении.
– Алексей, такое впечатление, будто ты не живёшь дома! – раскованно жестикулируя, заговорил Пустынцев вместо приветствия. – Второй день являюсь к тебе и не чаю уже застать! Ты посмотри, кого я привёл – это Вселовод Гаршин собственной персоной, прошу любить и жаловать!
– Шумилов Алексей Иванович, но можно без отчества, – подал руку Алексей. – Вы часом не…
– Правильно, это именно он, – перебил его Пустынцев, – наш дорогой писатель и журналист. Узнал, что мы знакомы, и настоял, чтобы я свёл его к тебе. Попадёшь, брат, в эпическое произведение. Ведь напишет же Всеволод Михайлович когда-нибудь что-либо эпическое!
– Прошу вас, проходите, – Шумилов отступил, пропуская гостей в свой кабинет. – Нечего стоять на дороге.
Он, разумеется, знал, кто такой Всеволод Михайлович Гаршин. Студент Горного института, добровольцем ушедший в действующую армию в начале Балканской войны, раненый в ходе боевых действий с турками и написавший несколько пронзительных рассказов о войне, к лету 1880 года сделался известен всему читающему Петербургу. О нём заговорили как о новом Льве Толстом, когда-то снискавшем всеобщую известность именно после опубликования «Севастопольских рассказов». Начало литературного пути обоих писателей и в самом деле казалось чем-то похожим.
Пустынцев, с которым Шумилов не виделся уж года два, держал себя непринуждённо, словно только давеча забегал к Алексею. Протянул Алексею бутылку шампанского и лукошко с клубникой.
– Вот, братец Лёшенька, заехали в Милютинские ряды, прихватили. Знали, что у тебя может не оказаться, – и с прелестной наглостью столичного выжиги уселся на диван, забросив ногу на ногу.
Шумилов после Училища правоведения попал в Министерство юстиции на казённую службу, Пустынцева же по папиной протекции угораздило устроиться в коммерческий банк. Специфика работы, требовавшая умения ладить с людьми и при случае пускать пыль в глаза, наложила на манеры прежде весьма скромного Владимира определённый отпечаток. Чувствовалось, что он превратился не то чтобы в хама, но в милого наглеца точно.
– Всеволод коллекционирует человеческие типы, – разглагольствовал Пустынцев, наблюдая за тем, как Алексей разливал шампанское по высоким фужерам на тонкой ножке. – Он премного наслышан о деле француженки Жюжеван, из-за коего ты вылетел из нашей достопочтенной прокуратуры… будь она неладна! Узнав, что ты мой товарищ, насел, говорит, веди к Шумилову, хочу посмотреть на этого Давида, восставшего против отечественного Голиафа. Да-с, так и сказал, метафора, однако! Или гипербола, уж и не знаю, как правильно! Всеволод будет твой человеческий типаж исследовать посредством писательского инструментария, так сказать, препарировать тебя, разбирать по косточкам: усики, рожки, ножки, брюшко, там, панцирь, крылышки, если есть, всё как положено…
– Я, знаете ли, получив офицерский чин, взял да и вышел в отставку, – откашлявшись, негромко заговорил Гаршин; его серьёзный тон резко контрастировал с ёрничаньем Пустынцева. – Приехал в Петербург, решил, что займусь писательским трудом профессионально. В самом деле, не в горные же инженеры подаваться! Я-то на инженера учился. А сейчас почувствовал, что как-то вырос из этого, ушёл душою куда-то совсем в другую область.
Шумилов поднял бокал шампанского, давая понять, что желает сказать тост:
– Для меня честь принимать человека, которого я искренне считаю восходящей звездой нашей литературы. В вашем лице стареющие колоссы русской прозы – Салтыков, Достоевский, Толстой – могут видеть в высшей степени достойную смену. Предлагаю выпить за знакомство, за тот в высшей степени удачный экспромт, что устроил нам господин Пустынцев.
Разговор потёк живо и непринуждённо, на «ты», словно в кабинете Шумилова собрались старые и притом близкие друзья. Гаршин оказался прекрасным рассказчиком, он живо описал несколько сцен из своей прежней военной жизни, причём никак не пытался выпячивать собственные заслуги и доблести, а скорее напротив, всячески их преуменьшал. Затем он переключился на Шумилова, принялся расспрашивать его о нравах столичной прокуратуры, о судейских обычаях и криминальных происшествиях, из практики как самого Алексея Ивановича, так и не связанных с ним непосредственно.
Разговор зашёл и о творческих планах, теме вполне уместной и оправданной в разговоре с писателем. Гаршин, задумавшись немного, вместо рассказа о литературе, вдруг заговорил о «некрасовцах», казаках, служивших у турок и сражавшихся против русских на протяжении всего девятнадцатого века:
– Я видел в Болгарии «некрасовцев» и общался с ними. Значительная часть этих людей состоит из потомков запорожцев, убежавших в Турцию после упразднения Сечи при Екатерине Второй и заточения в Соловецкий монастырь последнего наказного атамана Калнишевского. Запорожцы очень обижены на Россию, считают, что она их предала. Помимо этой публики среди «некрасовцев» много разного беглого народа со всех концов нашего государства. Турки запретили «некрасовцам» заниматься земледелием, дозволив только рыболовство. Казаки должны служить в турецкой армии, что делают весьма охотно и даже ревностно. Насколько я понял, в Турции их считают православными, но на самом деле по своей вере они скорее сектанты-беспоповцы: сами отправляют требы, службы, христианский обряд заметно упростили. Евхаристическое преемство их священство утратило уже давно. Потому их священники в нашем понимании священниками не являются. С таким же успехом и я могу, взяв в руки Библию, причащать и отпускать грехи. «Некрасовцы» меня сильно заинтересовали – вроде бы и русские люди, но антагонисты нам во всём. Я задумался над этим явлением и сейчас вынашиваю мысль о повести или даже романе религиозно-мистической направленности.
– Мытарства мятежного духа, – дополнил Пустынцев.
– Скорее пути правдоискательства. Россия пережила массу разного рода попыток видоизменения православия: со времён Екатерины Великой рассматривались разнообразные проекты замены православной веры на лютеранство или католицизм. Екатерина велела готовить из русских юношей пасторов. Александр Первый был терпим и толерантен ко всем вероисповеданиям, в 1818 году он, например, принимал у себя английских квакеров и молился с ними.
– Первый раз слышу, – признался Шумилов.
– Ещё бы, – усмехнулся Гаршин. – После уваровского «православия и народности», одобренного Императором Николаем, о планах религиозной реформы стало неудобно вспоминать. Между тем, разного рода сектанты, мистики, религиозные уклонисты чувствовали себя в России в начале нашего столетия привольно. Вот как раз-таки об этом я и думаю написать большую вещь.
– Гм, Всеволод, интересные вещи ты рассказываешь! Не слышал я ни о чём таком, – Пустынцев озадаченно покрутил головою. – А как же преследования скопцов, молокан, хлыстов и прочих сектантов? Я уж не говорю о классических староверах…
– А ты, Владимир, слышал об императорском указе 1810 года, постановлявшем оставить скопцов в покое и не подвергать каким-либо преследованиям или стеснениям?
– Нет, не слышал.
– Я слышал о таком указе, – ответил Шумилов. – Скопцы всякий раз ссылаются на него, когда их «прихватывает» полиция.
– А что, часто «прихватывает»? – полюбопытствовал Пустынцев.
– Бывает дело. Хотя и нет так часто, как следовало. В последние десятилетия у скопцов появился обычай кастрировать принудительно или обманом, как правило опоив предварительно жертву вином. Такого прежде у них не бывало. На заре своей деятельности они обычно добивались согласия своей жертвы на кастрацию. Разумеется, не всегда, ведь когда речь шла о подростках, то их, как нетрудно догадаться, никто ни о чём не спрашивал. Но в последние два десятилетия скопцы стали нападать на взрослых мужчин, как правило на больших дорогах, вне городов. Когда полиция добирается до скопческой общины – так называемого «корабля» – и начинает мелким гребнем «шерстить» эту братию, то сектанты из своих рядов выбирают добровольца, который принимает на себя вину за все случаи подобных нападений в округе.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































