Текст книги "От Франсуа Вийона до Марселя Пруста. Страницы истории французской литературы Нового времени (XVI-XIX века). Том II"
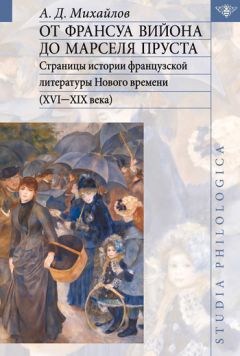
Автор книги: Андрей Михайлов
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 47 страниц)
ЭВАРИСТ ПАРНИ
ХVIII столетие во Франции называют иногда «веком без поэтов». Такое название в известной мере справедливо: хотя в эпоху Просвещения поэты, конечно, были, и их было немало, но не их деятельность была в литературном процессе решающей. Напряженного лиризма и исповедальной раскованности французская литература этой эпохи почти не знала. Поэзия была оттеснена на далекую периферию. Поэты подвизались либо в классицистских жанрах эпической поэмы, оды, торжественного послания или сатиры, либо в области малых форм – эпиграммы и экспромта, типичных жанров лирики рококо. В этой области было создано немало блестящих поэтических миниатюр, остроумных, злых, афористичных, и самим Вольтером, и многочисленными его последователями.
Новые тенденции постепенно вызревают во французской поэзии последней трети столетия, например, в творчестве Жака Делиля (1738 – 1813), у которого сквозь классицистическую уравновешенность и ясность, приподнятость и риторичность пробивается подлинное чувство. Симптоматично, что светлая печаль и меланхолия Делиля связаны с восприятием поэтом мира природы, которую он любит описывать в период ее увядания (образ осени стал сквозным символом его поэзии).
Это просыпающееся внимание к природе, которая была по разным причинам, но одинаково непонятна и эпигонам классицизма, и поэтам рококо, связана со все усиливающимся влиянием сентиментализма, ведущего направления второй половины века.
Однако проникновение сентиментализма в поэзию шло сложным путем. Это особенно очевидно на примере творчества Эвариста Парни (1753 – 1814), одной из наиболее характерных фигур во французской поэзии конца столетия.
Эварист Парни сложился как поэт под сильным влиянием Вольтера; великий старец приветствовал поэтический дебют Парни и нарек его «французским Тибуллом». Между тем вольтерьянство было лишь одной из черт его поэзии. Мы найдем у Парни упоение жизнью, молодостью, любовью, всеми прелестными и столь летучими мгновениями бытия. С этим связано, вполне в духе Вольтера, отрицание загробного существования и противопоставление ему сиюминутных наслаждений. Таковы, например, стихотворения Парни «Рай», «Фрагмент из Алкея», таково же и стихотворение «Друзьям», гениально переведенное молодым Пушкиным:
Давайте пить и веселиться,
Давайте жизнию играть,
Пусть чернь слепая суетится,
Не нам безумной подражать.
Пусть наша ветреная младость
Потонет в неге и вине,
Пусть изменяющая радость
Нам улыбнется хоть во сне.
Когда же юность легким дымом
Умчит веселья юных дней,
Тогда у старости отымем
Все, что отымется у ней.
Естественный вывод из этих эпикурейских настроений – признание быстротечности жизни, временности и преходящести наслаждения, неизбежности вторжения в веселый праздник любви жизненных будней. И отсюда – мотивы меланхолии и печали, просветленной грусти и сожалений. Поэтому ведущим жанром поэзии Парни стала элегия. Элегии преобладают уже в первом сборнике поэта, его «Любовных стихах» (1778), значительно дополненных для издания 1781 г. В этой книге поэт с подкупающей искренностью рассказал о своем увлечении юной Эстер Труссайль, креолкой с острова Бурбон (где родился и сам Парни), которую он воспел под вымышленным именем Элеоноры. Элегии сборника разбиты на четыре «книги», последовательность которых далеко неслучайна. Впервые в литературе эпохи Парни создал лирический цикл, связанный единым развивающимся сюжетом, написал своеобразный поэтический роман – дневник своей любви.
Единая книга со сквозным сюжетом – сборник элегий Парни – остается, конечно, лирическим циклом, поэтому понятия «рассказ», «повествование» не следует понимать буквально: это лирическое повествование, рассказ не о событии, а о переживании, о настроении, событием вызванном. Тем самым Парни, бросая вызов распространенным в поэзии его времени прозаизму и рассудочности, делает решительный акцент на раскрытии внутреннего мира любящего и глубоко страдающего человека, вводит в поэзию индивидуальное начало. Поэтому лирика Парни лишена описательности. Хотя мир вещей, мир природы занимает в стихах поэта большое место, он раскрыт через восприятие лирического героя, подчеркивая или контрапунктируя его переживания и настроения. Поэтому внешний мир стихов Парни в известной мере условен: нередко это вообще воображаемый мир мечты (как, например, в известном стихотворении «Привидение»). Этот мир изящен и поэтичен, как на картинах Ватто и Фрагонара, такова и изображаемая поэтом природа – она спокойна, величественна, умиротворенна и порой равнодушна. Она тоже знак, символ переживания лирического героя.
Поэтический самоанализ Парни отмечен смелостью перехода от фривольно-эротических мотивов к напряженному трагизму. Следует заметить, что элегический цикл поэта в известной мере повторяет сюжет «Новой Элоизы» – с той лишь разницей, что у поэта мотив социального неравенства героев решен как бы в зеркальном отражении: на этот раз любовник оказывается знатным, тогда как предмет его страсти стоит ниже на общественной лестнице. Это создает дополнительное лирическое напряжение и сгущает ощущение трагизма.
В стихах Парни мы находим раскрытие характера человека конца ХVIII века, и характер этот обнаруживает себя не только в сфере любовных переживаний. Поэт был современником значительных общественных событий, и ряд из них нашел отражение в его творчестве.
Родившись на далеком острове в Индийском океане, Парни видел там не только пышную, экзотическую природу, но и плантации, на которых трудились рабы. Поэтому антиколониалистский пафос возник в его творчестве вполне закономерно. Поэт создал цикл «Мадагаскарских песен», в которых его интерес, его уважение к местным жителям, их обычаям и повериям сочетаются с признанием их тяжелого подневольного труда. Антиколониалистская тема прозвучала в цикле достаточно отчетливо. Парни включал в свои книги не только стихи, но и собственные письма к друзьям, в которых резко критиковал колониальные порядки. Ученик просветителей, он не мог не идеализировать «естественного состояния» коренных жителей острова и не обличать европейскую цивилизацию, принесшую на эти далекие патриархальные земли лишь пороки и угнетение.
В 1777 г. Парни создал стихотворное «Послание к бостонским мятежникам», осуждающее тиранию и клерикализм. Последователь Вольтера, Парни остался верен его заветам: антиклерикальная тема в его творчестве год от года нарастает.
В 1799 г. он написал ироикомическую поэму «Война старых и новых богов», в которой, вдохновляясь «Орлеанской девственницей» Вольтера, смело пародировал Библию (пушкинская «Гавриилиада», бесспорно, навеяна чтением этой книги). И позже поэт продолжал разрабатывать пародийный жанр, отнюдь не поощрявшийся во времена Консульства и Империи, да и не приветствовавшийся даже в период якобинской диктатуры.
Итак, в поэтическом творчестве Парни как бы скрестились, переплелись, очень разные, на первый взгляд противостоящие литературные тенденции. Произведения поэта – это, несомненно, определенный этап в эволюции французского классицизма. У Парни ощутимо стремление к ясности и сжатости, к уравновешенности и чувству меры. К этому надо добавить, что поэт был внимательным читателем древнеримских элегиков, особенно таких, как Тибулл и Проперций. Вместе с тем несомненна связь лирики Парни с традициями «легкого стихотворства» – с поверхностно-гедонистической, фривольно-эротической поэзией рококо. Как мы знаем, и для последней было свойственно бравирование антиклерикальностью, стремление к дерзкому эпатажу и прокламированное свободомыслие. Эти черты лирики Парни восходят, однако, не к традициям модной галантной поэзии, а к просветительским традициям, и прежде всего к Вольтеру.
Верным заветам просветителей поэт остался и в своем позднем творчестве, сложившимся уже совсем в новых общественных и культурных условиях. Выдвижение на первый план субъективного лирического переживания, интерес к индивидуальному и единичному сближают творчество Парни с некоторыми умеренными течениями сентиментализма (не говоря уже о том, что общий сюжетный замысел четырех книг элегий, весьма вероятно, возник под влиянием прославленного романа Руссо). С сентиментализмом Руссо поэта роднит интерес к человеку в его первобытном, естественном состоянии и осуждение европейской цивилизации. Не избежал Парни и предромантических веяний: его «Мадагаскарские песни», несомненно, подсказаны успехом знаменитой мистификации Джеймса Макферсона. В «Предуведомлении» Парни сообщал: «Я собрал и перевел несколько песен, которые могут дать представление об их (туземцев. – A. M.) обычаях и нравах. Стихов у них нет; их поэзия – это изящная проза; их напевы просты, нежны и всегда печальны». Насколько эти слова соответствуют действительности, неясно. Скорее всего, перед нами тонкая стилизация, если не просто ловкая подделка. Но неважно, было ли это мистификацией или действительно попыткой перевода памятников туземного фольклора, здесь важно подчеркнуть этнографизм поэта, его стремление передать ощущение природы и нравов экзотической страны. Парни заинтересовался обычаями первобытного народа, и этот оссианизм дал о себе знать еще раз, когда поэт написал поэму «Иснель и Аслега» (1802), в которой обратился к скандинавской тематике.
Школы Парни не создал, но его влияние – и как мастера элегии, и как автора антиклерикальных и ироикомических поэм – было велико, причем не только во Франции, но и в других странах, особенно в России, где через увлечение Парни прошли по меньшей мере два поколения русских поэтов – поколение Батюшкова и поколение Пушкина.
Начав свою творческую деятельность в предреволюционные годы, Парни продолжил ее и в те бурные десятилетия, на которые приходится период революции. Однако его связь с литературой своего времени не была тесной. Поэт не писал ни революционных од, ни антироялистских сатир, оставаясь на литературной периферии и не стремясь откликаться на злобу дня. В культурные начинания Империи он не вписался, хотя Наполеон в 1813 г. выделил поэту небольшую пенсию.
АНДРЕ ШЕНЬЕ. ЯМБЫ
Пушкин назвал Андре Шенье певцом «любви, дубрав и мира». Такова его анакреонтическая лирика. Но Шенье стал также создателем глубоких и страстных «Ямбов» и героем известной легенды о поэте, павшем жертвой революционной нетерпимости. (Эта легенда воплотилась в таких замечательных произведениях, как элегия Пушкина «Андрей Шенье», поэма Гюго из его «Легенды веков», роман Альфреда де Виньи «Стелло».)
Между тем гибель Шенье и создание им на пороге эшафота «Ямбов» не были случайностью; антиякобинские, антиробеспьеровские позиции поэта не явились результатом лишь неожиданного поворота судьбы. При этом он был противником не Революции, а якобинского террора, не участвовал в заговорах, а выражал свои взгляды открыто, как публицист и поэт.
Андре Мари Шенье был сыном либерально настроенного французского дипломата и гречанки, внушившей сыну преклонение перед культурой Древней Эллады. Он родился в Константинополе в 1762 году, вскоре же был привезен во Францию, но, возможно, первые детские впечатления не совсем забылись и помогли ему в дальнейшем столь тонко и столь пластично передать в стихах атмосферу южных рощ, залитых жгучим солнцем, южной неги и едва пробуждающегося любовного волнения. Своими анакреонтическими стихами, так восхищавшими затем поэтов-романтиков (в том числе Батюшкова, Баратынского и молодого Пушкина), Шенье порывал с холодной рассудочностью классицизма, наполнял поэзию неподдельным чувством, используя, правда, лишь язык условной античности, и открывал литературе новые горизонты. Не дожив до начала нового века, Шенье тем не менее стоит у истоков поэзии девятнадцатого столетия.
Шенье при этом был сыном своего времени, он верил в торжество разума, вообще разумного начала в жизни общества. Сочинения философов-просветителей он внимательно читал.
Шенье был в Лондоне, когда пала Бастилия, и тут же, полный надежд и молодого энтузиазма, вернулся на родину Здесь он включился в бурную жизнь первых месяцев революции и создал восторженную революционную оду «Клятва в Зале для игры в мяч». Приветствовав провозглашение «Декларации прав человека и гражданина», Шенье посчитал своим долгом последовательно выступать за законность, за правовое государство, за конституцию. Вот почему он примкнул к клубу фельянов, ратовавших за строгое соблюдение законов и декретов. Считается, что клуб этот был прибежищем крупной буржуазии. Верно. Но также – либерально настроенной интеллигенции, наследницы просветительских идей.
Начинается короткий, но напряженный период в жизни Шенье. Поэт публикует политические брошюры, помещает статьи в газетах и журналах. Постепенно определяется основная мишень его политических выпадов – жирондисты и особенно якобинцы и их вожди – Бриссо, Робеспьер, Колло д’Эрбуа. Что же отстаивает Шенье, в чем упрекает своих оппонентов? Он отстаивает гражданский мир и законность, отстаивает интересы человека, просто человека, вне зависимости от его сословной принадлежности. Он не противопоставляет отдельного человека и народ, понимая, что, с одной стороны, устремления народа складываются из побуждений, чаяний, надежд и желаний отдельных его членов, а с другой, понятие «народ» достаточно расплывчато и абстрактно и может удобно прикрывать намерения политиканствующих демагогов. Выступает Шенье, конечно, против террора, справедливо полагая, что на страхе и на разгуле низких страстей нельзя строить всеобщее благо. «Человек добродетельный и свободный, – писал Шенье в одной из брошюр, – подлинный гражданин, говорит только правду и говорит ее всегда и всю до конца. Отвергая сиюминутную популярность, желая выглядеть значительным в глазах других лишь благодаря своей непобедимой твердости в поддержке всего, что хорошо и справедливо, он ненавидит тиранию и преследует ее, где только она не обнаружится». Шенье судит очень трезво. Он видит, к чему могут привести, говоря словами Пушкина, «порывы буйной слепоты» и «презренное бешенство народа». Оставаясь патриотом, понимая интересы нации, он отстаивает общечеловеческие идеалы, отстаивает гражданские свободы, столь романтически провозглашенные революцией, но понимаемые отдельными ее вождями весьма ограничительно.
Органическим продолжением публицистики Шенье стала его поэзия.
Старательный ученик античных лириков (он им охотно подражал в своих буколиках, элегиях, одах), Шенье выбрал для нового цикла испытанный старинный жанр обличительного стихотворения и ориентировался в этом, в частности, на пример древнегреческого поэта Архилоха. Сам древний жанр предопределил острую публицистичность «Ямбов». Но они стали образцом большой поэзии, продолжив в какой-то мере традиции гражданственной лирики Вольтера и проложив путь поэтам XIX века, прежде всего Барбье и Гюго.
Свой цикл поэт не завершил; он более или менее закончил девять стихотворений, еще шесть остались в набросках.
«Ямбы» Шенье полны патетики, их образный строй ярок и подчас даже груб. Широкие обобщения чередуются со страстными проклятиями в адрес конкретных политических деятелей эпохи, которым поэт пророчит скорую гибель. Ратуя за справедливость, за закон («Мой гнев – законности слуга»), поэт впадает порой в такую же нетерпимость, как и его враги-якобинцы. Это, видимо, было неизбежно: насильственный переворот настолько раскрепощает страсти, что этот грандиозный всплеск эмоций захватывает всех, особенно тех, кто не хочет – как это пытался сделать, по его словам, аббат Сьейес – отсидеться и переждать. Однако в стихах Шенье за личной ненавистью и нетерпимостью к произволу нельзя не ощутить боль за родную страну, раздираемую гражданской войной и оказавшуюся в водовороте страстей и своекорыстных интересов.
Но рядом с полными ярости инвективами мы находим в «Ямбах» элегические ноты, выраженные столь сильно и столь искренне, что, видимо, они прежде всего и поразили и пленили поэтов-романтиков. Не случайно так привлекало их также написанное в тюрьме, полное глубокого лиризма стихотворение «Молодая узница»:
Так, пробудясь в тюрьме, печальный узник сам,
Внимал тревожно я замедленным речам
Какой-то узницы... И муки,
И ужас, и тюрьму – я все позабывал
И в стройные стихи, томясь, перелагал
Ее пленительные звуки.
emp1
(Перевод А. Апухтина)
Есть в «Ямбах» и точные зарисовки тюремного быта, и трагичнейшие переживания человека в ожидании скорой казни (как, например, в последнем стихотворении цикла):
Погас последний луч, пора заснуть зефиру.
Прекрасный день вот-вот умрет.
Присев на эшафот, настраиваю лиру.
Наверно, скоро мой черед.
emp1
(Перевод Г. Русакова)
Есть в стихах Шенье и минутная слабость, сомнения в правильности избранного поэтом крестного пути, но одновременно – вера в грядущее торжество справедливости, которое будет достигнуто, в частности, и благодаря неумирающему поэтическому слову.
Робеспьер пал 27 июля 1794 года. Шенье был казнен за два дня до этого, 25 июля, в пору последних пароксизмов якобинского террора, особенно бессмысленных и беспощадных. Изданы стихи Шенье были лишь в 1819 году.
Весной 1825 года Пушкин написал в Михайловском свою знаменитую элегию «Андрей Шенье». Стихотворение это вызывало споры. В нем нередко старались увидеть прежде всего автобиографические мотивы: сидящий в темнице поэт в ожидании неизбежной казни сопоставлялся с опальным поэтом, который живет под надзором полиции в своем имении, принимает гостей, посещает соседей – Осиповых и Вульфов, – ухаживает за Анной Петровной Керн... Различие очевидное, кричащее. Пушкин не сравнивал себя с Шенье, он создал произведение, полное исторических обобщений (где доминирует тема поэта и власти), но о конкретном поэте и о конкретной ситуации. Эта элегия – о трагедии большого поэта, радостно встретившего революционные перемены (что отразилось в 44 стихах пушкинской элегии, которые, как известно, не были пропущены цензурой) и павшего жертвой политического экстремизма. Пушкин вкладывает в уста Шенье яркие слова обличения недавних революционеров, узурпировавших власть – как бы в интересах народа, – но обернувших ее против отдельных граждан, в своей совокупности этот народ и составляющих:
Умолкни, ропот малодушный!
Гордись и радуйся, поэт:
Ты не поник главой послушной
Перед позором наших лет;
Ты презрел мощного злодея;
Твой светоч, грозно пламенея,
Жестоким блеском озарил
Совет правителей бесславных;
Твой бич настигнул их, казнил
Сих палачей самодержавных;
Твой стих свистал по их главам;
Ты звал на них, ты славил Немезиду;
Ты пел Маратовым жрецам
Кинжал и деву-эвмениду!
В пору народных смут и возмущений поэт может, конечно, и промолчать. Но большой, подлинный поэт именно на этих крутых поворотах истории и становится гражданином. Его выбор редко бывает верен, ибо в обстановке кровавой гражданской войны любой выбор оказывается наихудшим, и в этом состоит трагедия поэта и трагедия его эпохи. И тогда поэт погибает. Так произошло с Андре Шенье. Так написал об этом Пушкин в своей элегии. Уроки истории и уроки поэзии.
XIX век и начало XX
СТЕНДАЛЬ И МОСКВА
Тема Москвы и России занимает в жизни и творчестве Стендаля место совершенно особое. Поэтому далеко не случайно исследователи творческого наследия и личности писателя этот эпизод его биографии изучали очень давно и весьма старательно, в том числе и наши, отечественные, ученые и литераторы. Здесь надо назвать прежде всего известного писателя Анатолия Виноградова. Мы найдем у него небольшую повесть «Потерянная перчатка», целиком построенную на интересующем нас эпизоде из биографии Бейля молодых лет. Существенное место занимает русская тема и в романе Виноградова «Три цвета времени», и в его исследовании «Стендаль и его время». В «Краткой литературной энциклопедии» сказано, что книги А. Виноградова «представляют своеобразный сплав работы исследователя и художника, отличаются живостью изложения, содержат большой документальный материал»[187]187
Виноградов А. К. // Краткая литературная энциклопедия. М., 1962. Т. 1. Стб. 979.
[Закрыть]. Надо сказать, что «живость изложения» в этих книгах была явно на первом месте; Виноградов любил (и умел) мистифицировать читателя, создавать увлекательные, эффектные, но не вполне достоверные легенды. Когда уже очень давно мне пришлось редактировать для переиздания его биографию Стендаля, я вынужден был проверить все сообщаемые им сведения и сделать чуть ли не триста поправок и уточнений. Вообще Виноградов работал очень неряшливо; так, он пользовался фондами ЦГАДА (до него там работали французские исследователи и опубликовали в 1913 г. одиннадцать писем Стендаля, написанных в России, но не дошедших до адресатов), но не заметил еще трех писем Анри Бейля, которые были опубликованы только в 1959 г.
Путешествие Стендаля в Россию было предприятием в какой-то мере авантюристическим, отчасти романтическим, но прежде всего драматичнейшим и даже трагическим; очень многое в России его потрясло. Будущий писатель стал свидетелем поступков трусливых и подлых, но и поступков героических, он вынужден был общаться и с людьми ничтожными, и с людьми мужественными и благородными. Он сумел разглядеть ошибки императора и заметил стойкий героизм русского народа. Быть может, он несколько преувеличил широту души и патриотический порыв Растопчина, а также самоотверженность жителей русских городов – Смоленска и Москвы, – бестрепетно поджигавших свои дома. Так или иначе, ничего подобного интендант Анри Бейль не видел ни в Италии, ни в Австрии, ни в Германии.
Вот почему пребывание в России оставило в душе Стендаля такой след. В этом отношении Стендаль несопоставим ни с каким другим значительным французским писателем XIX столетия. В Россию приезжали не очень многие. Были среди них эмигранты (г-жа де Сталь, братья де Местры), были путешественники и просто «визитеры». Но те, кому довелось Россию посетить, отразили это в своем творчестве очень по-разному. Одни, скажем, Дюма-отец или Теофиль Готье, описали свои путешествия заинтересованно и подробно. Другие, например, Бальзак – практически никак (это не значит, что русская тема у автора «Человеческой комедии» отсутствует вовсе; там мы ее найдем, особенно в неосуществленных замыслах «Сцен военной жизни»). Здесь важно другое: и для Дюма и Готье, и для Бальзака посещение России не было событием, которое могло существенно повлиять на их дальнейшую жизнь. Такое путешествие было для них лишь эпизодом, пусть достаточно примечательным, и конечно же, запоминающимся, но не больше. Даже для Бальзака, который, так сказать, обрел здесь семейное счастье.
У Стендаля все иначе.
Во-первых, он заинтересовался русской историей, русской политической жизнью задолго до того, как попал в Россию.
Во-вторых, путешествие его через череду русских городов и деревень, вплоть до Москвы, не было, мягко говоря, ординарным. На всем этом долгом пути – туда и обратно – на его долю выпало немало тяжелейших испытаний, испытаний чисто физических, но не в меньшей мере моральных. Он многим рисковал во время этого путешествия – и свободой, и жизнью. Он и многое терял: некоторых симпатичных ему сослуживцев, личные вещи, книги, рукописи, в том числе почти готовую «Историю живописи в Италии», которую ему пришлось написать потом заново. Он терял иллюзии, и от этого его взгляд на окружающее и на окружающих, вообще на природу человеческого характера, стал более скептическим и горьким.
В-третьих, русский поход оставил в памяти Стендаля такой неизгладимый след, что к воспоминаниям об этом походе писатель потом возвращался неоднократно. Мы найдем упоминания о Москве и России в самых разных его книгах, буквально повсюду – в автобиографических повестях, в воспоминаниях о Наполеоне, в описаниях путешествий по Италии и Франции, в работах о музыке, о живописи и т. д., не говоря уж о дневниках и переписке. Вот об этом «следе» и пойдет у нас в основном речь.
Что заставило Стендаля отправиться в далекую, неведомую, опасную страну? Причин было немало. Оставим в стороне одну из них – его служебный долг: он состоял в интендантстве Великой Армии, был родственником могущественного графа Пьера Дарю (чьим именем названа одна из парижских улиц), и потому должен был исполнять возложенное на него поручение. Он, между прочим, ехал вдогонку за армией, везя всевозможные бумаги, в том числе и лично для императора; вот почему перед отъездом он был принят в Сен-Клу Марией-Луизой. Догнал армию он под Смоленском. Впрочем, учитывая как раз его родственные связи, можно предположить, что Бейль легко мог бы увильнуть, отвертеться, устроить себе другое назначение. Однако он этого не сделал.
Был повод другой, повод личный, если угодно, романтический. Речь идет о его романе, в 1805 – 1806 гг., с посредственной актрисой Мелани Гильбер (1780 – 1828). Как всегда у Стендаля, отношения с возлюбленной развивались трудно, что не могло, в конце концов, не привести к разрыву. И как всегда у него, навеки запечатлелось в его эмоциональной памяти. В 1806 г. Мелани вошла в труппу актеров некоей Авроры Бюрсе, отправлявшейся в Россию. Сначала Мелани выступала на сцене Эрмитажного театра в Петербурге (где она, например, не без успеха сыграла заглавную роль Ифигении в трагедии Расина), но когда труппа стала перебираться в Москву, она туда не поехала.
Ее русская эпопея подробно изучена Т. В. Мюллер-Кочетковой[188]188
См.: Mюллер-Кочеткова Т. Стендаль: Встречи с прошлым и настоящим. Рига, 1989. С. 140 – 167.
[Закрыть], поэтому скажу об этом кратко. В ноябре Мелани вышла замуж за действительного статского советника Николая Александровича Баркова. О том, что приключилось с его возлюбленной, Стендаль узнал, скорее всего, только в Москве. Он в первый же день пребывания в городе отправился разыскивать ее, на следующий день встретил на улице Аврору Бюрсе, которая рассказала ему, что Мелани в городе нет, что она замужем, что брак этот неудачен и что она хотела бы вернуться во Францию. В 1813 г. она туда действительно приехала, и Стендаль встречался с ней в Париже. После окончания наполеоновских войн она еще раз ездила в Россию, но Стендаль больше не интересовался ее судьбой. Конец ее был печален: она затеяла тяжбу с мужем, болела и умерла, когда ей не было еще и пятидесяти. Эта тяжба не прошла мимо французских газет, и одна из них попалась на глаза П. А. Вяземскому. Он писал жене: «Тут узнал я, что умерла Баркова, французская актриса, которую я в старину видел у вас. По завещанию видно, что муж сделал с нею какую-нибудь пакость <...> Она мужу ничего не оставляет и в случае требований его на часть наследства угрожает ему объявлением каких-то бумаг. Вообще в завещании ее много странностей и романтизма»[189]189
Вяземский П. А. Письма к жене за 1830 год // Звенья. М.; Л., 1936. Т. 6. С. 273.
[Закрыть].
Итак, совершенно ясно, что отправиться в русский поход былая любовь заставить Стендаля не могла. И хотя некоторые, писавшие о Стендале, этот мотив старательно прорабатывали, все-таки отправиться в Россию его вынудила не память о недавнем любовном приключении. Но так понятно, что по приезде в Москву он предпринял попытки разыскать в городе Мелани Гильбер.
Думается, основной побудительной причиной, заставившей будущего писателя принять назначение и не пытаться его избежать, была очень свойственная ему непоседливость, не только «охота к перемене мест», но и страстное желание видеть новое. Стендаль был неутомимым путешественником, недаром у него никогда не было своего дома. Дом отца в Гренобле он ненавидел (и если в этом доме побывать, то причины такой ненависти станут очевидны: мрачный, неуютный дом, с какой-то гнетущей атмосферой); в Париже он жил обычно в гостиницах, причем часто переезжая из одной в другую. Тем более – во время походов и поездок по другим странам и городам. Лишь став французским консулом в Чивита-Веккья, он обрел там казенную квартиру; он снял небольшую квартиру и на виа Кондотти, чтобы было где останавливаться во время столь частых его наездов в Рим (до этого он обычно останавливался в палаццо Конти на пьяцца делла Минерва).
Да, Стендаль любил постоянно быть в пути, недаром он стал автором по меньшей мере шести книг путевых заметок (не считая неосуществленных замыслов и едва начатых описаний путешествий). Путешествия не только открывали ему мир, но и помогали более глубоко проникнуть в человеческий характер в его национальной и географической обусловленности. Помогали и понять самого себя; вот почему во время путешествий он старательно вел дневник, где фиксировалась прежде всего его реакция на увиденное (между прочим, все книги его путешествий написаны в форме дневника).
Путешествие в Россию было, конечно, совсем иным, и книги о нем Стендаль не написал. Но хорошо запомнил.
Мне представляется, что мы должны говорить о четырех этапах, если можно так выразиться, «освоения» Стендалем Москвы и России.
В молодости, еще задолго до русского похода, Бейль, вне всяких сомнений, интересовался Россией. Его увлекала история нашей страны, и он внимательно читал книгу публициста и дипломата Клода Рюльера (1735 – 1791) «Анекдоты о революции в России в 1762 году». Рюльер, как известно, был очевидцем описанных им событий, поэтому для Стендаля его рассказ о восшествии на престол Екатерины II имел характер документального свидетельства, а потому был особенно ценен. Ему нравилась эта книга прежде всего раскрытием психологии исторических деятелей, а не живописными деталями (хотя и они были ему интересны). Именно поэтому он столь настойчиво советует любимой сестре Полине читать этого своеобразного историка. Он пишет ей: «...подумай, что именно скуке Екатерина Великая (жена Петра III, “Заговор” Рюльера) обязана своим престолом. Будь так же сильна духом, как она»[190]190
Stendhal. Correspondance. Préface par V. Del Litto. Edition établie et annotée par H. Martineau et V. Del Litto. Paris, 1962. T. I. P. 273.
[Закрыть]. И в другом письме: «Русская императрица, свергнувшая с престола своего супруга, силой своего духа была обязана вынужденному уединению, французским книгам и дружбе с княжной Куракиной. Читай Рюльера»[191]191
Ibid. P. 191.
[Закрыть]. Это – в письме от 19 апреля 1805 г., а в феврале 1806-го Бейль снова пишет: «Прочла ли ты “Заговор в России”, обдумала ли эту книгу? Ты заметила, что понять свой характер и научиться управлять им можно лишь в том случае, если не раз стать перед выбором между радостью и несчастьем?»[192]192
Ibid. P. 281.
[Закрыть] Заметим, что это написано двадцатидвухлетним молодым человеком, а Полине еще не исполнилось и двадцати.
Екатерина Великая если и не сделалась одним из любимых Бейлем исторических персонажей, то по крайней мере надолго приковала к себе его внимание. Спустя десять лет после первого чтения книги Рюльера, работая над своей «Историей живописи в Италии», он не раз вспоминает ее. «Мы очень любим смелость, – пишет он в одной из глав этой работы; – но мы также любим, чтобы она проявлялась лишь тогда, когда надо. Вот что портит дворы, где господствуют военные. Злые языки говорят, что придворные там глуповаты. Екатерина II с этим согласна»[193]193
Stendhal. Histoire de la peinture en Italie. Edition établie par V. Del Litto. Paris, 1996. P. 329.
[Закрыть]. И, несомненно, чтением Рюльера навеяно следующее сопоставление: «С первого взгляда “Страшный суд” (фреска Микеланджело. – A. M.) вызвал у меня чувство, подобное тому, которое охватило Екатерину II в день ее восшествия на престол, когда при ее появлении в казарме гвардейского полка толпа полуодетых солдат плотно окружила ее кольцом»[194]194
Ibid. P. 431 – 432.
[Закрыть].
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































