Текст книги "От Франсуа Вийона до Марселя Пруста. Страницы истории французской литературы Нового времени (XVI-XIX века). Том II"
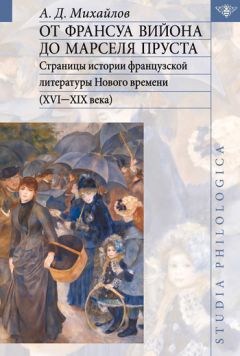
Автор книги: Андрей Михайлов
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 47 страниц)
Такая оценка перевода Очкина Белинским была закономерной. Интереснее обратить внимание на суждение, исходящее совсем из другого литературного лагеря. Мы имеем в виду выступление газеты А. Ф. Воейкова «Литературные прибавления к “Русскому инвалиду”». Соратник Пушкина по литературному обществу «Арзамас», острый сатирик и полемист, Воейков к середине 30-х годов заметно отошел от своих былых радикальных взглядов. Последнее отразилось и на отзыве о переводе Очкина, который был напечатан в газете Воейкова (автор отзыва неизвестен). Отзыв этот довольно пространен, он печатался в двух номерах газеты – от 31 августа и 4 сентября 1835 г. Начинается статья с общей оценки произведений Бальзака, которые порицаются за отсутствие в них нравственного начала. «Бальзак искусный писатель, – читаем в рецензии, – но от писателя требуется не одного искусства, а цели нравственной; если он не имеет сей цели и жертвует дарованием развращенному вкусу, тем постыднее для писателя, тем хуже для словесности. Что мы находим в повестях Бальзака? живость, привлекательность рассказа, игривую болтливость, блестки остроумия, – но взглянем на нравственность, или лучше сказать безнравственность его повестей: самые отвратительные черты Парижской жизни собраны им, как будто для украшения рассказа; самые гнусные поступки выказываются легко, небрежно, даже иногда в приятном виде, как будто с намерением, чтоб все это казалось весьма обыкновенным. Порок спокойный и улыбающийся без малейшего сознания совести, порок роскошествующий и величающийся крайностию преступления, вот любимый предмет Бальзака! Нельзя видеть без негодования, к каким лицам сочинитель старается склонить участие читателей, как часто допускает он в своих повестях нарушение всякого приличия и всякой вероятности; нередко то самое, что он хочет выставить возвышенным чувством, есть ни что иное, как бесстыдство; добрые люди его готовы на все злодейства; наоборот, он силится придать безумию блеск великодушия и разврату прелесть любезности»[293]293
Литературные прибавления к «Русскому инвалиду». 1835. № 70. С. 558.
[Закрыть]. Далее рецензент пересказывает роман «Отец Горио» по переводу «Библиотеки для чтения» и заключает: «Вот на что истощают свое дарование Парижские романисты! Цветы, ими рассыпаемые, приманивают на поле, покрытое ядовитыми растениями»[294]294
Там же. № 71. С. 566.
[Закрыть]. Его оценка нового произведения Бальзака, естественно, самая отрицательная: «Вот черты повести, – писал рецензент, – помещенной в “Библиотеке для чтения”, повести, представляющей сборище нелепостей и невероятностей, но в которой, как сказано в “Библиотеке”, примечательно раскрылся талант модного романиста. Однако же читатели, видя такие остатки после очищения, может быть с удивлением спросят: что же очищено? – Трудно решить, что гнуснее, характер ли Парижского отца, помогающего распутству дочерей, нравы ли Парижских дам лучшего круга, с торжественным бесстыдством тщеславящихся развратом и ругающихся обязанностям супруги и дочери, или картина знатнейшего Парижского общества, где представляет блистательное лицо – друг и поверенный каторжника!»[295]295
Там же.
[Закрыть] Критик из газеты Воейкова полагает, что Очкин не выполнил обещанного – он не «очистил» должным образом бальзаковского романа. К тому же в рецензии приводятся убедительные примеры языковой беспомощности и дурного вкуса, чем был отмечен в большой степени рецензируемый перевод.
«Библиотека для чтения» была, как известно, журналом откровенно коммерческим, рассчитанным на самые непритязательные, «провинциальные» (как не раз отмечал Белинский) вкусы. Обладавший большим литературным чутьем Воейков заметил несуразности и промахи перевода и оценил произведение Очкина с точки зрения морализирующей критики. Он раскритиковал в своей газете не столько роман Бальзака, сколько его интерпретацию «Библиотекой для чтения». Так появление на русском языке замечательного произведения Бальзака обернулось небольшим эпизодом литературной борьбы уже на русской почве.
Как пример столкновения прогрессивных и консервативных тенденций в русской журналистике 30-х годов XIX века этот эпизод характерен, но ординарен. При этом следует принимать во внимание, что роль Сенковского-журналиста (и тем более писателя) была противоречивее и сложнее, чем это может показаться: его журнал не «подрывал основы», но стремился привлечь на свои страницы наиболее значительных писателей (в том числе Пушкина). Как пример освоения художественного наследия Бальзака этот эпизод совершенно исключителен: русские переводчики французского писателя, как правило, с уважением относились к переводимому ими тексту, стремясь передать и дух, и букву оригинала (именно так поступал молодой Достоевский в своем переводе «Евгении Гранде»).
Раскритикованный по сути дела всеми, фальсифицирующий оригинал перевод Очкина был, между тем, выпущен в Москве в 1840 г. отдельным изданием (в трех небольших томиках). Следующее издание этого романа Бальзака в переводе на русский язык появилось лишь в 1871 г. под произвольным названием «Руби дерево по себе!».
«РУССКИЙ БАЛЬЗАК»: «ЮБИЛЕЙНЫЙ», «ПРИСПОСОБЛЕННЫЙ» – И НАСТОЯЩИЙ
Может показаться, что Бальзак вошел в русскую культуру легко и плавно, год от года завоевывая все большее число поклонников, множась в переводах и переизданиях, привлекая все более пристальное внимание критиков, только и занятых, что уточнением и углублением оценок, как водится, положительных и даже восторженных. Было все совсем не так, да иначе и быть не могло. Любого писателя-новатора (а великий писатель всегда и неизбежно новатор) встречают если и не в штыки, то настороженно и с опаской. И у него на родине, и за ее пределами. Ведь такой писатель непременно сметает устоявшиеся литературные каноны, опровергает привычные вкусы, осваивает еще недавно неведомые темы, вырабатывает совсем новые приемы повествования. Итак, первая черта Бальзака в его начальном восприятии – это непривычность, неожиданность, чужеродность.
Отметим также, что писатель-новатор, и Бальзак в том числе, на первых порах воспринимается в некоем общем ряду и лишь постепенно начинает трактоваться как наиболее характерный представитель нового направления, новой школы, нередко – как ее глава.
Известно, что подлинно великий писатель велик не тем, как он выразил свою эпоху, ее предпочтения и тенденции, ее дух и ее смысл (хотя, конечно, без этого не обойтись), а тем, как он рамки своего времени преодолел, через них перешагнул, выйдя к общечеловеческим, универсальным наблюдениям, обобщениям, выводам. Между тем, опять-таки на первых порах, считается, что такой писатель является продуктом своего времени, им порожден и им же ограничен, и будет забыт с завершением этого временного отрезка истории общества. Понимание подлинной роли писателя, непреходящей ценности его книг обретается только с годами, и здесь нет ни близорукости, ни глухоты современников.
В этом отношении «русская судьба» Бальзака типична и закономерна. Он был моментально замечен, и русская литература мимо него не прошла. Он сразу же зарекомендовал себя как один из ярких представителей «новой французской словесности», как знаток и тонкий толкователь женского сердца, как зоркий наблюдатель, нарисовавший правдивую, нелицеприятную, подчас даже отталкивающую картину общественной и частной жизни своего времени. Бальзак очень быстро нашел в России своего читателя, читателя не всегда с ним соглашавшегося, с ним спорившего, иногда на него негодовавшего, но неизменно внимательного и заинтересованного. Поэтому в «русской судьбе» Бальзака были свои кульминационные моменты, которые чередовались с более «спокойными» десятилетиями.
Пожалуй, самым интересным, ярким, богатым на противоречивые, взаимоисключающие оценки был первый этап – 30-е и отчасти 40-е годы XIX столетия, то есть прижизненная слава, прижизненная хула и хвала.
В 30-е и 40-е годы восприятие в России произведений Бальзака и современной ему французской литературы, что вполне естественно, было неразрывно связано с собственно российской литературной обстановкой, со столкновением и живой борьбой мнений, вкусов, идейных и художественных позиций. Быстро став реальным фактом русской литературной жизни, жизни сегодняшней и сиюминутной, Бальзак никого не мог оставить равнодушным. Можно сказать, что отношение к Бальзаку и его «школе» (определение достаточно условное и даже неверное, но тогда почти общепринятое) являлось как бы лакмусовой бумажкой, с помощью которой можно было составить довольно точное представление о системе взглядов того или иного литератора или даже просто читателя. Поэтому мы вряд ли должны видеть в пестроте оценок, в невнятице суждений что-либо парадоксальное: это было живым восприятием чужой литературы, непрерывно и неизбежно соотносимое с тем, что происходило дома, что здесь волновало и интересовало.
Отметим прежде всего, что в первой половине XIX века французская литература пользовалась в России постоянным, устойчивым, даже повышенным интересом. Вот почему из нее так много переводили, ее так много читали, о ней рассуждали и спорили, ее восхваляли, ею восхищались и ее безоговорочно отвергали. И. В. Киреевский имел все основания заметить в 1845 г., что «словесность французская известна русским читателям вряд ли не более отечественной»[296]296
Киреевский И. В. Критика и эстетика. М., 1979. С. 168.
[Закрыть]. Одни это всячески приветствовали, другие осуждали. Но осуждая, критикуя, разоблачая и отвергая, – читали, переводили, брали из книг французских писателей, в том числе и из Бальзака, броские эпиграфы, играли цитатами, перефразировали и т. д.
Постепенно – и очень скоро – у французской литературы и у Бальзака появились в России свои сторонники. Это не значит, что они принимали безоговорочно все, но они старались разобраться, критиковать, но не осуждать безоговорочно и голословно. Самым внимательным и глубоким толкователем творчества Бальзака уже в начале 30-х гг. зарекомендовал себя Н. И. Надеждин. К произведениям Бальзака он обращается настойчиво и постоянно, предоставив ему страницы журнала «Телескоп», помещая о нем статьи, давая в журнале (как и в своей газете «Молва») самые лестные оценки первым книгам писателя. Вот, например, как он определяет его творческую самобытность: «Его роскошная, смелая, сильная, верная кисть пишет все изгибы, все тайные переломы страстей, всю чудную, страшную смесь злого и доброго, отвратительного и привлекательного, низкого и высокого, таящегося на дне сердца, в глубине души человеческой. Не только не писали так прежде, но и не подозревали, чтоб так быть могло»[297]297
[Надеждин Н. И.] Повести Бальзака // Молва. 1832. № 26. С. 101.
[Закрыть]. Надеждину, а также Н. А. Полевому, И. В. Киреевскому и некоторым другим вторит молодой Белинский, позже от Бальзака отвернувшийся. В одной из статей в «Телескопе» Белинский, говоря о Бальзаке, заметил: «Его картины бедности и нищеты леденят душу своею ужасающею верностию»[298]298
Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1953. Т. 1. С. 279.
[Закрыть].
Однако полезно остановиться на противоположных оценках. Ведь рядом с отзывами заинтересованными и подчас даже восторженными мы находим удивительные свидетельства полного неприятия и непонимания, безоговорочного и резкого осуждения. В этом отношении очень типично, но, признаемся, трудно объяснимо, высказывание В. А. Жуковского из письма А. С. Стурдзе (1835 г.). В нем словно сконцентрированы все те упреки и обвинения, которые постоянно раздавались в России в адрес современной французской литературы, театра, да и вообще – жизни. По мнению части русской критики, и части весьма большой и влиятельной, литература во Франции послушно отражала упадок нравов, разгул преступности, стяжательства, себялюбия, охвативших французское общество после 1830 г.
Очень многие разделяли подобную точку зрения. Особенно активны в разоблачении современной французской литературы были такие русские периодические издания, как «Северная пчела» или «Библиотека для чтения». В журнале О. И. Сенковского антифранцузские статьи появляются буквально в каждом номере и по самому разному поводу. Вот один лишь пример, но вполне типический: «Есть ли теперь какая Словесность во Франции? юная, пожилая, старая, классическая, романтическая, кроткая или неистовая?» – задает риторический вопрос редактор в одном из номеров 1835 года. Ответ напрашивается сам собой: «Нет никакой! Подняв мятеж против собственной своей славы, разбив статуи своих гениев, разорвав свои прославленные образцы, превратившаяся в род волкана, литературная Франция несколько лет извергала на Европу грязь, кровь, бесчестие, похвалы пороку, хулу добродетели, безобразные слитки таланта, сумасшествия и глупости, чудовища всех родов и видов; извергала вместе с искрами золу и сажу человеческого сердца; извергала свое бесстыдство; извергала наконец страшное, черное облако Повестей и Сказок, и закрылась»[299]299
Библиотека для чтения. 1835. Т. 5. Отд. 7. С. 124.
[Закрыть]. Обрушивается «Библиотека для чтения» и на конкретных авторов, в том числе на Бальзака, – при этом не выпуская из поля зрения ни одной его новой книги. Если «Телескоп» Надеждина восхищался женскими образами Бальзака, то журнал Сенковского начисто отказывает французской литературе в умении создавать сложные и глубокие женские характеры. Так, в одном из номеров 1836 г. читаем: «Вы, конечно, знаете женщин Шекспира, Расина, Шиллера, женщин столь благородных в страстях. Посмотрите же теперь на женщин г-жи Дюдеван, г-д Бальзака, Сувестра и комп., на эти несчастные, плаксивые создания, которые падают поминутно в обморок, и им дают нюхать спирт; умирают, и их возвращают к жизни поцелуем; которые растрепав волосы, – не свои, а накладные, – играют роль отчаянных! Эти женщины плачут, как птица поет. Они плачут, глядя одним глазом на зеркало, другим на любовника. Собираясь упасть в обморок, они расчисляют эффект, который должны произвести падая, знают наверное сколько вершков ноги должно выставить из-под беленького платья, когда они будут в обмороке. Смешные несчастия! глупые страдания! просторная чувствительность! Да и приключения их так же странны как и чувствования. Одну прославляют преступницей за то, что она верна мужу; другая убегает с корсаром, потому что боится матери; третья упрекает мужа, что у них золотушные дети; четвертая, супруга военного, берет любовника, назначает ему свидание и, как муж возвращается, прячет любовника в кабинет, но так неудачно, что раздавливает ему дверью палец, – и любовник не крикнул! <...> Есть женщины, молодые и прекрасные, которые из экономических своих денег платят любовникам. Есть и такие, которые идут на бал, когда отец их, Горио, умирает, и которые однако ж женщины самой нежной чувствительности. Есть иные с черными глазами, иные с голубыми, иные с одним глазом черным, другим голубым; есть даже одна с золотыми глазами»[300]300
Там же. 1836. Т. 15. Отд. 8. С. 125 – 126.
[Закрыть].
Известный литератор М. Е. Лобанов тоже выступил с резкой критикой современной французской литературы, что, как мы знаем, вызвало обоснованные возражения Пушкина. Лобанов, в частности, писал: «Они часто обнажают такие нелепые, гнусные и чудовищные явления, распространяют такие пагубные и разрушительные мысли, о которых читатель до тех пор не имел ни малейшего понятия и которые насильственно влагают в душу его зародыш безнравия, безверия и, следовательно, будущих заблуждений или преступлений»[301]301
Цит. по: Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. М., 1951. Т. 7. C. 401.
[Закрыть]. То есть и у Лобанова происходила порочная подмена: изображение правды жизни во всей ее неприглядности и предосудительности выдавалось за апологию, за любование такой действительностью, за отсутствие положительного идеала и какой бы то ни было морали. Отвечая Лобанову в «Современнике», Пушкин отстаивал право писателя на свободу творчества и возражал против распространения на всю французскую литературу оценок, даваемых отдельным ее представителям и отдельным же их произведениям. Пушкин полагал, что французская так называемая «словесность отчаяния», «словесность сатаническая» является временным явлением, связанным с глубокими преобразованиями и ломкой в области литературы и, по своим последствиям, пусть дальним, пусть не сразу очевидным, приведет к благотворным результатам.
Неоднородность оценок, непрестанные оговорки, «резервы» (если позволителен здесь этот галлицизм) характерны для суждений многих из круга Пушкина и – шире – тех, кто отдавал должное современной французской литературе, чувствовал ее новаторство и видел за ней будущее. «Нагая литература», «развратительные книги» и т. п. – подобные определения мы найдем у П. А. Вяземского, О. М. Сомова, И. В. Киреевского, даже у Надеждина. Вся эта сумятица мнений не могла не отразиться и на отношении к переводам на русский язык современных французских писателей, в первую голову Бальзака. Тут мы вполне закономерно сталкиваемся с диаметрально противоположными подходами, прекрасно высвечивающими оценку писателя переводчиками, принадлежащими к той или иной писательской группировке, к тому или иному литературному журналу.
Писатель, стремящийся к всеобъемлющему отражению действительности во всех ее проявлениях, как высоких, так и низких, – для редакции «Телескопа»; романист, смакующий низменные приметы современной жизни, рисующийся своей аморальностью и влюбленный в своих растленных персонажей, – для издателей «Библиотеки для чтения». Таковы были противоположные позиции двух противостоящих русских журналов, много о Бальзаке писавших и, что особенно показательно, постоянно печатавших на своих страницах переводы его произведений. Иногда они вступали в открытую и, вероятно, сознательную конкуренцию, например, при одновременном обращении к «Отцу Горио».
В «Телескопе» был напечатан анонимный перевод. Он достаточно точен и стилистически совсем неплох. Совсем иначе обстояло дело в журнале Сенковского. Понимая увлекательность повествования, яркость нарисованных характеров, богатство описаний, редакция журнала все же решила «подправить» Бальзака, убрать его вольнодумные идеи, сократить длинноты, прояснить интригу и несколько упростить образы героев.
Уже к середине 40-х гг. споры вокруг произведений Бальзака в русской критике стихают, в лучшем случае теряют недавнюю остроту. Этому были по меньшей мере две причины. Во-первых, к Бальзаку «привыкли», он перестал удивлять, возмущать, волновать, хотя его продолжали с увлечением читать. Впрочем его переводов на русский язык становится несколько меньше, хотя многие значительные книги писателя («Пьеретта», «Жизнь холостяка», «Модеста Миньон», «Кузина Бетта», «Кузен Понс») вскоре выходят по-русски. Но нельзя не обратить внимания, что «Блеск и нищета куртизанок», «Беатриса», «Темное дело», «Первые шаги в жизни», «Онорина», «Провинциальная муза», «Крестьяне», «Депутат от Арси», «Мелкие буржуа» (называем лишь некоторые книги Бальзака, написанные в 40-е гг.) еще долго будут ждать своей очереди, иногда – вплоть до середины нашего столетия. По старым долгам редко производятся «выплаты»: из произведений 30-х гг. очень и очень немногое переводится в следующие два десятилетия. Так, надолго остаются без перевода такие важнейшие романы и повести Бальзака, как «Побочная семья», «Эликсир долголетия», «Турский священник», «Покинутая женщина», «Поиски абсолюта», «Банкирский дом Нусингена» и многие другие; достаточно сказать, что центральное произведение «Человеческой комедии» – «Утраченные иллюзии» – вышло на русском языке в полном переводе только в 1887 г. (до этого первую часть романа напечатала «Библиотека для чтения»). Вообще здесь наметилась определенная закономерность: то, что не успели перевести вскоре после появления французского оригинала, на многие десятилетия, а подчас и на целое столетие, откладывается в долгий ящик. Исключением, как увидим, стала «Евгения Гранде».
Но сначала скажем о второй причине постепенного, но от года к году все более стремительного, упадка интереса к Бальзаку в русских литературных и даже читательских кругах. Русская литература вступила в свой «гоголевский период», первую скрипку стала играть натуральная школа, и бальзаковские книги с их яркими, во многом романтическими героями, с конфликтами причудливыми, ситуациями экстравагантными и, казалось бы, надуманными воспринимались как вчерашний день литературы. На этом в 40-е гг. настаивал, например, Белинский, на первых порах встретивший Бальзака восторженно. Он полагал теперь, что слава Бальзака угасла навсегда, ибо это был талант «для известного времени». Весьма показательно, что публикация перевода «Евгении Гранде», сделанного Достоевским, сопровождалась таким примечанием: «Это один из первых и, бесспорно, из лучших романов плодовитого Бальзака, который в последнее время заметно исписался. Сколько нам известно, роман этот в русском переводе напечатан не был, а потому мы надеемся угодить многим из наших читателей, поместив его в “Репертуаре и Пантеоне”. Ред.»[302]302
Репертуар и Пантеон. 1844. Кн. 6. С. 386.
[Закрыть]. Менее категорично сходную точку зрения высказывали многие; даже те, для кого Бальзак уже стал «писателем-классиком» (А. В. Дружинин, И. С. Тургенев), отмечали у него неправдоподобие сюжетных ходов и большую дань романтизму.
Исключением является здесь Достоевский и некоторые близкие ему по литературным позициям друзья (например, Д. В. Григорович). Любовь Достоевского к Бальзаку известна, поэтому не приходится удивляться, что он начал свой творческий путь с перевода «Евгении Гранде».
Этот бальзаковский роман был хорошо знаком русской критике и русским читателям, владевшим французским языком, с момента появления его журнального варианта. Первые упоминания романа мы находим у уже известных нам конкурентов: Сенковский сообщает в своем журнале: «“Eugenie Grandet” бесспорно лучшее произведение модного автора»[303]303
Библиотека для чтения. 1834. Т. 2. Отд. 7. С. 84.
[Закрыть]; «Молва» Надеждина тут же отмечает: «Бальзак издал еще два тома сочинений, продолжение своих “Сцен провинциальной жизни” <...>. “Revue de Paris” особенно находит хорошим: “Евгению Гранде”»[304]304
Молва. 1834. № 6. С. 85 – 86.
[Закрыть]. «Северная пчела» Ф. Булгарина и Н. Греча в свою очередь написала: «“Евгения Гранде” – лучшая из повестей Бальзака»[305]305
Северная пчела. 1835. 16/XI. № 260. С. 1037.
[Закрыть]. Хвалебные отзывы о романе появлялись в русской печати и позже. Но это были, скорее, краткие упоминания «Евгении Гранде», чем развернутые характеристики этого, одного из самых замечательных произведений Бальзака. Подробного анализа книги мы в русской печати того времени не найдем. К тому же роман долгое время не был переведен. Почему же так произошло?
Скорее всего произошло так чисто случайно: увлеченные (даже с отрицательной оценкой) другими бальзаковскими книгами, редакции русских журналов и переводчики-профессионалы как-то прошли мимо именно этого романа. Повторим: вероятно случайно. Но может быть объяснение этой странности заложено в самой книге Бальзака? Возможно, это произведение не укладывалось в те представления о творчестве писателя, которые были характерны для русской критики 30-х гг. В самом деле, в этом небольшом романе не было почти ничего от «неистового романтизма», с которым так неотрывно связывали автора «Человеческой комедии», не было демонических образов беглых каторжников или роковых светских обольстителей (образ Шарля в этом отношении решен все-таки в более мягких, приглушенных тонах), не было резких социальных контрастов, не было неотразимо привлекательных героинь, проматывающих с молодыми любовниками так трудно сколоченное состояние своих отцов, и т. д. Вместо этого в книге на первый план был выдвинут тонкий психологический анализ внутренних побуждений персонажей, отодвинувший на второй план и финансовые махинации папаши Гранде, и исполненные теплоты либо иронии картины провинциального быта. Душевный мир героев раскрывался, пожалуй, впервые у Бальзака с такой силой и сложностью. И хотя в романе были показаны напряженные борения страстей, они не вырывались на поверхность, не приобретали характер общественных конфликтов, недаром они ограничивались узкими рамками семьи, причем, семьи намеренно малочисленной. Кроме того, роман по сути дела завершался победой здравого смысла, носителем которого был заданно отрицательный персонаж, старый скряга Гранде, еще один вариант «скупого рыцаря» и Гобсека, победой не только фактической, так сказать, событийной, но и моральной, чего, между прочим, не было дано другому бальзаковскому преуспевшему в коммерции «отцу» – макаронщику Горио. Психологизм романа, ориентация на внутренний мир героев, причудливо отозвались в пронизывающем это произведение Бальзака лирическом начале, которое связано не только с образом героини, но и с атмосферой маленького провинциального Сомюра, с его старыми домами, кривыми тесными улицами, с его тишиной и покоем.
История работы Достоевского над переводом Бальзака не очень хорошо известна, хотя ее старались тщательно изучить. Мы не знаем ни этапов этой работы, ни действительных побудительных причин. Во-первых, возникает закономерный вопрос, почему Достоевский обратился к Бальзаку и именно к этому его роману. Некоторые объяснения попытаемся привести. Прежде всего отметим, что на заре своей литературной деятельности Достоевский был убежденным сторонником переводческой работы, видя в ней очень полезную и плодотворную литературную учебу; недаром он усиленно склонял к этому брата Михаила. Между прочим, обращение к переводу, но немного по другим причинам, горячо одобрял и Белинский. В одной из рецензий 1835 г. он писал: «В самом деле у нас вообще слишком мало дорожат славою переводчика. А мне кажется, что теперь-то именно и должна бы в нашей литературе быть эпоха переводов <...>. У нас только богатые люди, и притом живущие в столицах, могут пользоваться неисчерпаемыми сокровищами европейского гения; но сколько есть людей, даже в самих столицах, а тем более в провинциях, которые жаждут живой воды просвещения, но по недостатку в средствах или по незнанию языков не в состоянии утолить своей благородной жажды. Итак, нам надо больше переводов, как собственно ученых, так и художественных произведений»[306]306
Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1953. Т. 1. С. 129.
[Закрыть]. Возможно, помимо любви к Бальзаку и тем более желания «набить руку» одной из побудительных причин, заставивших Достоевского приняться за перевод «Евгении Гранде», был приезд французского писателя в Россию и его пребывание в Петербурге в конце лета 1843 г. Этот визит довольно широко освещался в русской печати; например, газета «Северная пчела» сообщала 22 июля: «Прежде всего поделимся с читателями известием, любопытным для всех любителей литературы: на пароходе “Девоншир”, прибывшем из Лондона и Дюнкирхена в прошлую субботу, 17-го числа, приехал известный французский писатель Бальзак. Говорят, что он намерен провести у нас всю зиму»[307]307
Северная пчела. 1843. 22/VII. № 161. С. 641.
[Закрыть].
Можно, пожалуй, увидеть в выборе Достоевского и личные мотивы; в образе старика Гранде писатель обнаруживал какие-то черты своего отца, который тоже был поразительным скупцом, дорожившим любой, даже совершенно негодной, сломанной вещью, тщательно следившим за расходами семьи, в каждом встречном видевшим вора и соединявшим слюнявую сентиментальность с жестокостью и грубостью. Вместе с тем нам представляется, что тяжелые воспоминания детства не стали побудительным толчком, заставившим Достоевского приняться за перевод «Евгении Гранде». Тут как бы было все совсем наоборот: решив переводить роман Бальзака, писатель нашел в воспоминаниях детства нужные краски для изображения одного из центральных персонажей произведения. Главным, нам кажется, было все-таки желание попробовать свои силы в литературе, и книга Бальзака оказалась для этого превосходным материалом.
Достоевский пользовался первым отдельным изданием книги, и этим можно объяснить некоторые расхождения перевода с окончательным текстом романа; Достоевский же переводил по возможности точно, строго воспроизводя и сложные финансовые выкладки Бальзака, и мелкие детали быта, столь характерные для произведений французского писателя.
Между тем, в перевод вкрались некоторые ошибки. Они объяснялись недостаточным знанием переводчиком специфических французских реалий, особенно связанных с финансовой деятельностью героев, со сложной структурой французского общества начала века и с отдельными чертами провинциальной повседневной жизни, столь старательно выписанных в картинах захолустного Сомюра. Были в переводе и небольшие пропуски. Отчасти они были сделаны самим Достоевским, подчас опускавшим непонятные ему слова и выражения, но чаще это было результатом цензурного вмешательства: при публикации в журнале были смягчены отдельные высказывания Бальзака, касающиеся религии, полицейского принуждения, работорговли и т. п.
Итак, Достоевский старался быть точным. Вместе с тем он тщательно устранял из текста все, что могло бы указывать, что перед читателем именно перевод, а не оригинальная проза: в этом первом, известном нам, литературном опыте Достоевский предстает уже вполне владеющим писательской техникой, что заставляет предвидеть его дальнейшее литературное мастерство. Поэтому мы можем говорить, что в переводе «Евгении Гранде» уже обнаруживают себя те черты литературного стиля, которые вскоре станут типичны для ранних оригинальных произведений Достоевского («Бедные люди», «Неточка Незванова», «Хозяйка» и др.).
Итак, по возможности точно переводя Бальзака, Достоевский вносил в свой перевод характерные стилистические нюансы. Например, дабы усилить и подчеркнуть определенные элементы бальзаковского текста, он прибегал к целому ряду приемов, среди которых можно отметить развертывание синонимического ряда и многочисленные повторы. В то же время Достоевский подчас слегка сжимал текст, и все это сообщало последнему большую повествовательную плавность и вполне ощутимую ритмическую организацию.
Это особенно характерно для нейтрально-описательного пласта книги.
При передаче речи действующих лиц Достоевский охотно пользовался русскими просторечными выражениями, церковно-славянизмами, а также несвойственными Бальзаку (и даже невозможными у него) уменьшительными («дочечка», «жизненочек», «племянничек», «плутовочка», «милочка», «красавчик», «душечка» и мн. др.). Это придавало речи персонажей большую эмоциональность, делало эту речь более характерной, более индивидуализированной. Последнее очень важно. Дело в том, что Достоевский явно сознательно развел своих персонажей по разным стилистическим и психологическим регистрам: он акцентировал в большей мере, чем это делал Бальзак, грубость, черствость, скаредность старика Гранде; он также усилил в облике его жены черты мягкости, беззащитности, мученичества.
Но с особой последовательностью Достоевский осуществляет поэтизацию, погружение в одухотворенную лирическую стихию образа Евгении. Тут он смело идет даже на некоторую амплификацию текста, а не только на определенный лексический отбор.
Как известно, при журнальной публикации имя переводчика не было указано. Появление книги в русском переводе, книги совершенно замечательной, едва ли не лучшей в творческом наследии Бальзака, и в переводе несомненно очень удачном, не вызвало в отечественной печати ни одной развернутой рецензии. Перевод Достоевского, как и сам роман Бальзака в чьем-нибудь другом переводе, не переиздавался на русском языке до 1883 г.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































