Текст книги "От Франсуа Вийона до Марселя Пруста. Страницы истории французской литературы Нового времени (XVI-XIX века). Том II"
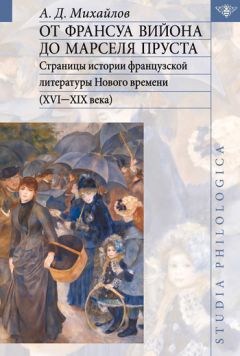
Автор книги: Андрей Михайлов
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 26 (всего у книги 47 страниц)
Новелла «Двойная ошибка» создана в период самого начала знакомства с Женни Дакен. Автобиографический элемент здесь просматривается в меньшей степени, и исследователи на нем не настаивают. Однако и здесь отразился личный опыт Мериме, его размышления о любви и о счастье.
Полагают, что новелла несколько растянута[352]352
См.: Trahard P. La jeunesse de Prosper Mérimée. Т. 2. P. 304.
[Закрыть], но длинноты не сделали ее маленьким романом. Между тем новелла построена с изумительным мастерством, вполне в духе Мериме. Первая ее половина посвящена ухаживаниям за Жюли Шатофора и страданиям молодой женщины из-за грубости, холодности и скандальных измен мужа. Мериме исподволь готовит читателя к тому, что Жюли вот-вот ответит на чувство Шатофора. Однако писатель и в этом случае умело мистифицирует читателя, слегка подсмеивается над ним, ибо сюжет неожиданно делает крутой поворот. Падение Жюли происходит, но его виновником оказывается совсем не Шатофор. Ухаживания Шатофора обречены на неудачу, так как вполне укладываются в те светские нормы, в которых столь быстро разочаровалась Жюли де Шаверни. «Она была молода, красива и замужем за человеком, который ей не нравился, – пишет Мериме, – вполне понятно, что ее окружало далеко не бескорыстное поклонение. Но, не считая присмотра матери, женщины очень благоразумной, собственная ее гордость (это был ее недостаток) до сей поры охраняла ее от светских соблазнов. К тому же разочарование, которое постигло ее в замужестве, послужив ей до некоторой степени уроком, притупило в ней способность воспламеняться. Она гордилась тем, что в обществе ее жалеют и ставят в пример как образец покорности судьбе. Она была по-своему даже счастлива, так как никого не любила, а муж предоставлял ей полную свободу. Ее кокетство (надо признаться, она все же любила порисоваться тем, что ее муж даже не понимает, каким он обладает сокровищем) было совершенно инстинктивным, как кокетство ребенка. Оно отлично уживалось с пренебрежительной сдержанностью, совсем непохожей на чопорность. Притом она умела быть любезной со всеми, и со всеми одинаково. В ее поведении невозможно было найти ни малейшего повода для злословия»[353]353
Мериме П. Собр. соч.: В 6 т. Т. 2. С. 7.
[Закрыть].
Тем самым воображение Жюли может поразить лишь человек не то чтобы иного круга, но иного сорта и, главное, иного эмоционального мира. Таким и оказывается Дарси. В годы юности, лет шесть-семь тому назад их связывала своеобразная дружба, вернее сообщничество; они заключили почти молчаливое соглашение поддерживать друг друга и тем самым противостоять светскому злословью. Романа между ними не было, лишь взаимная склонность, которая легко могла бы перерасти в роман. Оба были молоды, красивы, остроумны, язвительны, самолюбивы. Но он был беден, она же – завидная невеста. И тут Дарси неожиданно получил назначение в Константинополь, а в его отсутствие Жюли вышла замуж. Для молодой женщины с ним связаны, таким образом, не воспоминания о былом увлечении, а лишь смутная память о предощущении чувства, о годах юности, которые непременно кажутся счастливыми. И вот когда Жюли и Дарси случайно оказываются в опасной тесноте кареты, эти воспоминания на них нахлынывают – и как раз в соответствующем восприятии – как о счастливейших мгновениях жизни. Оба признались, что чувствуют себя одинокими, а потому – несчастными. Оба подумали, что мечтают о подлинной любви. Жюли показалось, что она действительно влюблена, Дарси же был сильно, слишком сильно, взволнован. В этом была первая ошибка каждого из них.
Известна последняя фраза новеллы (отсутствовавшая, между прочим, в первом издании): «Эти две души, не понявшие одна другую, были, может быть, созданы друг для друга»[354]354
Там же. С. 67.
[Закрыть]. Она вызывала немало споров, ибо не вполне проясняет смысл «Двойной ошибки». Так что же помешало героям понять друг друга? Помешал, конечно, не некий «эгоизм», о котором подчас пишут. Во многом помешали царившие в обществе отношения между людьми, и поэтому вполне прав Ю. Б. Виппер, когда отмечает, что «истоки зла, уродующего жизнь хороших по своим задаткам людей и мешающего им достичь счастья, коренятся в самой природе господствующего общества»[355]355
Виппер Ю. Указ. соч. С. 15.
[Закрыть]. А как же иначе? Характеры героев сформированы их средой, вот почему в Жюли так много светского кокетства. Впрочем, вспомним суждение самого Мериме об этой новелле, высказанное много позже (и как всегда, очень самокритичное). Весной 1864 г. он писал одной из знакомых: «Бывают кокетки, которые действительно любят. Что же происходит в их сознании? Когда-то я попытался затронуть этот вопрос, но потерпел полное фиаско, ибо ничего не понимаю в женщинах»[356]356
Мériтée P. Correspondence générale... Toulouse, 1958. Т. 12. P. 93.
[Закрыть]. Это, конечно, типичная для Мериме рисовка: в женщинах, в их характерах и чувствах он разбирался прекрасно. Жюли де Шаверни и Дарси – характеры индивидуализированные, их детерминированность общественной средой весьма относительна. Влияние общества, тем самым, ложится как бы на различный субстрат. Жюли и Дарси в общем оба плывут по течению, не стараются бороться с обстоятельствами. И в этом тоже их ошибка. Но главное – в характерах обоих в очень сильной степени дает о себе знать скептическое отношение к жизни, человеческим чувствам, в конце концов – неверие в подлинные любовь и счастье.
«Он был слегка мизантроп, обладал едким умом»[357]357
Мериме П. Собр. соч.: В 6 т. Т. 2. С. 27.
[Закрыть]. Это Мериме о Дарси. «Похож на свои сочинения: холоден, тонок, изящен, с сильно развитым чувством красоты и меры и с совершенным отсутствием не только какой-нибудь веры, но даже энтузиазма»[358]358
Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. Письма. М.; Л., 1961. T. 3. С. 97.
[Закрыть]. Это молодой Тургенев о стареющем Мериме. К тому времени (февраль 1857 г.) французский писатель уже завершил лепку своего человеческого образа; в пору написания «Двойной ошибки» он был в самом начале этой работы. Но направление ее определилось давно. И тут перед нами несомненная человеческая трагедия. Открытый для любви и дружбы, Мериме с каждым прожитым годом все более разуверялся в них (и все-таки их неустанно искал), замыкался в себе, погружался в спасительный скепсис.
Об этом писали все, кто его знал или хотел понять. И. С. Тургенев: «Под наружным равнодушием и холодом он скрывал самое любящее сердце; друзьям своим он был неизменно предан до конца; в несчастии он еще сильнее прилеплялся к ним, даже когда это несчастие было не совсем незаслуженное <...> В нем с годами все более и более развивалось то полунасмешливое, полусочувственное, в сущности, глубоко гуманное воззрение на жизнь, которое свойственно скептическим, но добрым умам, тщательно и постоянно изучавшим людские нравы, их слабости и страсти»[359]359
Там же. Сочинения. Т. 14. С. 212 – 213.
[Закрыть]. Ипполит Тэн: «В нем как бы жило два человека: один, живший в свете, сполна расплачивался за взятые на себя обязательства и сообразовывался с принятыми там условностями; другой, держащийся в стороне или даже над первым, с насмешливым видом и покорностью судьбе взирал окрест себя»[360]360
Taine H. Prosper Мérimée // Мériтée P. Lettres а une inconnue. T. 1. Р. VII.
[Закрыть]. Анатоль Франс: «Под маской холодного цинизма скрываются черты нежные и строгие, которых, однако, никто не видел. Застенчивый и гордый по природе, Мериме рано замкнулся в самом себе и еще в юности приобрел тот сухой и иронический облик, который сохранил на всю жизнь. Сен-Клер из “Этрусской вазы” – это он сам»[361]361
Франс А. Собр. соч.: В 8 т. М., 1960. Т. 8. С. 110.
[Закрыть].
Чувство одиночества преследовало Мериме долгие годы; им окрашены и его произведения, и, естественно, его письма. «Жениться мне уже поздно, – пишет он в 1855 г. одной из знакомых, – но мне хотелось бы найти какую-нибудь маленькую девочку и воспитывать ее. Мне не раз приходила мысль купить такого ребенка у цыганки, ибо, даже если мое воспитание и не принесло бы хороших плодов, я все же не сделал бы маленькое существо еще несчастнее. Что вы на это скажете? И как бы раздобыть такую девочку? Беда в том, что цыганки очень уж черны и что волосы у них, как конская грива. И почему только нет у вас какой-нибудь золотоволосой девчурки, которую вы могли бы мне уступить?»[362]362
Мériтée P. Correspondence générale... Toulouse, 1953. Т. 7. P. 442.
[Закрыть] Эта тема возникает и в других письмах. Так, в сентябре 1857 г. он признается г-же де Монтихо: «Мне кажется, что в жизни можно заниматься двумя вещами. Первая состоит в том, чтобы, если это возможно, избегать совершать глупости. Вторая же заключается в том, чтобы насколько возможно философски относиться к последствиям, коль скоро глупости наделаны. Вы знаете, как я провел лучшую часть своей жизни. Возможно, все это были глупости в духе пошлого романа. Но роман этот имел для меня довольно печальную развязку. Все мои ухищрения, все мои планы на будущее, правда, достаточно туманное, рухнули. У меня нет ни храбрости, ни сил на то, чтобы строить новые планы. Единственное преимущество, которое я смог бы теперь найти в женитьбе, это немного нежности во время болезни и особенно в тот весьма неприятный момент, когда надо будет отправляться в иной мир. Подходя к этому эгоистически, такое преимущество стоило бы обдумать. Но с другой стороны, все это ужасно – и ответственность перед женщиной, и заботы о ней, и то будущее, на которое ее обрекаешь. Как-то у меня был кот, и я очень любил с ним играть. Но когда у него появлялось желание навестить кошек на крыше или мышей в погребе, я задавал себе вопрос, могу ли я удерживать его около себя ради своего собственного удовольствия. И точно такой же вопрос задавал бы я себе, и с еще большими угрызениями совести, относительно женщины. Будь я уверен, что оставлю после себя что-то путное, я бы предпочел иметь девочку, которую я бы постарался воспитать очень хорошо. Но ведь это весьма сомнительная лотерея. Я думаю, что самое лучшее, это привыкнуть жить, как живет дерево, и этому покориться»[363]363
Ibid. T. 8. P. 375 – 376.
[Закрыть].
Как многие замкнутые и самолюбивые люди, Мериме мог быть поразительно откровенным, и это бывала откровенность подлинная и искренняя, но – до определенных пределов. Мериме не боялся раскрыться – в разговорах или письмах, – так как знал, что положенной им самим черты он не перейдет, что самое сокровенное все равно останется в глубине его души. Это надо помнить, читая его переписку.
В момент знакомства с Женни Дакен в нем еще боролись романтические порывы юности с трезвостью зрелых лет. Но те ранимость и неверие в любовь и счастье, чем были отмечены характеры Сен-Клера и Дарси, все более овладевали его сердцем. И общение с Женни, влюбленность в нее и последующая дружба с нею приносили, конечно, удовлетворение и радость, но с годами способствовали развитию чувства одиночества, которое Мериме болезненно переживал при всей светскости, при всей открытости его жизни.
4О письмах Мериме к его «незнакомке», о том, насколько можно (точнее, нельзя) им верить, с большой убежденностью, но очень неверно сказал в свое время П. В. Анненков. «Людям, занимающимся составлением характеристик замечательных современников на основании таких, по-видимому, несомненных документов, как подлинные письма, – писал он в воспоминаниях о Тургеневе, – можно только рекомендовать большую осторожность при выводах, к каким документы эти дают повод. В иностранных литературах мы имеем многочисленные примеры, к каким ложным заключениям приводят даже любопытные, а особенно весьма пикантные издания, опубликованные вскоре после смерти замечательных личностей и содержащие их интимную и задушевную переписку! (См. Lettres de Mйrimйe а une inconnue, переписку Варнгагена ф. Энзе с Алекс. Гумбольдтом, изданную г-жой Ассинг, и проч., проч.) Каждая переписка заключает в себе столько случайных настроений автора, столько желания сказать более того, что находилось в мысли и чувстве ее автора, что часто приговоры ее о людях и вещах противоречат действительному их значению. Издателю необходимо знать сущность коренных нравственных основ писателя, чтоб исправлять мимолетные увлечения его пера и не давать им смысла общественных обличений, чистосердечных откровений»[364]364
Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1960. С. 466.
[Закрыть].
Отдельное суждение, одна фраза в письме, передающие мимолетное настроение пишущего, могут, конечно, быть случайными (да и то не всегда). Но письма в целом, бесспорно, воссоздают облик их автора, его взаимоотношения с адресатом. Так было и с письмами Мериме к Женни Дакен.
Первые двенадцать писем написаны до встречи, все в 1832 г. Все это пока еще откровенная игра, увлекательный флирт. Мериме в этих письмах явно рисуется, поучает, хочет выглядеть многоопытным и во всем разочаровавшимся. Уже тут появляется мотив старости (это в двадцать-то девять лет!), явно неискренний: «Я уже старик и к красоте почти бесчувствен» (п. 6). Он играет в одиночество, показывая, однако, что это игра. И вот это было двойной мистификацией: Мериме был действительно одинок и от этого страдал. Но еще точнее, думал, что одинок, и хотел от этого страдать. И с первых писем, естественно, разговор о любви. А иначе зачем же знакомиться? Но разговор не без осторожности, не без оговорок, видимо, чтобы не спугнуть добычу: «Я люблю Вас, как четырнадцатилетнюю племянницу, которая отдана мне на воспитание» (п. 4). Или даже так: «Влюбляться в Вас я не стану. Несколькими годами раньше такое могло бы еще случиться, ныне же я слишком стар и слишком был несчастлив. Влюбиться я бы уже не мог, ибо фантазии мои привели меня к немалым desenganos <разочарованиям> в любви» (п. 5). Как это знакомо и как это банально: твердить о старости, об избытке горького жизненного опыта, о невозможности любить! Не хватает только рассуждений о возможном взаимном разочаровании. Впрочем, есть и это – в 12-м письме.
Совершенно условны, наигранны в этих первых письмах самохарактеристики Мериме: «скромность – наивысшая моя добродетель» (п. 1); «слабость Ваша и склонность к ревности – достоинства у женщин, но недостатки у мужчин. Мне же присущи обе эти черты» (п. 3); «Вам известно, что я уродлив, чрезвычайно капризен, вечно рассеян, люблю подразнить и бываю совершенно несносен, когда дурно себя чувствую» (п. 6) и т. д.
А вот нотки искренние, хотя и они не знающему Мериме могут показаться наигранными: «для меня не было бы блага выше, нежели иметь человека, которому я мог бы поведать все мысли мои – и прошлые, и нынешние» (п. 3); «быть может, Вы приобретете истинного друга, а я, быть может, найду в Вас то, что давно уже ищу, – женщину, в которую я не влюблен, но к которой могу питать доверие» (п. 5); «я и не хочу влюбляться, я хочу лишь иметь друга-женщину» (п. 6); «я предлагаю Вам добрую дружбу, которая, как я надеюсь, станет когда-нибудь нужна нам обоим» (п. 12).
В последнем письме, предшествующем свиданию (оно датировано 10 декабря), утверждается со всей непреложностью: «Мы никогда не полюбим друг друга плотской любовью. Я имею в виду Вас и себя. Само начало знакомства нашего уберегает нас от этого. Оно ведь куда как романтично» (п. 12).
А как произошло в действительности? Мы можем только догадываться. Письма на этот счет очень молчаливы. В них немало загадочного. В самом деле: что же произошло после свидания в Булони, когда писатель был так очарован, так увлечен? После встречи наступает долгое, более чем полуторагодовое молчание. К 1834 г. относятся всего четыре письма, заполненные в основном описанием его инспекционных поездок (они посланы из Аваллона, Авиньона, Тулона и Перпиньяна). А затем – огромная пауза, растянувшаяся более чем на шесть лет – до декабря 1840 г. Как объяснить столь долгое молчание? Ну, во-первых, на эти годы приходится начало любовной связи Мериме с Валентиной Делессер, как всякое подобное начало, по-видимому, счастливое. Во-вторых, почему бы Женни не изъять, не утаить какие-то письма? Но второе маловероятно: подлинный любовный всплеск в их отношениях явно приходится на 1842 – 1844 гг., когда акции Валентины заметно падают. Но до этого был опять более чем годовой перерыв в переписке.
В 1842 г. Мериме послал Женни Дакен 20 писем, а в 1843 – 47! В 1844 г. наступает некоторый спад: к этому году относятся уже всего 16 писем, и распределяются они довольно неравномерно – с апреля до августа опять загадочное молчание.
Самые взволнованные, самые искренние письма – это те, что бывали написаны в момент напряженных общений, постоянных прогулок и встреч, когда письма продолжали устные разговоры и досказывали то, что не было сказано с глазу на глаз. Теперь перед нами уже не банальный флирт, не стандартная любовная игра, а «поединок роковой», напряженный и подчас окрашивающийся в трагические тона. В письмах этих трех лет много упреков Мериме Женни Дакен – в холодности, невнимательности к нему, в том, что она ему не доверяет, не хочет перед ним раскрыться со всей той искренностью и простотой, каких он заслуживает: «Мне любопытно было бы знать, – пишет он в 1842 г., – как Вы ко мне относитесь, да только могу ли я о том узнать? Вы никогда не выскажете мне ни всего хорошего, ни всего дурного, что Вы обо мне думаете» (п. 23). Он часто упрекает Женни в том, что она недостаточно ценит его любовь, не пытается его понять, узнать поближе. И поэтому все время звучит тема разрыва, неизбежного, неотвратимого. Но рядом – тема торжествующей любви, взаимной, разделенной. Например: «Как собираетесь Вы вести спор на предложенную Вами тему: “Кто любит сильнее?”» (п. 83). Или: «Начиная нашу переписку, мы щеголяли остроумием, а чем мы занялись потом?» (п. 28). Или еще: «Разве столь необыкновенное чувство сродства, какое иной раз мы испытываем, какое нынче утром, например, увело нас туда, куда идти нам было вовсе и ни к чему, не обладает властью, более сладостной и могучей, чем та власть, которую может дать Вам сатанинская Ваша гордыня?» (п. 90).
В эти годы Мериме несомненно стал в какой-то момент любовником Женни Дакен. И хотя при публикации писем из них, видимо, старательно убирались все намеки, которые могли бы скомпрометировать возлюбленную писателя, сделано это было не очень аккуратно: кое-что все же осталось. Как иначе понять такое, например, восклицание-вопрос в письме 1856 г.: «Неужели правда он был, тот странный вечер в Версале, а после такое же странное утро?» (п. 169)? Или как истолковать такие, скажем, многозначительные упреки: «Вы всегда боитесь первых порывов; неужто Вы не видите, что только они чего-то стоят, только они поистине счастливы?!» (п. 53); «Вы желаете, чтобы я превратился в статую, я же, напротив, хочу, чтобы Вы не были ею» (п. 77). Во многих письмах мы находим отголоски недавних свиданий. Как правило, это бывали совместные прогулки в окрестностях Парижа (у Женни к тому времени уже была парижская квартирка), и нередко Мериме вспоминает, что они зашли совсем «не туда». Надо ли это понимать исключительно топографически?
Верный показатель сильного увлечения – это просьбы о встрече сразу же после очередного свидания, это упреки в том, что свидания редки и непродолжительны; например: «Вы обходитесь со мною так, как с нами обходится солнце, показываясь на небе не чаще раза в месяц» (п. 86). Судя по письмам, они часто ссорятся, но эти размолвки также являются верным показателем взаимной любви, хотя Мериме находит этому другое объяснение: «Не ссориться нам невозможно. Слишком мы разные» (п. 78). Об этом же говорят упреки в том, что Женни не старается его понять, хотя в действительности, видимо, было как раз наоборот. Вообще этот мотив непонимания, любви-отталкивания, носящий, бесспорно, ярко выраженный компенсаторный характер, говорит о силе и глубине чувства. А разговоры о том, что разлука неизбежна, хотя их и тянет неудержимо друг к другу, говорит как раз о настоящей влюбленности и о том, что чувство это находит ответ.
Именно в эти годы Мериме мог бы воскликнуть вслед за своим героем Сен-Клером: «Наконец-то встретил я сердце, которое меня поняло!.. Да, я встретил свой идеал, приобрел в одно и то же время и друга и обожаемую женщину»[365]365
Мериме П. Собр. соч.: В 6 т. Т. 1. С. 434.
[Закрыть]. Надо только принимать во внимание, что ему уже за сорок, а ей за тридцать, и безумства молодости уже позади. П. Леон полагал, что любовники оттолкнули друг друга свойственной каждому из них холодностью[366]366
См.: Leon P. Mérimée et son temps. P. 454.
[Закрыть]. Думается, это неверно. Просто в зрелые годы любят не так, как в юности, – быть может, трепетнее и глубже, но более спокойно, по крайней мере плотские утехи не играют теперь основополагающей роли. В подлинной любви их значение не первостепенное. Поэтому на первый план выдвигаются нежность, доверие, взаимопонимание. И это спокойное, умиротворенное чувство длится долго, поэтому-то еще в марте 1848 г. Мериме напишет: «Я люблю Вас с каждым днем, по-моему, все сильнее, и мне очень хотелось бы, чтобы у Вас достало мужества сказать мне то же самое» (п. 124).
В письмах этих трех лет, которые были временем их наибольшей близости, есть некий внутренний нерв, есть скрытая напряженность, непредсказуемость дальнейшего развития их романа, т. е. есть увлекательный сюжет. И вот что поразительно: в эти годы Мериме продолжал, видимо, поддерживать интимные отношения с Валентиной Делессер. Как мы уже говорили, их переписка не сохранилась. Но беремся утверждать, что в 1842 – 1844 гг. в этом романе Мериме наступил если и не перерыв, то определенный спад. Их связь стала привычной, а потому уже не волновала так, как прежде. Чувство к Валентине вспыхивало вновь с необычайной силой в пору их разрыва или тогда, когда на горизонте появлялся новый вздыхатель. Сначала им был Шарль де Ремюза, а затем Максим Дю Кан (все в свое время известные литераторы). Ухаживания первого Валентина принимает уже в 1845 г., и Мериме всерьез тревожился из-за такого легкомыслия своей светской любовницы (их связь не была, видимо, ни от кого секретом), вот, возможно, почему он несколько охладел в этот момент к Женни: в 1845 г. он написал ей всего пять писем.
Отношения с Женни и с Валентиной разительно отличались друг от друга. Валентина Делессер (1806 – 1894) была красива (судя хотя бы по известному портрету Ораса Верне), принадлежала к титулованной знати, числилась не только любительницей литературы, но и входила в клуб библиофилов, держала модный салон в Пасси, на той же улице, где одно время жил Бальзак. Их связь с Мериме была как бы официальной, вот почему писатель упоминает Валентину в своих письмах близким друзьям, в частности, принцессе Юлии или г-же де Монтихо. Мериме поддерживал дружеские связи с братом Валентины Леоном де Лабордом (1807 – 1869), принимал живое участие в воспитании и в жизненной карьере ее сына Эдуарда Делессера. Совсем иначе было в отношениях с Женни. Эта связь была тайной. Кроме известных писем к Стендалю и Шарпу, Мериме не упоминает эту свою возлюбленную никогда. Видимо, Мериме не только оберегал «честное имя» Женни, которая так никогда и не вступила в брак, но и не хотел, чтобы об их связи стало известно, вероятно – прежде всего Валентине. Вот почему, встречая Женни в обществе ее знакомых на прогулке, в музее, театре, он никогда не подавал вида, что они знают друг друга. Это была дружба-любовь, какая-то духовная близость, очарование которой заключалось в том числе и в том покрове тайны, каким все это было окутано. Такой близости, наверное, не было с Валентиной – там все было открыто, – и вот этой уединенностью своего чувства Мериме очень дорожил, всячески оберегая его от чужих глаз. Вот почему у них не было общего «круга» – общих знакомых и друзей, с которыми можно было бы обсуждать их отношения. Мериме писал Женни о многих – Стендале, Шарпе, Паницци, Эллисе, о литераторах и политиках, но о них Женни узнавала лишь от Мериме, видимо, ни с кем из них знакома она не была.
Как уживалась в сердце Мериме любовь к двум женщинам? На первых порах, видимо, эти связи находились, как это принято теперь говорить, в «дополнительном распределении»: с новой силой разгоралась одна – затухала другая. Так, в 1835 – 1841 гг. Мериме переживал бурное увлечение Валентиной (16 февраля 1836 г. они стали близки, и затем многие годы по-своему отмечали этот день). Вспышка любви к Женни, как уже говорилось, приходится на 1842 – 1844 гг. В это время отношения с Валентиной, конечно, не прерывались, но носили, пожалуй, более спокойный, так сказать, привычный характер. В 1845 г. Мериме встревожен начавшейся осадой, которую повел Ремюза, и несколько охладел к Женни, вернее, ему было не до нее. На 1848 г., очевидно, приходится новый прилив любви к «незнакомке», возможно, последний. Затем устанавливаются отношения стабильные, ровные, дружеские. Мериме живет воспоминаниями о былой любви, и это его вполне удовлетворяет. Так, поздравляя Женни с новым 1866 г., он вспоминает «старые добрые времена, когда мы были так счастливы, совершая наши прогулки» (п. 287). Но есть и другая сторона медали. Мериме был любвеобилен, и чувство любви могло приобретать у него самые разные формы. Он любил Женни совсем не так, как любил Валентину. Эти два чувства затрагивали совсем разные уголки его разума и сердца, не мешая друг другу. П. Леон, используя стендалевские формулировки, назвал чувство к Женни «любовью-влечением» (amour-gout), а чувство к Валентине «любовью-страстью» (amour-passion)[367]367
См.: Ibid. P. 450.
[Закрыть]. Подмечено верно. Таким образом, каждое из чувств удовлетворяло соответствовавшую ему потребность души. Любя обеих, Мериме не думал, что изменяет и той и другой, что ведет себя безнравственно. И как это ни парадоксально, так оно и было в действительности. А в конце жизни у него появилась еще одна любовь, которую П. Леон назвал «любовью-пристанищем» (amour-refuge), – к Фанни Лагден, ученице его матери, ставшей до последних дней его экономкой и заменившей ему всех остальных женщин. Но тогда с Валентиной все уже было кончено, а с Женни отношения сделались чисто дружескими.
Вернемся, однако, к тем годам, когда в их сердцах бушевала неподдельная страсть.
Мериме писал Женни о неизбежности разрыва, о взаимном непонимании тогда, когда их любовь была как раз взаимной, когда разрыва он в действительности не хотел. Вполне вероятно, что он писал о разрыве лишь для того, чтобы услышать в ответ, что его не ищут, что он невозможен. Можно допустить также, что все эти его разговоры о разрыве были вызваны боязнью разрыва, боязнью, что его опередят и ему самому предложат расстаться. И Мериме, и Женни не совершили роковой ошибки, столь свойственной любовникам, – они не пошли на разрыв. Думается, в этом заслуга «незнакомки», проявление подлинности ее чувства, тонкости ее души и терпимости ее характера. Итак, они не порвали, когда «любовь-влечение» уже прошла, и остались друзьями до конца дней.
Однажды, в пору бурного романа, он написал ей: «Возможно, состарившись, мы с радостью встретимся вновь» (п. 77). Такая встреча после долгого перерыва – не состоялась, ибо просто такого перерыва не было. Они переписывались постоянно, общение продолжалось, но встреч действительно стало значительно меньше, бывало, они не виделись годами. И это их вполне удовлетворяло. Не приходится удивляться, что после 1848 г. характер писем Мериме меняется. Они утрачивают литературность, т. е. уже не отражают хитросплетения любовного чувства, изменчивого и ломкого, из них уходит элемент игры, «рокового поединка», и они наполняются литературой: Мериме начинает писать значительно больше о прочитанных книгах, рассказывает о своих литературных начинаниях.
Но еще больше пишет он о политике, о тех событиях, свидетелем которых он был или приближение которых предчувствовал (например, войну с Германией). И здесь он бывает то детски наивен, то поразительно прозорлив. Сенатор, постоянно бывающий при дворе, часто гостящий в загородных императорских резиденциях (Сен-Клу, Фонтенбло, Компьень, Биарриц), он хотел бы любить императорскую семью (и он искренне был привязан к императрице Евгении, которую знал с детства), но относительно Наполеона III иллюзий не строит, хотя старается выбирать выражения, когда пишет о нем. И не может сдержать всей присущей ему язвительности, когда описывает двор, его нравы, окружающее его общество. К концу жизни Мериме, бесспорно, разочаровался в режиме империи, но не видел в общественной жизни никакой серьезной ему альтернативы. Он сочувствует революционным процессам, происходящим в Италии (об этом он особенно много пишет в 1859 – 1861 гг.), ибо хотел бы «воочию увидеть прекрасное зрелище – пробуждение порабощенного народа» (п. 194), но не может полностью сочувствовать гарибальдийцам, видя в них опасных мятежников, и трезво оценить вмешательство Франции в итальянские дела.
Об этом следует сказать несколько подробнее. Как известно, объединение Италии началось с австро-итало-французской войны 1859 г. В известной мере ее развязал глава правительства Сардинского королевства К. Кавур, заручившийся поддержкой Наполеона III. Отголосками этой войны стала серия восстаний в итальянских государствах. Франко-итальянские войска делали заметные успехи и теснили австрийцев. Но французскому императору не было нужно новое сильное государство у своих юго-восточных границ, и Наполеон III пошел на заключение сепаратного перемирия с Францем-Иосифом, в результате чего лишь Ломбардия присоединилась к Сардинскому королевству, Венеция же осталась под австрийским владычеством, а в Парме, Модене, Тоскане восстания были подавлены и у власти удержались прежние государи. Однако в сентябре 1859 г. там вспыхнули новые восстания, что привело к присоединению герцогств Моденского и Пармского и великого герцогства Тосканского к Сардинии уже в 1860 г. (тогда же в виде компенсации за невмешательство Франция получила Савойю и Ниццу). В 1860 г. в результате похода «тысячи» Гарибальди к Сардинии присоединились земли Королевства обеих Сицилии, а также Романья. В 1861 г. было образовано Итальянское королевство во главе с Виктором-Эммануилом, который был провозглашен королем 17 марта 1861 г. Отряды Гарибальди, столь доблестно освободившие Южную Италию от власти сицилийских Бурбонов, пытались овладеть Римом, вторгнувшись в папскую область, но им воспрепятствовали итальянские королевские войска при дипломатической, а затем и военной поддержке Наполеона III. В Рим были введены французские воинские части. Новая попытка Гарибальди захватить Рим, предпринятая в 1867 г., закончилась его поражением в битве при Ментане (3 ноября) от превосходящих сил папских и французских войск. Если Венеция была освобождена от австрийского ига в результате австро-итальянской войны 1866 г., то Рим вошел в состав Итальянского королевства лишь после того, как оттуда были выведены французские войска (1870). Мериме был заинтересованным свидетелем всех этих событий и много писал об этом Женни Дакен.
Но писал он, конечно, не только о политике, хотя она вообще занимала значительное место в его переписке второй половины 50-х и особенно 60-х годов. В одном из писем к «незнакомке» он признался: «Вы же знаете, что все, относящееся к истории человечества, представляет для меня громаднейший интерес» (п. 227). Правильнее было бы сказать: «истории человечества и его культуры». Перечислить все то, что Мериме написал Женни об архитектуре, живописи, истории, филологии, литературе, обычаях и нравах разных народов, о музеях и красивейших уголках природы, значило бы пересказать чуть ли не все эти письма. Бывая в путешествиях, он описывал ей достопримечательности, которые видел; когда она собиралась в дорогу, он советовал ей, что надо непременно посмотреть. Но вот что интересно отметить: с годами писатель все меньше в меньше интересуется современной ему литературой. К отечественной поэзии он всегда был по меньшей мере холоден: «К стихам французским, – писал он в 1842 г., – я испытываю отвращение» (п. 38). На этом фоне обращает на себя внимание его многолетнее увлечение Пушкиным, о чем он также пишет «незнакомке». Что касается прозы, то он явно отдает предпочтение Тургеневу, признаваясь: «Что же до романов, я не читаю их более» (п. 274). Это было, конечно, не так: романы он читал, но они его, как правило, разочаровывали, как, например, «Саламбо» Флобера (см. п. 259).
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































