Текст книги "От Франсуа Вийона до Марселя Пруста. Страницы истории французской литературы Нового времени (XVI-XIX века). Том II"
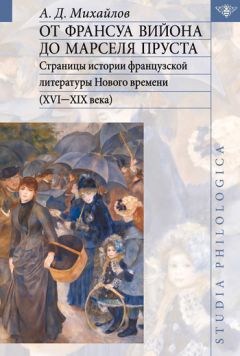
Автор книги: Андрей Михайлов
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 36 (всего у книги 47 страниц)
Вся пьеса представляет собой серию испытаний девушки, вернее, испытаний ее любви. Мерлин готов отдать ее горячо любимому сыну лишь тогда, когда убедится, что не ошибся в ней. Сначала одурманенный Лансеор оказывается в объятиях очаровательной, необычайно женственной Ариэли, к тому же немного волшебницы. Это видит Жуазель, но прощает любимого, верит, что это была минутная слабость, какое-то наваждение. Затем Мерлин сам пытается склонить Жуазель к любви, но конечно же получает решительный отказ. Тогда он начинает возводить напраслину на сына, предлагая показать его у ног другой женщины, но Жуазель и не хочет смотреть. Вот ее слова, обращенные к Лансеору: «Когда любишь так, как я тебя люблю, бываешь слеп и глух, ибо видишь гораздо дальше и слушаешь иное... Когда любишь так, как я тебя люблю, то любишь в любимом человеке не то, что он говорит или делает, а его, только его самого; а он остается одним и тем же во все года, при всех несчастиях, идущих мимо...». Наступает новое испытание: Лансеор при смерти, Мерлин обещает его спасти, но плата за это та же, что и в «Монне Ванне» – Жуазель должна отдаться старику. И она соглашается – во имя жизни любимого. Ночью она приходит к постели Мерлина, чтобы оказать ему сопротивление, убить его (под легким плащом, едва скрывающим ее наготу, у нее припасен кинжал). Но Мерлин притворяется спящим. Жуазель колеблется (это еще и испытание жалостью), но все-таки наносит удар, чтобы не изменить своей любви (и здесь характер героини оказывается разработан шире и глубже, чем характер Монны Ванны). В последний момент Ариэль перехватывает руку с разящим кинжалом. Мерлин сбрасывает маску, и все кончается счастливой идиллией. Лансеор спасен: отныне его удел – величайшая любовь, о которой в первом действии, еще до его появления, так заинтересованно и красноречиво говорила Ариэль: «Если он полюбит, если его полюбят любовью чудесной, которая должна была бы быть уделом всех людей, но встречается так редко, что кажется им ослепительной и безумной, – если он полюбит, если его полюбят любовью простодушной и вместе с тем всевидящей, любовью простой и чистой, как горные воды, и столь же действенной, любовью героической и более нежной, чем цветок, любовью, которая все берет и возвращает еще больше, чем берет, которая никогда не колеблется, не ошибается, которую ничто не смущает и ничто не устрашает, которая ничему не внемлет и ничего не видит, кроме таинственного счастья, невидимого для всех других, которая прозревает это счастье во всем, сквозь все формы и все испытания, и с улыбкой идет вперед, не останавливаясь и перед высшей силой, чтобы отстоять его, – если он добьется этой любви, которая где-то существует и ожидает его в сердце, найденном мною, то жизнь его продлится дольше, протечет прекраснее и счастливее, чем жизнь остальных людей». И именно так любит Лансеора Жуазель.
Но надо сказать несколько слов и об Ариэли. Пожалуй, это если и не наиболее трагический, то самый печальный образ пьесы. Ариэль прелестна своей цветущей женственностью, но она – дух, и видит ее один Мерлин. Он любит ее и любуется ею. «Ты спишь, моя ласковая, покорная, маленькая фея, – говорит он, склоняясь над ней, – и твои волосы развеваются, как голубой пар. Невидимо для людей, они сливаются со светом луны, с ароматами ночи, со звездными лучами, с осыпающимися розами, с лазурью, затопляющей их» (опять отметим столь важную для Метерлинка поэзию женских волос). Но «поцелуи, которыми дарят бедную Ариэль, скользят, подобно отражению крыла на поверхности текучей воды...». Ее удел – оставаться духом, послушной исполнительницей воли Мерлина, всех его прихотей. Она будет сопровождать его и в мрачную пещеру Вивианы...
Одновременно с этой такой поэтичной, такой пронзительно лиричной пьесой-сказкой писатель создал яркую бытовую комедию, пьесу-фарс «Чудо Святого Антония» («Le Miracle de Saint-Antoine», 1903). Здесь он обнаружил и чувство юмора, и умение создать очень достоверные образы своих современников, простых провинциальных буржуа.
Сюжет этой «сатирической легенды в двух действиях» (как ее определил Метерлинк) достаточно прост. Умирает богатая горожанка Гортензия, отказав в завещании щедрые дары всем родственникам, знакомым, слугам. Наследники и соседи собираются на похороны, но тут случается чудо – появляется Святой Антоний, чтобы оживить усопшую. Происходит понятная неразбериха, переполох, граничащие со скандалом на весь город, но упорный святой добивается своего – усопшая возвращается к жизни. Она оказывается не такой симпатичной и благостной, как ее изображала верная служанка Виргиния, и после ряда трагикомических ситуаций она все-таки покидает грешный мир.
«Чудо Святого Антония» – это, конечно, комедия положений, а не комедия характеров, хотя последние выписаны в пьесе мастерски (и племянники Густав и Ахилл, и Аббат, и Доктор и т. д.). Но тут вот что следовало бы отметить. Драматург «социального плана» непременно изобразил бы отчаяние и ужас наследников, которые из-за вмешательства настойчивого святого нежданно негаданно лишаются наследства. Можно было бы эффектно показать, как они ссорятся и спорят, возможно начинают в чем-то подозревать и обвинять друг друга. Ничего этого в пьесе Метерлинка нет. Респектабельные буржуа всеми силами стремятся избежать скандала, сохранить доброе имя семьи, а затем они настолько ошарашены случившимся, что просто не знают, как себя вести, и в общем успокаиваются только тогда, когда тетка умирает вторично. «Хищники-буржуа» оказываются не совсем тем, чем они были, скажем, в пьесах Анри Бека (1837 – 1899), во многих произведениях Золя и Мопассана. У Метерлинка они холодны и эгоистичны, но не скупы. Они расчетливы, но не в денежных делах (точнее, не столько в них), а в своих заботах о мнении о них окружающих. Наивным простодушием отмечена лишь служанка Виргиния, ритуально оплакивающая хозяйку, но не забывающая о своих неотложных делах. Она в меру набожна, но главное – ей свойственна большая доброта, она искренне жалеет голодного оборванца, оказавшегося к тому же еще и святым.
Новая пьеса Метерлинка появилась только в 1908 г. Это была его знаменитая «Синяя птица» («L’Oiseau Bleu»), величайший успех и величайшая неудача драматурга. Неудача потому, что писатель вложил в это произведение всю силу своего таланта, мастерство слова, изобретательность в построении сюжета, виртуозную находчивость в изобретении всяких чудесных превращений, вложил трепетную любовь к жизни вообще и к жизни своих родных мест, остро почувствовав неистребимую поэзию домашнего очага, простых человеческих отношений, искренних чувств. А пьеса стала классикой детского театра, ее тонкая философская основа оказалась вытесненной самой фактурой произведения.
«Синяя птица» – это пьеса-сказка о поисках истины и счастья. Она имеет прочные корни в фольклоре и в литературной традиции, недаром персонажи пьесы, пускаясь в путь, подбирают себе костюмы популярных сказочных героев. Не прошло даром для Метерлинка и его увлечение немецким романтиком Новалисом (1772 – 1801), его «магическим идеализмом», его пониманием целостности мира, доступном человеческому познанию. От романтиков, и в частности от Новалиса, пришло в пьесу Метерлинка символическое осмысление синего света, не только наиболее «красивого», но и гносеологически (а потому и символически) универсального.
Тильтиль и Митиль, дети бедного Дровосека, отправляются на поиски Синей птицы, и это человечество в их лице познает окружающий мир, открывает его сокровенные тайны, понимает относительность смерти (что было бесспорно новым в философских воззрениях Метерлинка, до этого смерть абсолютизировавшего). Очень важен в пьесе эпизод «Царство Будущего», где путешественникам открываются всевозможные изобретения и научные усовершенствования будущих веков, демонстрируя, что все подвластно человеку, его пытливому разуму. Поэтому если и можно найти Синюю птицу, олицетворяющую собой вечный, неостановимый процесс познания, то есть истину, то есть счастье, то поймать ее и тем более упрятать ее в клетку нельзя. Вот почему дети возвращаются из своего увлекательнейшего, феерического путешествия с пустыми руками.
И очень скоро всем этим чудесным приключениям детей приходит конец, наступает печальный момент прощания со спутниками, с Душой Света, которая вела их за собой. По пробуждении выясняется, что все это путешествие происходило во сне. Но сон этот все-таки был не простой, и маленькое чудо совершается: Синяя птица обнаруживается у них дома, в бедной хижине простого Дровосека. Это их горлица, которая давно живет у них в клетке, а сейчас вдруг стала синей. И дети дарят птицу внучке их соседки Берленго, и благодаря этому ребенок оправляется от болезни, которой давно страдал. Так маленькое счастье входит еще в один дом. Но и дети Дровосека испытывают счастье. Им хорошо в их небогатом, но опрятном и уютном доме среди таких близких и привычных предметов. Это счастье домашнего очага (впрочем, Отец не без горечи замечает: «Они играют в то, что они счастливы...»).
Это счастливое пробуждение низводит полет мечты на землю, где и может быть подлинное счастье – у каждого пусть маленькое, пусть даже убогое, но свое. А Синяя птица? Она в конце концов улетает. Может быть ее и вообще не было, и все, что увидели и о чем размышляли дети, было не более, чем назидательным сном.
Мысли Метерлинка о жизни и смерти, о взаимоотношениях между человеком и миром и между отдельными людьми, всегда занимавшие писателя, утратили в этой пьесе тревожащий характер. Все это было отодвинуто прозрачной чистотой и ясностью детской психологии, окунувшейся в прельстительную стихию народной фантастики. Вот почему критики и режиссеры проходили обычно мимо глубоких и глубинных философских подтекстов пьесы Метерлинка, видя в ней прежде всего очень поэтичное и одухотворенное проникновение в мир детской фантазии, в мир сказки, фольклора. К этому призывал, например, Александр Блок актеров Большого драматического театра в ноябре 1920 г. Он говорил: «Нет нужды для нас сейчас утяжелять толкование пьесы и разбирать тот сложный философский фундамент, который, несомненно, подведен под нее. Это завело бы нас в очень глухие дебри, мы узнали бы очень много любопытного, но нарушили бы самую свежесть сказки. Нам необходимо подойти к пьесе с большой простотой, именно как к сказке, и тогда вся ее глубина откроется сама собой, без академических изысканий. Только сказка умеет с легкостью стирать черту между обыденным и необычайным, а в этом вся соль пьесы»[589]589
Блок А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 6. М.; Л., 1962. С. 413 – 414.
[Закрыть].
После «Синей птицы» для Метерлинка начинается, быть может, слишком длинная полоса творческих исканий, по сути дела долгого, мучительного и в общем преждевременного заката. Уход в этой пьесе от приемов и принципов символизма, обращение к фольклору и к романтическим мотивам означали собой глубокий творческий кризис драматурга. Его самая известная, самая прославленная и – добавим – самая «теплая», самая человечная пьеса, которую нередко – и не без оснований – считают его вершиной, оказалась трагическим рубежом. Только через пять лет, в 1913 г., писатель выпускает новую пьесу – довольно слабую историческую драму «Мария Магдалина», в которой были использованы отдельные мотивы уже давней «Жуазели». Еще через пять лет была написана пьеса «Обручение» («Les Fiançailles», 1918), которая заслуживает внимания только как продолжение «Синей птицы». Здесь основательно подросшему Тильтилю предстоит найти невесту, что ему, при вмешательстве феи Берилюны, после ряда отчасти феерических, отчасти комических приключений, и удается. Отметим, что в этой пьесе Метерлинк доходит до самопародии – он выводит на сцену фигуру Рока, который сначала предстает в виде гигантской башни, но по ходу развития сюжета становится все меньше, так что его легко носят на руках другие персонажи, сам же он начинает шепелявить, как ребенок, очевидно впадая в детство.
После этого Метерлинк написал еще много пьес, как «военно-патриотических», таких, как «Бургомистр Стильмонда» (1919) и «Соль жизни» (1919), так и исторических – «Мария Виктория» (1925), «Иуда Искариот» (1929), «Принцесса Изабелла» (1935), «Жанна д’Арк» (1945). Показательно, что писатель не торопился опубликовывать свои новые драматические произведения, видимо, не будучи в них до конца уверен. Большой том его неизданных пьес увидел свет в 1959 г.
Поздний театр Метерлинка, конечно наследует отдельные черты его ранней символистской драматургии, но это уже совершенно новое культурное явление, имеющее мало общего с поэтическим театром писателя 90-х и 900-х годов, в котором, по словам А. Блока, так чувствовался и пробуждал волнение «ветер искусства, веющий со сцены»[590]590
Блок А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 5. М.; Л., 1962. С. 98.
[Закрыть].
Морис Метерлинк сыграл заметную роль в театральной жизни Европы рубежа веков. Бельгиец, он оказался наиболее «символистским» драматургом во всей французской литературе. Вот почему его так старательно и успешно ставил поэт и режиссер Поль Фор (1872 – 1960) в созданном им в Париже «Художественном театре» («Théâtre d’art»), где увидели свет рампы «Непрошенная» и «Слепые». Пьесы Метерлинка «Там, внутри», «Пелеас и Мелисанда», «Монна Ванна» поставил в тех же традициях символистского театра Люнье-По (1869 – 1940) в своем театре «Творчество» («L’Oeuvre»).
Творчество Метерлинка – значительная страница и в истории русского театра. В пору своих увлечений символизмом и импрессионизмом к его пьесам, вполне естественно, обратился К. С. Станиславский. В 1904 г. он показал спектакль, составленный из трех одноактных пьес драматурга («Слепые», «Непрошенная», «Там, внутри»). В 1908 г. Метерлинк предоставил Станиславскому право первой постановки «Синей птицы». Этим спектаклем театр отметил свое десятилетие.
Во многом опираясь на опыт Метерлинка, В. Э. Мейерхольд строил свою теорию «условного театра». Он писал в одной из статей 1908 г.: «Мы пытаемся добиться того, чтобы наше исполнение Метерлинка производило на душу зрителей такое примиряющее впечатление, какого хотел и сам автор. Спектакль Метерлинка – мистерия: или еле слышная гармония голосов, хор тихих слез, сдавленных рыданий и трепет надежд (как в “Смерти Тентажиля”), или – экстаз, зовущий к всенародному религиозному действу, к пляске под звуки труб и органа, к вакханалии великого торжества Чуда (как во втором акте “Беатрисы”). Драмы Метерлинка – “больше всего проявление и очищение душ”. “Его драмы – это хор душ, поющих вполголоса о страдании, любви, красоте и смерти”. Простота, уносящая от земли в мир грез. Гармония, возвещающая покой. Или же экстатическая радость»[591]591
Мейерхольд В. Э. Статьи, письма, речи, беседы. Ч. 1. М., 1968. С. 133.
[Закрыть]. В 1905 г. Мейерхольд поставил «Смерть Тентажиля» в Студии на Поварской, а затем на сцене театра В. Ф. Комиссаржевской – «Сестру Беатрису» (1906), «Чудо Святого Антония» (1906) и «Пелеаса и Мелисанду» (1907).
После 1917 г. было лишь несколько попыток сценической интерпретации драматургии Метерлинка в русском театре. Так, в ноябре 1919 г. пьесой «Ариана и Синяя Борода» открылся в Москве Государственный Показательный театр, где режиссер В. Г. Сахновский трактовал драму как бунтарское, зовущее к протесту произведение.
Дважды обращался к «Чуду Святого Антония» Е. Б. Вахтангов. В 1916 – 1918 гг. он прочел эту пьесу Метерлинка, работая над ней в Студенческой студии, как добродушную комедию. В 1921 г. он поставил пьесу в Третьей студии МХАТ уже совершенно иначе, гротескно заострив и подчеркнув сатирические тенденции пьесы, стараясь во что бы то ни стало «клеймить буржуа». Этого в пьесах Метерлинка не было, и советский театр легко и бездумно обошелся без его драматургии. Исключение делалось лишь для «Синей птицы» как классической пьесы для детей.
ПЬЕР ЛУИС И ФРИВОЛЬНЫЙ РОМАН НА ГРАНИ СТОЛЕТИЙ
Концы столетий нередко бывают отмечены причудливой пестротой соседствующих литературных направлений, течений, школ. Литература, как бы натолкнувшись на преломляющую призму, выявляет себя ярким спектром, каждый составляющий цвет которого не просто автономизируется, но – сам по себе – расщепляется на множество самостоятельных оттенков. Так было и на исходе девятнадцатого столетия, великого века романтизма и реализма, натурализма и символизма, но и не их одних. В конце века все это переплетается, вспыхивает с новой силой, прихотливо преображается и расцвечивается новыми красками.
Любая осень как медленное и торжественное умирание лета, в какой-то момент очень живописна и красива. Эти многоцветие и пышность скрывают подчас пронзительную тоску по уходящему, призывая оглянуться назад. Такое оглядывание – в поисках параллелей и аналогий – нередко переносит взор далеко – не в только что промелькнувшие годы, а за далекую грань столетий, когда также томительно и красиво умирала другая культура, скажем, позднего Средневековья или поздней Античности (получившей название Эллинизма). Вот почему в конце девятнадцатого века в поэтику и стилистику живописи, музыки, литературы так настойчиво и плодотворно входят мотивы, заимствованные из других эпох, – из Античности, Средневековья, Ренессанса, века Рококо, но не в археологической точности их трактовки, а в виде достаточно произвольной метафоры, смысл которой всецело зависит от непредсказуемой воли художника. И заметим: в этих четырех эпохах-метафорах отыскиваются прежде всего якобы свойственные исключительно им любовные и эротические составляющие, определяющие и сюжет, и метод его разработки в посвященных им произведениях. Поэтому-то мы и не можем говорить об историзме таких книг. Это всегда – псевдоисторизм (нередко при бесспорной достоверности деталей), искусная и искусственная картина прошлого. Это особенно очевидно при обращении к литературным памятникам, посвященным Античности.
Изучение Эллинизма, его осмысление и оценка начались, конечно, его прямыми наследниками и продолжались на протяжении многих столетий. Классическая филология (ведь изучение античного наследия – это прежде всего дело филологов) и в конце ХIX века развивалась в своих собственных самодостаточных и самозамкнутых рамках, но рядом с ней и все-таки в большой мере помимо нее создавался и разрабатывался своеобразный миф об Античности, особенно о ее конце.
Это отчетливо обнаружило себя во французской литературе, где над конструированием такого мифа трудились очень разные и очень талантливые литераторы, но для нас важна не глубина их проникновения в описываемую ими эпоху, не точность и верность воспроизведения прошлого, а стройность и гармоничность создаваемой картины, ее сбалансированность и подчеркнутая красота. Такое изображение конца блистательной древнегреческой цивилизации промелькивает в уравновешенных сонетах «Эмалей и камей» (1852) Теофиля Готье, в еще большей мере в цикле «Античных стихотворений» (1852) Леконта де Лиля, в совершеннейших «Трофеях» (1893) Жозе-Марии де Эредиа. К этому поэту мы еще вернемся, сейчас же отметим, что картины античных нравов мы находим и в прозе, прежде всего у Флобера («Саламбо», 1862) и у Анатоля Франса («Таис», 1890). Были, конечно, и другие книги, многочисленные даже, весьма разные и нередко совершенно банальные, но если бы было нужно назвать третий роман, после книг Флобера и Франса, то по шумному успеху и по бесспорному литературному мастерству им была бы «Афродита» Пьера Луиса. Здесь сплелись в тугой узел те воззрения на культуру Эллинизма, которые вырабатывались у предшественников Луиса и одновременно четко воплотился его собственный взгляд на мир, на мир вообще, а не только тех далеких столетий.
На литературной карте Франции конца прошлого и начала нашего века Пьер Луис – фигура заметная. Причем, популярности и признания он достиг не кропотливым трудом, не постепенным наращиванием достоинств, а почти в одночасье, после первых же одной-двух книг. Здесь сыграла роль и его бесспорная одаренность, и удачный расклад литературных сил. Он стал учеником Леконт де Лиля, Эредиа и Малларме прежде всего потому, что хотел числить их среди своих учителей. Первый навсегда остался для Луиса непререкаемым авторитетом, два другие охотно приняли его в свою школу. Важна была и поддержка друзей-единомышленников, во многом определявших литературный облик эпохи. Назовем только самых прославленных – Андре Жид, Поль Валери, Анри де Ренье. Тем самым Луис оказался в числе тех поздних символистов, группировавшихся вокруг журнала «Меркюр де Франс», кто способствовал его авторитету и славе.
Добавим, что помимо литературной известности, в светских кругах ходили всяческие толки о рассеянной и подчас скандальной личной жизни Луиса, которая теперь забылась, но которая многое объясняет в его творческих установках и предпочтениях. Однако, автобиографизм книг Луиса – особый. Но так или иначе любовь играла в его жизни весьма заметную роль. Поэтому немного остановимся на его биографии.
Пьер Луис (Louÿs) – таков был его псевдоним, претенциозно сконструированный из непритязательной фамилии отца – просто Луи (Louis). Род писателя был достаточно древний, хотя его далекие корни не очень ясны. Так или иначе, Пьер-Филипп Луи (1812 – 1889), отец Луиса, был уважаемым провинциальным адвокатом. Среди его предков находим видных государственных деятелей; один из них, барон Жозеф-Доминик Луи, был министром финансов при Наполеоне и в период Реставрации. Первый брак Пьера-Филиппа был непродолжительным, меньше десяти лет, но в нем появилось на свет двое детей – дочь Люси и сын Жорж.
В 1855 г. наш адвокат из Шампани женился снова – на Клер-Селин Мальдан (1832 – 1879), дальней родственнице знаменитой герцогини д’Абрантес, которая сыграла столь значительную роль в творческой судьбе Бальзака. В этом браке у г-на Луи также было двое детей – сыновья Поль-Рафаэль (1857 – 1884) и Пьер-Феликс, будущий писатель. Между супругами была достаточно большая разница в возрасте – двадцать лет, – и среди современников Пьера Луиса бытовало мнение, что он был сыном не своего отца, а сводного брата. Впрочем, у мачехи с пасынком тоже было пятнадцать лет разницы, но кто знает?.. Эта легенда, видимо, имеет в своей основе тот факт, что старший брат принимал самое живое участие в воспитании Луиса, а после смерти матери по сути дела заменил девятилетнему мальчику отца. Видный государственный чиновник, дипломат (французский посол в Санкт-Петербурге в 1909 – 1913 гг.), Жopж Луи (1847 – 1917) не только постоянно поддерживал своего брата материально, но и нередко был одним из первых читателей его новых произведений, охотно давал ему литературные советы и следил за его творческой деятельностью.
Будущий писатель родился 10 декабря 1870 г., то есть в момент трагического поражения Франции в войне с Пруссией. Он появился на свет не в родной Шампани, а в бельгийском Генте, куда семья укрылась от вражеского нашествия. Времена были столь беспокойные, что ребенок был крещен по всем правилам и получил имя Пьера-Феликса лишь в сентябре следующего года.
«Годы учения» его пропускаем – тут не было ничего примечательного. Пожалуй лишь – получение прекрасного классического образования (что очень скоро «сработает») и начало дружбы с Андре Жидом, учившимся в той же школе. Уже в последних классах лицея Луис включился в очень характерную жизнь парижской артистической богемы, причем как раз в том ее преломлении, которым был отмечен конец века. Здесь уже не было нищих чердаков и верных нетребовательных гризеток, описанных Мериме и Бальзаком и воодушевленно воспетых Беранже и Мюрже. Светские салоны заметным образом трансформировались. В них на равных встречались денежные мешки (нередко иудейского происхождения) и отпрыски очень древних аристократических семейств. Новым было то, что и те, и другие были людьми достаточно высокой, даже утонченной культуры – времена неотесанного макаронщика Горио давно прошли.
Как всегда, в светских салонах ведущая роль принадлежала представительницам слабого пола. В их честь сочинялись стихи, с ними флиртовали, заводили многолетнюю любовную связь. Эта пронизанная тонким эротизмом атмосфера салонной жизни тех лет хорошо передана в поздних романах Мопассана и в ранних книгах Франса, не говоря уже о том, что она стала излюбленным фоном многочисленнейших «светских» романов того времени. Пьер Луис взрослел и сложился как писатель как раз в такой атмосфере. Но любовная тема получила под его пером не только собственную трактовку; она легла в основу по сути дела всех его книг. При этом «жизнь сердца» не просто была для него исключительно интересна, она во многом направляла и определяла его существование.
Раннюю молодость тоже пропустим – мы об этом почти ничего не знаем. Известно лишь, что в семнадцать лет он пережил сильное увлечение Терезой Мальдан (как это обычно бывает, его кузиной). Ей уже исполнилось двадцать, и первое «воспитание чувств» он прошел под ее руководством. В девятнадцать лет – новое увлечение и тоже кузиной, Марией Шардон. На этот раз все было серьезней, Луис сделал предложение, которое было принято, но родственники под всякими предлогами оттягивали свадьбу, и в результате через два года произошел окончательный разрыв. На фоне этого увлечения молодой человек делает попытки писать. И вот что примечательно: начал Луис со стихов, пронизанных бурной эротикой, он как бы торопился пережить в воображении то, что ему еще не удалось вкусить в реальной жизни. Впрочем, очень скоро вкусил. И началась настоящая чувственная жизнь, полная страстных увлечений, связей, разрывов, ревнивых подозрений и собственных измен. Перечислить всех возлюбленных Луиса вряд ли возможно. Тут были актрисы, натурщицы, парижские проститутки, две алжирки вполне определенной профессии (с ними он познакомился во время путешествий, вместе с Андре Жидом, по Северной Африке), а также дочери, сестры, жены известных литераторов, с которыми Луис постоянно общался. Особую роль в его жизни сыграл салон поэта-парнасца Эредиа. Собственно даже не сам этот салон, а кружок трех дочерей поэта. По отцу Эредиа был испанцем, чья семья давно уже обосновалась в Латинской Америке, мать поэта была нормандкой. Все три сестры были бесспорно красивы – типично южной, чувственной красотой, все они обладали пылким темпераментом, художественными интересами, хотели играть определению роль в литературной жизни того времени, и их «литературная академия» собирала под свои своды немало молодых поэтов. Все три сестры вышли замуж за литераторов: старшая, Елена-Елизавета-Каридад, стала женой влиятельного литературного критика Рене Думика, средняя, Мария-Луиза-Антуанетта, бесспорно самая красивая и самая одаренная из них (она выпустила несколько книг под псевдонимом Жерар д’Увиль), вышла за прославленного поэта и романиста Анри де Ренье, одного из поздних символистов, наконец, младшая, Луиза, стала женой Луиса.
Писатель впервые переступил порог дома Эредиа 9 декабре 1890 г. и стал затем здесь «бывать». Так что три сестры росли и расцветали у него на глазах. Когда Луис познакомился с Марией де Эредиа (1875 – 1963), ей шел пятнадцатый год. Но она быстро взрослела, обнаруживала литературные склонности и женскую обольстительность, так что довольно скоро Луис оказался безоглядно влюбленным. Но Мария отдала предпочтение Анри де Ренье, в те годы близкому другу Луиса. Свадьба Ренье и Марии состоялась в октябре 1895 г., но Луис все-таки дождался своего часа: через два года, в октябре 1897-го, Мария де Ренье стала его любовницей, причем, это была не мимолетная вспышка страсти, а долгая связь, продолжавшаяся до ноября 1901 г. Впрочем, на эти четыре года приходится немало размолвок, ссор и взаимных измен. Особенно сложным в их взаимоотношениях стало лето 1898 г.: Мария ждала ребенка, и отцом его был не муж, а Луис (причем, все участники этой пикантной ситуации это знали), параллельно набирал темп роман писателя с младшей из сестер Эредиа, Луизой (они поженились летом следующего года), и одновременно у Луиса было еще две любовницы – Жермена Детома, сестра известного в то время художника, и алжирка Зора бен Брахим, и с обеими отношения были достаточно давними и устойчивыми.
Луис бесконечно любил женщин, и самых разных. Но не столько как близких ему людей (для этого у него были многочисленные друзья), сколько как объекты поклонения и любовных восторгов. Вот почему его брак с болезненной и капризной Луизой не заладился. Супруги часто жили врозь (когда на это были, конечно, причины), и не приходится удивляться, что все кончилось разводом (июль 1913 г.). Луис был еще совсем не стар, но основательно потрепан, поэтому его новые любовные связи (а их было у него достаточно) продиктованы исключительно сексуальными потребностями писателя. Его новые возлюбленные, в том числе три хорошенькие актрисы, неизменно моложе его и принадлежали к иным уже кругам общества (с Марией де Ренье они несопоставимы). И, как это часто случается с людьми ветреными и любвеобильными, уж никак не однолюбами, успокоение от череды любовных авантюр Луис нашел в связи с женщиной привлекательной и, что еще важнее, самоотверженной и верной, но не блещущей ни талантами, ни тонким вкусом, ни известностью в светских или литературных кругах. Алина Стенаккерс была моложе Луиса на двадцать пять лет и дала ему в эмоциональном и чисто бытовом плане то, что ему было нужно. Прежде всего покой и атмосферу заботы и любви. Они сошлись в начале 1919 г., брак же был заключен лишь в сентябре 1923-го. Еще до брака Алина родила двоих детей; третий ребенок увидел свет уже после смерти отца (Луис скончался 4 июня 1925 г.).
Вот такая жизнь, полная безоглядных любовных увлечений и волнующих любовных экспериментов. Было еще творчество.
Луис вошел в литературу достаточно рано, чтобы не покидать ее уже никогда. Обеспеченный материально (не богатство, а скромный достаток), он жил не литературой, а в ней и для нее. «Литературными» были его многочисленные любовные авантюры, «литературными» не в том смысле, что он находил покладистых партнерш в окололитературных кругах, а в том, что личный сексуальный опыт моментально закреплялся в сценах его романов и новелл и в стихах, а то, чего не давал такой опыт, домысливалось и, естественно, дописывалось в книгах. Отсюда – тот ощутимый налет экспериментальности, который лежит на произведениях Луиса. Литературными были дружеские связи писателя; Жида, Валери, Ренье мы уже упоминали, назовем еще англичан Суинберна и Оскара Уайльда (последний посвятил Луису свою «Саломею»), поэта Фернана Грега и популярнейшего в свое время романиста Клода Фаррера. Естественно, были и другие друзья-литераторы, теперь основательно забытые (например, Жильбер де Вуазен, женившийся на Луизе де Эредиа после ее развода о Луисом), но тогда обращавшие на себя внимание. Путешествия его также имели характер литературно-художественных паломничеств (Испания, Италия, Германия, Англия, Прованс, долина Луары и т. д.), либо поисков новых сексуальных впечатлений, причем, весьма неординарных (Северная Африка). Луис был также организатором нескольких журналов, издававшихся, впрочем, недолго, таких, как «Раковина» (1891; Верлен, Леконт де Лиль, Эредиа, Жид, Валери, Суинберн и др.) или «Кентавр» (1896; Жид, Валери, Ренье и др.). Наконец, отметим, что Луис был страстным библиофилом; в 1913 – 1917 гг. он издавал журнал «Обозрение старых книг», а распродажа его богатейшей библиотеки (сначала им самим в 1918 г., затем его вдовой в 1926 – 1927 гг.) стала заметным событием в литературной жизни Парижа.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































