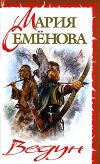Текст книги "Летописи Белогорья. Ведун. Книга 1"

Автор книги: Дмитрий Баранов
Жанр: Героическая фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 24 (всего у книги 28 страниц)
«Да нет, – говорит добрая женщина, – недалече. Аккурат вот туточки, возле этой самой опушки, на лесной полянке и живет. Вот гляди: видишь тропку у себя под ногами? Ступай по ней, а она тебя прямиком к дому и выведет. Только, чур, с тропы этой никуда не сворачивай и назад не оборачивайся! А как к избушке ее подойдешь, так стой и жди, пока сестра сама тебя не приветит. Сам первым с ней не заговаривай, а как угощать тебя станет, так ни к чему не притрагивайся до той поры, покуда она не согласится тебе помочь. Тут уж ничего не бойся и смело делай все так, как она тебе скажет. Ну, все! Ступай себе с Богом!»
Сказала – и пропала. Смотрит Акрит, а у него из-под ног и правда тропинка бежит! Подивился, как это он ее раньше-то не заметил! Не иначе, как сильно уставши был. Да и странница эта какая-то странная… Куда, спрашивается, запропастилась-то?
Засомневался. Он ведь леса-то местные как свои пять пальцев знал – вдоль и поперек исходил-излазал, а ни про какую такую избушку на полянке и знать не знал, и ведать не ведал. Но делать нечего! Не вороча́ться же назад? Ступил он на тропку, и она его повела. Вела, вела – и привела на круглую полянку, на которой разбегалась на три разные стороны, словно куриная лапка. А прямо посреди этой «куриной лапки» скособочилась избушка махонькая – и тропка та аккурат в ее крыльцо утыкается. Да так вровень, что, не соступив с тропы, избу и не обойти.
Встал. Стоит, ждет. Время бежит, а из избы никто к нему нейдет. Да и сама избушка какая-то чудна́я: ни завалинки, ни подклета не видно – словно на туманном облаке каком стоит или земля под ней дымком курится. Попробовал он было то диво дивное разглядеть попристальнее, так в глазах все сразу заиграло, зарябило, а голова кру́гом пошла. Страшно стало, словно в пропасть какую бездонную заглянул.
Вдруг дверь избушки отворилась, и на порог вышла хозяйка – ну точь-в-точь как давешняя нищенка! Голос в голос, волос в волос, рост в рост. Только слепая. «Интересно, – подумал Акрит, – как это мне, зрячему, незрячая помочь сможет?» Но, памятуя слова нищенки, стоит, молчит. Ждет, пока хозяйка сама его признает.
А хозяйка повела незрячими бельмами да начала фыркать, шмыгать носом и приговаривать: «Фу-фу-фу, людским духом пахнет! Живая костка на двор пришла! Прежде людского духу здесь и слыхом не слыхано, и видом не видано. Нынче людской дух на ложку садится да сам в рот катится!»
Акрит стоит ни жив ни мертв, но молчит, не шелохнется: только волосы на голове от страха шевелятся. Наконец, старуха угомонилась и говорит: «Ну что стоишь, касатик? В ногах правды нет. Заходи в избу, вечерять будем!»
Зашел Девгений в избу. Чуднó! С порога ему казалось, что избушка вся из себя маленькая да пучками травы и кореньями разными увешенная, а как зашел в сруб, так видит, что-изба-то большая, просторная – в три окна! Не иначе как пятистенок. А из каждого окошка – свои виды разные: из одного горы да скалы виднеются, в другом стоят леса дремучие, а в третьем окне – так и вовсе гладь водная от края до края раскинулась. Посредине, под самой матицей, печь стоит огромная, беленая, а за ней – стол белой скатертью укрытый да лавки вдоль стен, а больше никакого убранства нет. Глядь, а хозяйка уже на стол накрыла. И когда только успела-то?
Сели трапезничать. Только Девгений сидит, ничего не ест и не пьет, хотя у самого от голода давно уже пузо к хребту присохло, но терпит. Слюной захлебывается, а пустым ртом чавкает. Наконец, хозяйка закончила вечерять да как крикнет: «А теперь, Шмат-Разум, верни все туда, откуда взял!» Видит Девгений: скатерть как бы сама собой завязалась узлом и вместе со всем содержимым исчезла из избы. Понял он тогда, что если бы съел с того стола хотя бы кусочек, то и сам бы сейчас вместе с ним исчез.
А хозяйка поворотилась к нему и спрашивает: «Ну, здравствуй, добрый молодец! Куда идешь-пробираешься? Дело какое пытаешь аль от дела лытаешь?»
«Да вот, ищу, бабушка, Агриков меч.»
«А зачем же он тебе, милок, понадобился?»
«Хочу людям послужить: от черной ведьмы-упырицы народ освободить!»
«Хорошо ты ответил, – говорит хозяйка. – Ведь Агриков меч только тому верой и правдой служит, кто его бескорыстно из ножен извлекает. А коль для своей выгоды или славы ради человек старается, то он такому ловчиле сам голову срубает. Но раз ты не для себя, а для обчества стараешься, то, так и быть, открою я тебе дорогу к Агрикову жилищу, а там уж сам с ним договаривайся. Цену он запросит немалую, но не вздумай с ним торговаться, а пуще того – обмануть. У него весь тын вокруг жилища головами клятвопреступников изукрашен! Есть на том тыне и свободные спицы. Но ты ступай смело, только руку ему не жми и в глаза не смотри. А теперь на-ка, выпей моего отвару: без него тебе в те края попасть – только даром пропасть. От тебя же человеком живым за перестрел смердит!»
А сама достала из печи горшок какого-то зелья и подает его Девгению. Он выпил безбоязненно, и тут же у него в голове все помутилось, а изба как бы сама собой заскрипела, зашаталась, закружилась и повернулась аккурат в ту сторону, где Черные горы. Дверь сама собой распахнулась, и оказался наш молодец среди голых утесов, возле черных пропастей и сухих рек на каменистой дорожке возле железного тына с мертвыми головами. А за тем железным тыном на голой скале увидал Девгений железную кузницу. В кузнице той яркий огон горит, из кузницы черный дым валит, звон-стук по всей округе идет.
Зашел странник в кузницу и видит: стоит у наковальни седой сухонький старичок с бородой до пола. Одной рукой меха раздувает, другой молотом каменным по наковальне бьет. Поздоровался молодец, хозяину в пояс поклонился и стоит, не разгибается, очами в пол железный уставился.
Отложил коваль молот и говорит: «Ну, что же, давай, гость незваный, с тобою поручкуемся!» И протягивает ему свою руку. Видит Девгений, что деваться ему некуда. Подобрал он тогда какой-то камень, да и вложил его в ладонь старичку белобородому. Тот сжал камень, да так крепко сжал, что только пыль меж пальцев просыпалась, а сам сетует: «Перевелись, видно, богатыри на белом свете! Скоро не с кем будет ни обняться, ни словом перемолвиться… Ладно, – говорит, – все мне про тебя ведомо. Дело твое непростое! Была бы та княгиня обычной упырицей, так стало бы с нее и осинового кола или, на худой конец, серебром бы управились. А ученую черную ведьму, да к тому же и человеческий облик утратившую, этим уже не проймешь! Тут оружие особое надобно… Такое оружие, чтобы сразу в двух мирах разило! Но так и быть, помогу я тебе, да только с одним условием: обещай мне отдать то, что потерял, но пока еще не обрел».
«Так как же, батюшка Агрик, я смогу отдать тебе потерянное, когда я его еще не обрел?»
«А вот как найдешь, так и отдашь! – рассердился старик. – Если согласен с моим условием, то давай сюда свой меч: он уже плоти черной испробовал, вкус ее знает и помнит! А если ты на мое условие не согласен, то ступай отсюда туда, откуда пришел! Вот тебе и весь мой сказ!»
Хоть и непонятна цена, да торговаться не пристало! Еще ниже склонил голову Девгений, протянул старику свой меч, а вслух сказал: «Быть посему!» – и тут же вновь очутился на той же самой опушке, на том же самом пеньке, словно и с места не сходил.
Только видит он, что солнце уже к закату клонится. «Видно, задремал я с устатку, – подумал молодец. – Вот мне во сне всякое и привиделось. Пора идти обратно в город: упырицу, ведьму черную, ублажать». И побрел обратно к детинцу: руку за руку закидывает, ногу за ногу волочит – где идет, а где и катком катится.
Подошел к воротам. Глядит, а у самого рва стоит мужичок с ноготок, борода с локоток – точь-в-точь как тот давешний хозяин-коваль, что во сне ему привиделся. Стоит, с ноги на ногу переминается, его дожидается. «Вот, – говорит, – принимай обещанное да про наш с тобой ряд помни!» И протягивает ему сверток, завернутый в тряпицу.
Развернул ее Акрит, а там меч, да какой! Чернотой матовой поблескивает, а в ней искорки алмазные, словно звездочки живые, посверкивают. Загляделся Акрит на тьму кромешную – ничего вокруг не замечает: манит его тьма, обволакивает, вглубь за собой утягивает…
Встрепенулся молодец. О деянии, что он в сердце своем положил, вспомнил. Отогнал наваждение, вскинул очи на Агрика, а тот глядит на него, ухмыляется: «Вот теперь, – говорит, – ты готов заглянуть в бездну и сразиться с чудовищем. И запомни, воин, крепко-накрепко: кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. И если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже посмотрит в тебя!»
И продолжил: «Знай же, воин, что этот меч откован, но еще не закален. А закалить его надобно непременно в крови княгини. Закалка – это рождение клинка, и посему первым, что должен вкусить этот клинок при своем рождении, должна быть ее черная кровь! Тогда он завсегда упырей и иную разную нечисть будет чуять и крови их алкать и домогаться. Так что прежде, чем разить упырицу, сначала ударь мечом о камень да выбей искру живого огня. А как дойдет клинок от того огня до белого каления, тут уж, знай, не зевай – смело рази им черную суку! Бей ее в самое ее сердце! Но помни: у тебя только один удар. Один, иначе клинок придет в негодность и супротив тебя самого оборотится!»
Вложил Акрит чудесный меч в свои пустые ножны (как раз впору пришлись!) и пошел к княгине.
Стража при его виде глумливо заухмылялась и указала проследовать в подземелье, что располагалось под кромом: дескать, там княгиня принимать ванну изволит. Подивился воин, ибо знал, что в том подземелье находится фамильный склеп рода Баторов, да делать нечего: пошел туда, куда указали.
Распахнул он двери цельнокованые и зашел в погреба глубокие. Видит, стоит посредине склепа гроб каменный, до самых краев кровью человеческой наполненный, а в том гробу лежит княгиня – в крови нежится. Загорелась тут душа Акрита! Воспылало сердце молодецкое яростью праведной, и позабыл он все, чему его до этого учил Агрик. Соколом налетел он на черную суку.
Но Бог милостив! От волнения затряслись руки у молодца, чиркнул клинок меча дивного о край гроба каменного, высек искру живого огня, и вспыхнул от той искры меч нестерпимым белым пламенем! Раскалился он до белого каления, с шипением вспорол княгине тело белое и, насквозь пронзив ее сердце черное, на выходе расколол тот гроб твердокаменный и выпил всю кровь, что нашел себе в том гробу.
Стоит Акрит ни жив ни мертв, трясется весь, как недужный. Вдруг видит рядом с собой Агрика. Тот стоит себе рядышком, бородою метет пол каменный да приговаривает: «Ну, Девгений-богатырь, вижу, что прошел ты испытание, справился с делом, тебе порученным. Закалил чудо-клинок, родил волшебный меч! Вот теперь настало тебе время с упырицей переведаться. Давай, руби ей голову! Только смотри – снеси ей голову одним махом, чтобы ни одна капля ее проклятой крови на тебя не попала! А как срубишь, так и тут смотри не зевай: в то время полезут из ее утробы змеи, жабы, черви и разные гады – их надобно всех мечом волшебным поразить. Если хоть один червяк уйдет, тогда уже ничто не поможет – в том червяке черная ведьма ускользнет!»
А дивный меч в руке Девгения-богатыря весь преобразился: сгорела тьма глубокая, и заиграл, запел клинок горючим синим пламенем! Срубил Девгений тем мечом огненным поганую голову черной суки – княгини. Начала она гореть, утроба ее лопнула, и полезли оттуда змеи, жабы, черви и разные гады. А богатырь их всех мечом разит – ни одному червяку не дал ускользнуть. Так колдунья и сгорела, в пепел обратилась, а пепел по ветру развеялся.
Порубил тогда Девгений-богатырь всю стражу нечистую, разбил двери железные, сорвал замки и засовы. Идет, темницы открывает, пленных людей, что упырица похитила, освобождает. Выходят на свет и старики, и молодушки, детки малые и бабки старые, местные люди и из чужих стран – все ему в пояс кланяются, благодарят за свое спасение. Глядь, а навстречу ему его сыночек бежит! Бежит, ручки раскинул, тятьку обнять хочет. Увидал его Акрит и заплакал горючими слезами: понял он, что значило «отдать то, что потерял, но пока еще не обрел»! Понял, но делать уже нечего – уговор есть уговор. Сказанного не воротишь, отрубленного не приставишь. Да и спицы железные, что вокруг железной кузни наставлены, из головы нейдут.
А Агрик тут как тут: «А что, малец, пойдешь ко мне жить-поживать?» – а сам смотрит на него с прищуром. Хотел было крикнуть Акрит сыну: «Откажись, сынок, нельзя в учение силком, против воли брать! Откажись, и будем мы с тобою жить-поживать да белому свету радоваться!» Хотел, да не смог: вдруг взяла его оторопь – ни ступить, ни молвить не может. А мальчонка посмотрел на Агрика своими ясными глазенками и говорит: «Пойду, дедушка, коли научишь меня такие мечи творить!» «Так затем ведь и зову! Мне тебя сам Бог послал. Не только на нежить, но и на демонов будем с тобою клинки богатырские ладить!» – взял мальца за руку и был таков…
– Тут ему и славу поют! – прервал затянувшееся повествование Вадима давно уже клюющий носом Парамон. – Остается только добавить, что правил Девгений долго и счастливо, и во время его правления Растовское княжество вошло в состав Вечной Империи. Все! Пошли в «Приют легионера» – там выпьем за встречу, а Бог даст – так и подеремся-потешимся, споем. А ветераны нам таких историй понарасскажут, что только береги уши!
Когда поутру усталые и охрипшие друзья, покачиваясь, словно под ногами у них не твердая земля, а ладейная палуба, вышли из «Приюта легионера», уже давно пропели петухи. Где-то лениво перебрехивались дворовые псы, призывно мычала скотина, призывая своих нерадивых хозяек, сонно переругивались бредущие по своим делам горожане. И только на городской пристани уже вовсю кипела жизнь.
Вадим вдруг остановился, присел на взгорке и указал Ведуну место подле себя:
– Ну, давай, садись, буревестник. Рассказывай, что ты принес на своих крыльях.
– Да полно тебе, Вадим! – благодушно заулыбался Ведун. – Полно, нашел время! Успеется еще, наговоримся.
– Нет, давай сейчас. Ты еще с подхода к городу в себе это носишь, а может быть, и ранее. Так что выкладывай, не томи душу. Не отстану!
– Ну, раз так, то слушай, Вадим сын Богданович, слушай меня внимательно! Мы ведь с тобой в стенах Башни. Это уже земли Вечной Империи, а значит, и службе моей у тебя пришел конец. Что скажешь?
Вадим молчал. Когда Ведун обратился к нему «Вадим сын Богданович», то настроение у главы каравана сразу же упало. Они давно уже были на «ты», и поэтому обращение по отечеству означало только одно: неприятности. Вот и молчал Вадим. А что говорить-то попусту? Не скажешь же ведь: «Бросай, мол, друг мой, все свои дела и будь моим гостем столько, сколько душа пожелает! Мой дом – твой дом». Не скажешь… Не на прогулку человек собрался! И казны не предложишь, и имения не дашь. Вот и молчал караванщик. А Ведун, меж тем, продолжал:
– Но сначала хочу я поделиться с тобой одной догадкой, что давно уже не дает мне покоя. Послушай, Вадим, а ведь те галеры-то, что ждали наш караван у Вольного, были по твою душу посланы.
У Вадима от такого неожиданного заявления вытянулось лицо и даже пропал дар речи.
– Ну ты сам посуди! – видя его удивление, продолжил Ведун. – Из Растова тебя выманили обманом, да и в Беломорске так же, обманом, до осени промурыжили. Я хорошо знаю Ушкуя: с таким, как твой Гостята, он бы ни за что дела иметь не стал. Значит, Гостята тебя обманул. Не побоялся, подлец, что ты с него потом за обман спросишь да перед гильдией ославишь. Не побоялся… А почему? Да все по тому, что знал он, шельма: живым тебе домой не вернуться. А значит, и обман его раскрывать будет некому. Далее… Галеры эти не разбойничьи – не лихие люди их снарядили и направили. Тут чувствуется твердая рука. И пришли эти галеры на Волчье озеро как раз в то самое время, когда ты от Белогорска отчаливал. Пришли и встали, перекрыв водный путь по Ра. Но никого, заметь – никого! – эти галеры не грабили, а просто стояли себе, как на привязи. Спрашивается: чего или, лучше сказать, кого они ждали? Вот о чем подумай, Вадим! Крепко подумай!
– Ты хочешь сказать, что…
– Не хочу, а прямо тебе говорю: друг мой, в твоем окружении давно вертится засланец. Не предатель, а именно засланный соглядатай. Поэтому я и приказал перед битвой избавиться от голубей и всего прочего внешнего сношения. И это сработало: утечки не было, и поэтому наш удар застал врага врасплох. Не повольников, нет! В той игре, что вертится вокруг нас, этих простаков использовали просто как дымовую завесу, за которой затаился настоящий матерый враг. И сдается мне, что свой следующий удар он нанесет в Растове.
– Что ты предлагаешь? – сразу посуровел Вадим.
– Я предлагаю тебе свою помощь, – ответил Ведун.
– От помощи не откажусь, – сразу же потеплел караванщик. – Но что-сейчас-то делать станем? Ведь надо же нам как-то найти этого засланца?
– А зачем нам его искать? Что он может сообщить такого, чего наши враги уже не знают сами? Ну, скажет он им, что мы идем в Растов – так это и без него всем и каждому известно. Нет, не нужно его искать. Пусть себе успокоится, засуетится, наделает ошибок… Он нам еще в Растове пригодится. А мы с тобой уговоримся пока что вот о чем: обещай мне, Вадим, что что бы я ни делал, каким бы странным не показалось тебе мое поведение в Растове, ты во всем этом станешь мне потакать, словно какой-нибудь глупый родитель своему избалованному великовозрастному дитяти. Да, и еще… Хорошо бы подойти к Растову ближе к вечеру, лучше – в сумерках. Позаботься, пожалуйста, о моих вещах, а о нашем разговоре – никому! Никому.
– Ты опять все хочешь сделать один, – насупился Вадим. – Это, я скажу тебе, друг мой, не по чести. Друзья так не поступают. Друзья все делят поровну, а иначе они никакие не друзья-товарищи, а долевые соучастники с четко, раз и навсегда прописанными обязательствами!
– Да ничего, друг мой, я пока что толком не ведаю, а стало быть, и не хочу. Ничего, кроме того, как выманить из засады притихшего, затаившегося зверя, а как только он проявит себя, вот тогда уж только держись! Тогда на всех нас работы станет.
Глава десятая
Было пасмурно и пронизывающе сыро. Мелкий холодный дождь беспрерывно моросил по вощеному пологу корабельного навеса. По утрам он превращался в мокрый снег, ледяной коркой налипавший на одежду, и тогда под ногами корабельщиков хлюпала холодная снежная масса, которая больше походила на плохо сваренную кашу-размазню. Резкий порывистый ветер то завывал, то набегал неизвестно откуда, бесцеремонно срывая тяжелый полог и пригоршнями бросая эту мерзкую хлябь прямо в лица разгоряченных гребцов. Те зябко поеживались, переругивались, но присутствия духа не теряли, и веселые песни, шутки и дружеские подначки неумолчно звенели над промокшим и озябшим караваном. Все уже чувствовали дом. Все чувствовали себя героями.
Вадим со стыдом вспоминал, как приняли его караван на той первой после Башни ночной стоянке. Такие пристанища для путников возникли как бы сами собой на всех водных и сухопутных дорогах Империи, деля их на расстояния, равные примерно одному дневному переходу. Стоянки обрастали селянами и превращались в небольшие открытые городки, скучковавшиеся, подобно поросятам возле свиноматки, вкруг местной таверны. Таверна этого пристанища для усталых путников носила гордое название «Пивная кружка». В ней-то их караван и встречало местное население. Торжественно встречало, как героев, как триумфаторов. Вадиму тогда показалось, что чествовать корабельщиков собралась, почитай, вся округа. Вся – от мала до велика. Всем хотелось если уж не прикоснуться, то хотя бы одним глазком поглядеть на героев, сваливших непобедимое, как казалось доселе, Речное Братство.
Шуму-то было, гаму, суеты! Хозяин таверны попросил у храбрых витязей оставить ему что-нибудь на память о славной битве. Кто-то из корабельщиков, шутя, протянул ему негодный, но побывавший в битве, сломанный клинок. Негодное оружие было принято благоговейно, как святыня, и под всеобщие крики восторга помещено на самое почетное, видное со всех сторон место над очагом. Таверну сразу же переименовали в «Сломанный меч», и на радости хозяин выкатил гостям бочку своего самого наилучшего пива. Задаром. Ну какая же, в самом деле, плата может быть взята с героев? Тем более что хозяин намеревался в дальнейшем сторицей покрыть все расходы за счет показа бесценной реликвии.
Народ выпил на дармовщинку и пожелал услышать рассказ о славном взятии Вольного города, дабы навечно запечатлеть сие великое событие в памяти народной – ну и, заодно, сохранить его в анналах своей истории в назидание всем грядущим поколениям посетителей бывшей «Пивной кружки». Корабельщики не заставили себя долго упрашивать, и в скорости под лихой перестук кружек, наполненных хмельным напитком, на свет родилась замечательная история, практически без изменений вошедшая во все имперские летописи.
Эта удивительное повествование ярко, не жалея красок, живописало о том, как сходилися-собиралися тучи грозныя, все разбойныя. Как Вадим Удатный, узнав о грозящей опасности, собрал свою дружинушку хоробрую во единый круг, дабы совет держать, думу думати. И как на том совете порешили храбрые корабельщики, что нужно им нимало не мешкая боем идти на разбойный Вольный град, дабы отомстить за слезы вдов, матерей, малых детушек. Найти себе чести, а Вадиму – славы. Сказано – сделано. Бросились тогда в бой храбрые корабельщики и побили походя силу ту несметную, да все беззаконную, да сплошь разбойную. Сын Большака Надежа со товарищи, проявив отвагу немалую, храбрым натиском захватил детинец разбойничий; старый хевдинг Олаф Скала на речном просторе схлестнулся с корабельной силою разбойную и, грудь в грудь, в лихом сражении пустил на дно корабли окаянных повольников, сам при том сложив в бою буйну голову; а несметную рать великую отразил, встав на подступах града того стеною необоримую, сам Вадим Удатный. Слава героям!
О Ведуне в той песне не было сказано ни слова, будто и вовсе не бывало его в той битве. Пиво и приветственные крики еще лились рекой, когда Вадим тихо покинул это шумное сборище и отправился на покой в отведенную ему комнату. Возразить творцам истории он ничего не мог. Смотреть в глаза Ведуну – тоже. Так и остался на душе у старого тяжелый осадок. Мутный, словно с тяжкого похмелья. Разум шептал ему, что в песне ни о чем не соврали, просто кое о чем умолчали; так всегда бывает, ибо нигде нет всей полноты истины. А сердце все твердило о том, что самая худшая, самая паскудная ложь – это полуправда.
Для остальной команды похмелье случилось утром, и поэтому с первыми петухами выйти в путь не удалось. А как только выгребли на стрежень, так Вадим сразу же распорядился идти левым, диким берегом, и поэтому далее все потекло плавно, без величаний и попоек. И только «Песня о славном походе на Вольный» летела на крыльях ветра над просторами великой реки.
Так, под веселые песни и невеселые думы незаметно дошли до города Растова – города, на Ра стоящего, столицы Северо-восточной провинции Вечной Империи. Как только вдали сверкнул золотом купол храма Неведомого Бога, так сразу же, не иначе как по чьей-то доброй волшбе, небо разъяснилось, и в надвигающихся сумерках смутно забелели городские стены и башни.
Ветер выровнялся, полог свернули, но мачту решили не ставить, а зайти в порт на веслах. Все корабельщики принарядились в цветное платье, некоторые даже вздели легкие брони, но все, как один, препоясались оружием, словно бы пришли они домой не из торгового похода, а с воинского набега. Дружно ударили весла, запенились волны; корабли словно бы воспарили над речной гладью и, под успевшую уже изрядно поднадоесть Вадиму разудалую «Песню о славном походе на Вольный», буквально влетели в родной порт.
Казалось, что встречать их вышел весь город. Вся пристань, равно как и крыши близлежащих домов, была покрыта разноцветными шевелящимися пятнами, и потому издали порт походил на огромное лоскутное одеяло. Рукоплескания и радостный рев толпы отразились от холодного и низкого зимнего неба, и воздух содрогнулся от взрыва всеобщего ликования, многоголосого крика приветствия и радости, исторгнутого сотнями луженых глоток.
Корабли неспешно подошли к причалу. Первыми сошли невозмутимые норманны. Они спокойно и методично принялись древками копий расчищать пристань от бурлящей человеческой массы, освобождая путь прибывшим караванщикам. Что тут началось! Крики, шум, гам, площадная брань, толкотня и суета… Во всем этом кипении страстей никто не обратил внимания на неприметную фигуру в дорожном мятеле, что серой тенью скользнула с кормы головной ладьи и мгновенно затерялась в возбужденной толпе.
Именно затерялась, а не растворилась и не стала ее частью, ибо подобное сочетается с подобным. Сивый же никогда не видел себя частью этой многоликой безымянной людской массы, и, несмотря на то, что выбранный им путь зачастую и надолго погружал его в ее смрадные и липкие объятья, сам он никогда не был человеком толпы, а всегда оставался человеком в толпе. В такие минуты самое трудное для него состояло в контроле личного пространства, ведь толпа уже сама по себе является чем-то единым и, подобно всему единому, всегда стремится избавиться от всего чужеродного в своем могучем громоздком теле, а потому отторгает все, что не сливается с ней в едином порыве, как плоть человека отторгает болезненную занозу.
Противиться колыханиям и устремлениям людской массы для одиночки было и бесполезно, и небезопасно, а потому Сивому только и оставалось, что самому подстраиваться и перенаправлять свое движение, угрем скользя в потном и душном потоке, внимательно следя за тем, чтобы толпа вынесла его в нужное место. На этот раз он определил таким местом деревянную колокольню, высившуюся над переходом из портового квартала в городские. И возбужденная людская масса, хорошенечко пожевав и обмусолив, мягко выплюнула его аккурат к самому подножию трехповерхового строения.
Дальше все было уже проще. Зеваки, до отказа забившие смотровую площадку колокольни, были настолько увлечены происходящим на пристани, что даже не повернули своих голов в сторону вновь прибывшего, и Сивый, устроившись поудобнее, замер у самого края, как кот возле мышиной норы. Отсюда, с высоты третьего поверха, все различия в обличии людей стирались, и в вечерних сумерках толпа, собравшаяся на пристани, походила на большую беспокойную лужу, в которую разноцветными каплями стекались все новые и новые сопричастники. Наконец, одна «капля» выделилась из общей массы и серой горошиной торопливо покатилась прочь от портовых строений. Сивый засек направление ее движения, а затем, нимало не медля, съехал по теневой стене колокольни, мягко спрыгнул, гася движение, кубарем перекатился по деревянному настилу мостовой и устремился за торопливо удаляющейся фигурой в сером плаще.
Надо сказать, что его жертва двигалась довольно шустро, и, несмотря на пустые улицы, Сивый сумел догнать ее только на подходе к Гончарному концу. Здесь, в лабиринте чистеньких глинобитных домиков, он иногда все же терял ее из виду, но шелест шагов и скрип дощатого настила всегда указывали ему на ее местонахождение, пока вдруг тоже не пропали, исчезнув за очередным поворотом. Сивый заспешил и, наплевав на всякую осторожность, стрелой вылетел из-за угла очередной хатки… и чуть не влетел в здоровенную грязную лужу. Она привольно раскинулась на его пути и, заполняя собою всю улицу, лучше любых указателей сообщала о том, что благоустроенная территория обитания добропорядочных домохозяев закончилась, и далее начинаются трущобы, которые здесь назывались Глиняные ямы.
Сивый остановился, внимательно осмотрелся, потом прислушался и даже зачем-то понюхал воздух. Ничего! Он не почувствовал никакой угрозы, никаких следов волшбы, или даже простого напряжения, или вони, что всегда ощущается в местах, где творится недоброе. Следы вели его прямо через лужу к обычному глинобитному дому, похожему на большой кирпич, с вывеской в форме желтого шестиугольника с грубо намалеванным черным глазом – знаком гильдии предсказателей, гадалок, ясновидящих и прочего магического плебса, что, подобно тараканам, проживали, хватая крохи со стола Великого учения. Необычным здесь был, пожалуй, только масляный фонарь, освещающий вывеску, – непомерная роскошь для подобных мест. Все остальное вокруг дышало плесенью, грязью и запустением.
Так и не почувствовав никакой угрозы, Сивый выдохнул, поправил длинный боевой нож на поясе и короткий – за голенищем и, обойдя стороной вязкую грязь, решительно прошел к дому «Ясновидящей Анастасии». Тяжелая дубовая дверь отворилась неожиданно легко и без скрипа пропустила Сивого в небольшой полутемный коридор, упирающийся в точно такую же добротную дубовую дверь. Помещение выглядело так же, как и все помещения подобного типа – ничего особенного: пол выложен обшарпанной черно-желтой обожженной плиткой; облупившиеся стены неясного медового оттенка сплошь покрыты какими-то плохо различимыми полустертыми письменами; вдоль стен расставлены простые, но добротные дубовые скамьи для посетителей – во всем сквозила достойная и опрятная бедность. Судя по всему, это помещение служило чем-то вроде комнаты ожидания для жаждущих узнать свое будущее, и, наверное, в иные дни здесь бывало достаточно людно; но сейчас скамьи были пусты, и только возле самой входной двери расплылась рыхлая туша какого-то здоровяка из числа тех, кого в народе называют «дитя пьяной ночи». «Наверное, это сын гадалки, – подумал Сивый. – У тех, кто часто глядит в бездну или же просто бездумно заигрывает с потусторонними силами, рождение таких детей – не редкость».
Здоровяк бессмысленно уставился на вошедшего своими круглыми и бездонными глазенками младенца, счастливо загугукал и, растянув лягушачьи губы в бессмысленной улыбке, протянул огромную, как хлебная лопата, ладонь за подаянием. Сивый на ходу сунул ему в руку какую-то мелкую медную монетку и уже хотел было проскользнуть в следующую комнату, как вдруг убогий неожиданно схватил его за край плаща и, яростно замотав лохматой башкой, поднес к самому его носу растопыренную пятерню, загугукав уже более настойчиво, даже требовательно. Опасаясь, что поднявшийся шум привлечет ненужное внимание, Сивый вложил в протянутую ладонь полновесный серебряный империал, и убогий, сразу же отпустив полу, радостно замычал и пустил краем рта струйку тягучей слюны. Отделавшись от назойливого недоумка, бывший корабельный вож потянул на себя тяжелую дверь и уже без помех бесшумно протек в следующее помещение.