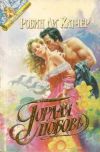Автор книги: Дмитрий Ольшанский
Жанр: Кинематограф и театр, Искусство
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 23 страниц)
– Поэтому вопрос «для чего ходить в театр и что я там получу?» – это вопрос капиталистов «что я буду с этого иметь?», не имеющий к искусству никакого касательства, да и к человеку тоже. Получить своё «ничто» – это самое большое, что ты можешь получить в театре. Но не в анализе.
– И здесь мы подходим к различию между ними. Искусство создаёт симптом, разрабатывает его, насыщает множеством нюансов, оттенков, ходов, но оно не дает проработки, не позволяет пройти сквозь него; искусство не позволяет художнику выйти за границы искусства. Тогда как анализ такую перспективу даёт. Огромная ценность искусства в том, что оно дает опору и подпитку для развития невроза, даже искусственного, многих это поддерживает, и за это мы должны быть ему благодарны. Но оно не позволяет отказаться от этого невроза, выйти за его пределы.
– С недавнего времени Вы публикуете достаточно большое количество статей, «психоаналитических рецензий», на спектакли. Считаете ли Вы необходимым развитие анализа искусства с психоаналитической точки зрения? Если да, то в чем для Вас ценность подобного анализа?
– Существует такой жанр интерпретировать произведения искусства «по Фрейду», который в начале двадцатого века преследовал цели пиара психоанализа, тогда ещё молодого, но амбициозного учения, которым стремились объяснить всё на свете, а сегодня практикуется разного рода гуманитариями с целью продемонстрировать свою просвещённость, иногда это довольно простовато выглядит. Как правило, такие незатейливые исследования сводятся к использованию уже готовых конструктов, таких как эдипов комплекс или страх кастрации, или зависть к пенису, которые отыщутся почти в любом произведении искусства, особенно если хорошенько потереть.
Но на сегодняшний день, как мне кажется, задача уже не состоит в том, чтобы пиарить психоанализ или привносить аналитические концепции в гуманитарные науки и заниматься психоанализом кино или психоанализом театра, тем более, что ни театр, ни анализ в этом не нуждаются. Как и всегда, работа аналитика состоит в том, чтобы очень внимательно слушать и чувствовать, что происходит – в том числе в театре – и пытаться влиять на этот процесс. То есть не просто заниматься толкованием: дескать, нос майора Ковалёва – это кастрированный фаллический символ, – а принимать участие в искусстве. Замечать и принимать в расчёт те формы субъективности, которые создаёт современный нам театр, чувствовать и понимать того субъекта, который только рождается в недрах сцены, экрана или инсталляции, говорить с ним на его языке и готовить адекватную для него психическую реальность. Здесь, конечно, уместна марксистская интонация: за многие годы мы уже научились объяснять реальность, теперь настала пора её изменить.
– В России этого ещё не произошло?
– Я не думаю, что стоит рубить очередное окно, устремлять взоры к Западу и думать, что там все намного лучше, чем у нас. Хотя, как показывает история русской культуры, фантазии о благополучном «прекрасном далёко» и какая-то воображаемая конкуренция Пентагона и Большого театра стимулируют многих на невероятные творческие прорывы.
На мой взгляд, мы должны наиболее активно использовать ту историю, которая у нас есть. Не делать из системы Станиславского музейного экспоната, не сдавать психологический театр в архив шерстяных шалей. Переживание, жизнь образа на сцене, сверхзадача – отнюдь не остались в XIX веке, нужно просто научиться пользоваться этими инструментами в современном мире: например, если субъект отделён от образа, то и вживание должно работать несколько иначе. Если образ лишён целостности, а мы имеем дело с частичными объектами влечений, то и техника вживания должна трансформироваться. Вжиться в объект-голос или объект-взгляд, со всем сопутствующим «ремеслом Станиславского» – вот интересная задача для актёра русского театра.
Или вживание в вещь. Мне на ум приходит реплика Соланж из «Служанок» Жене: «Мадам любит нас, как свои кресла, как фаянсовую розу из ванной комнаты, как свое биде». Как сыграть этот текст? Как сыграть, не вынося на сцену кресел, роз и биде (о них, собственно, и речи нет), а создать именно образ «зависть-к-биде». Попробуйте-ка вжиться в этот образ, пережить его историю и закрепить в форме сценического действия, разработать телесную пластику таким образом, чтобы тело функционировало как предмет, сополагалось вещам, завидовало им, разговаривало с ними. Виктюк очень близко подошёл к решению этой задачи обезличить и обездушить тела актёра. В перспективе, о-личить или о-безличить можно не только образ, но часть тела, момент времени, часть пространства, высказывание, крик, судорогу, схватку, – всё то, что Делёз называл сингулярностью бытия. Любой его кусок может заговорить со сцены. Вот где начинает работать система Станиславского.
Я не думаю, что театр нужно воспринимать как предмет для толкований и психоаналитических упражнений. Кристева предлагает понятие «фенотекста», т. е. текста понятого как самостоятельный феномен, который не подлежит интерпретации при помощи других текстов, а сам производит их. Для меня текст, аналогичным образом, представляет собой «фено-театр», то есть явление, которое производит оригинальные смыслы, не нуждающиеся в заземлении на старые греческие мифы. Поэтому наша задача состоит в том, чтобы воспринимать их и использовать. Быть может, совершить обратный ход: использовать в анализе то, что создало для нас искусство. Совершать не психоанализ театра, а, быть может, театрализацию психоанализа (ведь сеттинг, кушетка, ассоциации – это тоже своего рода постановка). Необходимо принимать в расчёт театральное измерение анализа, во всяком случае, перечитывая Арто, эта мысль не кажется такой уж бредовой.
– В таком случае насколько интересно и возможно развивать в России психоаналитический подход к искусству, в первую очередь за счет постоянных публикаций?
– Я бы не разделял театральную позицию критика или любого другого профессионала и зрителя. Меня, прежде всего, интересует вопрос: что делает актёр, когда выходит на сцену? кто он для меня? и кто я по отношению к нему? для чего мы здесь?
Но в то же время невозможно отрицать тот факт, что психоаналитические работы (я не думаю, что дело в предубеждении перед анализом, это судьба любого инородного взгляда) с трудом можно представить в театральных журналах. «Профессионалы» сопротивляются, поскольку часто чувствуют себя выбитыми из привычной колеи, кое-чего не понимают (а людям свойственно бояться того, чего они не понимают), поэтому отношение вполне естественное, как у ирокезов к делаварам. Однако это не проблема театра, это проблема прессы. Режиссёры и актёры не только читают то, что я пишу, но я часто чувствую фидбэк (или это моя иллюзия), когда пересматриваю спектакли несколько раз. Проблема информационного пространства в том, что не так много возможностей для встречи между театралами и зрителями. Как правило, в театральные издания пишут только театроведы (то есть люди из той же среды), это всё равно как если бы для литературных журналов писали бы только выпускники Лит.института: «У Вас есть диплом поэта? Нет? Ну тогда Ваши стихи мы печатать не будем».
В Хельсинки, например, откуда я пару дней назад вернулся, существует четыре крупных театра (один из них шведский, один – русский) и при этом 3 независимых театральных издания на финском языке, где и попса печатается, и отзывы о мюзиклах, и серьёзные аналитические работы и «професиональные» отзывы «профессиональных» театроведов. Да и электронные СМИ в Европе более развиты, так что, мне кажется, это чисто техническая проблема.
Возможно, в российской же прессе существует определенное высокомерие по отношению к зрителю: в этой стране театр всё-таки долгое время исполнял дидактические и просветительские функции, нёс «умное-доброе-вечное» в дремучие трудовые массы, поэтому зритель всегда находился на ступеньку ниже сцены, в роли ученика, в роли рецепиента, а режиссёр был этаким пастырем, от которого непременно требовались доходчивость и ясность в изложении идеи, чтобы ни у кого из паствы не возникло разногласий. Отчасти поэтому формат дискуссий не очень-то популярен в России, а театральные издания очень неохотно идут на освещение альтернативных точек зрения. Время изменилось, а атавизмы остались.
Мне кажется, что ситуация с театром примерно такая же, как и с философией – наибольшее влияние на неё оказали те, кто не был философами по образованию (Ницше, Леви-Стросс, Барт, Лакан). Равно и в нашей сфере: люди, внесшие наибольший вклад в развитие театра, никогда не заканчивали драматических вузов: Чехов и Брехт были врачами, Батай, Ионеско и Беккет – филологи-франкофоны, Брук – математик, Арто и Макдонах – «профессиональные безработные» без высшего образования. Театр оказался настолько же восприимчив к новым идеям и открыт к инвестициям из гуманитарных наук, как и философия, поэтому хороший режиссёр с театральным образованием сегодня скорее исключение из правил, чем закономерность. Это же касается и кино: так называемых «профессионалов» можно сосчитать по пальцам; самый великие режиссёры пришли в кино из других профессий.
Вероятно, надо сказать спасибо капитализму (если его и можно благодарить) за то, что сегодня многое стало зависеть от потребителя и игра перестала вестись только в одном направлении. Почему бы режиссеру не почувствовать себя в роли претерпевающего субъекта? Ставя спектакль, ты делаешь что-то внутри самого себя и выносишь это напоказ. И быть может, зритель увидит именно то, что ты хотел скрыть, или что-то неприятное или что-то интимное, то, о чём ты сам не подозреваешь, – но таковы правила – будь готов вынести на публику своё бессознательное. Ставить спектакль – это ставить эксперимент над самим собой. Режиссёр сегодня перестал быть мэтром и учителем жизни, скорее это пациент, а реакция зрителя – это толкование его бессознательного. Конечно, это может казаться стеснительным – выворачивать душу перед колхозниками и доярками – или неловким или даже опасным. Но кто сказал, что искусство безопасно? Искусство должно вселять тревогу и трепет не только в зрителя, но и в художника.
– Дмитрий, можете ли Вы выделить общие театральные тенденции на данный момент?
– Мне кажется, что есть очень широкое поле для самовыражения, для постановок. Существуют разные запросы и, соответственно, разные ответы и множество площадок для реализации тех или иных замыслов: и экспериментальные сцены, и классический театр, и музыкальный театр. На любой вкус.
– По Вашим словам, театр развивается, и вся ситуация выглядит достаточно обнадеживающей!
– Да! Театру просто не нужно сознательно мешать, не загонять его в рамки шоу, развлекательного действия… Главный враг театра – это призрак капитализма. Вопрос «что я буду с этого иметь? что я получу от этого театра?» – это вопрос потребителя, а не зрителя, поэтому задавать его театру – значить просто обращаться не по адресу: за эмоциями и разрядкой нужно ходить на стадион, за удовольствиями и развлечениями – в кабаре, за чувством общности и смыслом жизни – в церковь, все они успешно торгуют своим товаром и не жалуются на нехватку потребителей, театр в этом перечне вообще лишний.
Как только театр начинает жить не в координатах искусства, а ориентироваться на успешность, востребованность и зрелищность – он превращается в шоу, перестаёт быть искусством. Я говорю именно о призраке капитализма. О некой иллюзии, созданной самими же продюсерами и администраторами. Кто сказал, что зрелищность продаётся лучше, чем искусство? Кто сказал, что в эпоху фаст-фуда французские рестораны обречены? Напротив, именно они-то и востребованы сегодня более всего. На мой взгляд, зритель ищет новых серьёзных и сложных постановок, гамбургерами-мюзиклами публика сегодня уже пресытилась, этим никого не удивишь, рынок уже исчерпан. Наибольшей популярностью – как среди интеллектуалов, так и простых зрителей – начинают пользоваться камерные постановки, для небольшой аудитории, чистый эксклюзив, который отвечает вкусам нескольких десятков или сотен человек и не претендует на собрание стадионов и гастроли по всему миру. Именно таких камерных театров и постановок-на-любителя становится всё больше. А принимая во внимание спад интереса к психологическому, дидактическому и зрелищному театру, такое развитие авангарда можно считать тенденцией.
Это касается вообще любой дисциплины и любого вида искусства: как только философ начинает играть в науку, заниматься «актуальными исследованиями» и выигрывать гранты – он выпадает из поля истины, как только режиссёр начинает искать русскую идею и заниматься пропагандой – он выпадает из кинематографа, когда поэт начинает думать, что он больше, чем поэт – он перестаёт быть поэтом. Примеры всем нам известны.
Именно сегодня мы видим спад интереса к зрелищным стадионным мюзиклам и активное развитие небольших театров (на 30–50 человек), которое можно считать знаковым явлением последних лет.
– Не кино, как часто говорят?
– Нет, не кино (смеется). Если не мешать театру, он будет продолжать существование, занимать свою нишу, как и на протяжении нескольких последних тысячелетий. В конце концов, он пережил такое, что масс-медиа и телевидение – просто семечки, никакой серьёзной конкуренции театру они составить не могут.
Сублимация и де-сублимация театра
Интервью Ирине Токмаковой
Ирина Токмакова: Дмитрий, скажите, откуда у человека возникает потребность к творчеству? Я имею в виду творчество как созидание искусства, а не исключительно его восприятие. Почему у психически здорового человека рождается желание неординарного самовыражения?
Дмитрий Ольшанский: Вы поднимаете здесь сразу несколько вопросов. Во-первых, различие между, условно говоря, нормальным и, в кавычках говоря, патологическим. Где проходит грань между ними? Второй вопрос – о разнице зрителя и художника. В работе «Раннее воспоминание Леонардо да Винчи» Фройд говорил, что художником руководит влечение взгляда: влечение к рассматриванию и выставлению себя напоказ. Поэтому всякий художник одновременно является и зрителем и тем, на кого направлен взгляд другого. Здесь сложно разделять эти две вещи. Наконец, Вы поднимаете вопрос об искусстве, которое далеко не всегда выполняет функцию созидания.
– Но у человека, живущего по общесоциальным понятиям среднестатистической жизнью, у которого, как нам всем кажется, не возникает серьезных внутренних противоречий и психологических проблем, откуда у него энергия к творческой самореализации? Например, поэты. Ведь вряд ли у человека, не имеющего глубоких переживаний, возникнет вдруг желание писать стихи.
– Вы говорите о сублимации, и здесь важно различать идеализацию и сублимацию. Но творчество не всегда возникает как следствие переживаний, как их трансформация. Мы знаем поэтов и художников, которые совершенно рационально простраивают то, что они делают, и никаких чувственных интуиций при этом не используют. Однако от этого их творчество не становится менее бессознательным. Существует миф о том, что художник должен много страдать, тогда он будет делать что-то настоящее, как будто его реальные жизненные перипетии могут стать залогом и гарантией чистого высокого искусства. Это миф о сублимации, я бы сказал: чем больше ты страдаешь в реальной жизни – тем большее право имеешь называться художником. Но ведь существует масса примеров тех художников, которые успешно живут, не голодают и при этом не являются страдающими, и сей факт заставляет нас в этом мифе усомниться. Сальвадор Дали, например, вырос в очень богатой семье, никогда не нуждался и ни в чем себе не отказывал. Даже в школе одной из его любимых игр было раздавать деньги другим детям, да и всю последующую жизнь он вёл себя как барин и первоклассный деляга, сорил деньгами: покупал дорогие машины, замки, – но само по себе это не сделало его ни лучше, ни хуже. То есть творчество лежит совершенно в иной плоскости, чем реальная биография художника, оно вообще не касается эмоционального восприятия, переживаний и чувств.
– В какой же плоскости по-Вашему находятся его истоки?
– Думаю, что это бессознательное. Я бы не ограничивал проявления творчества известными нам видами искусства. Ребенок, который калякает на куске обоев, чем он принципиально отличается от того, кого мы называем мастером? Механизм влечений у них один и тот же: каждый пытается собрать собственную идентичность посредством картины; при помощи творчества художник нащупывает и артикулирует свою нехватку, создаёт в себе расщепление и находит путь для удовлетворения своих влечений. Поэтому искусство, конечно, наносит травмы, а не компенсирует их.
– А если говорить о конкретном виде творчества. Например, о театре. У кого-то еще с детских лет возникает тяга к лицедейству: к актерскому мастерству, к режиссуре. Вступив на путь творчества, многие продолжают его на протяжении всей жизни. Где истоки этой тяги? В воспитании ли, в характере? Или всё это пресловутый эдипов комплекс, который к чему только не оказывается причастным?
– Не думаю, что всё творчество можно свести к какому-то одному симптому – эдипову комплексу, например. Тем более, что есть художники и без эдипова комплекса, как и творчество без сублимации. Что касается театра, то, конечно, в большинстве случаев мы имеем дело с функцией взгляда, со скопическим влечением (у Фройда переводят как влечение к подглядыванию, но это не совсем верно, потому что у него задействован более широкий контекст: перед картиной или перед зрелищем, например, в театре – это захваченность взглядом, завороженность). Актер, выходящий на сцену, конечно, выставляет себя напоказ, играет с этим взглядом другого, стремится его присвоить, подчинить, соблазнить, застыдить и т.п. И тут, конечно, сколько людей – столько и стратегий, столько и объектных отношений: в некоторых случаях люди хотят представить взгляду свой идеальный образ, поэтому стесняются выступать перед публикой; боятся попасть впросак и быть скомпрометированными взглядом – мало ли кто увидит мой помятый воротничок – в других случаях именно предоставление себя в полное распоряжение взгляду другого и приносит удовольствие. От обнажения, от обнуления реальности…
– То есть это какие-то комплексы дают о себе знать? Человек таким образом реализует неурядицы с самим собой?
– Вся психическая жизнь описывается принципом удовольствия. Что бы ты ни делал, даже в том случае, если ты страдаешь, какие-то психические инстанции получают удовольствие. Даже если совершаешь нечто неприятное для себя, или тебе это кажется отвратительным, любое отрицательное, неприятное тоже вписывается в принцип удовольствия. Это можно сказать и про актера, и про художника вообще. В этом смысле у нас нет ничего, кроме своих проблем. А творчество – это способность умело их использовать.
– А как Вы относитесь к довольно распространенной формуле: чем гениальнее человек, тем больше у него психологических проблем и отклонений от «нормы»?
– Я думаю, что это тоже миф, определенно. Разве творческий человек обязан быть сумасшедшим? Дело в том, что все искусство держится на фантазме зрителя о безумии художника. Когда приходя в музей, думаешь, что перед тобой дело рук какого-то иного человека, как минимум сумасшедшего, извращенца. И чем более ненормальными тебе кажутся арт-объекты, тем выше начинаешь ценить это искусство. Но ведь опять же есть масса талантливых людей, которые жили обычной жизнью, ничем не отличались в быту от простого буржуа. Например, Пушкин был такой же дворянин, как и его сосед на Мойке, 14, или на Мойке, 10.
– Да, но Пушкин стихи писал, а его сосед нет.
– Я пытаюсь поколебать миф о том, что гениальность и сумасшествие неразделимы. Вот почему мы, зрители, невротики… Это универсальная, хочу сказать, но сбиваюсь на этом слове, универсальная схема построения невроза и невротического фантазма: что в творчестве, что в эротической жизни, что в отношениях. Невротик всегда фантазирует о некотором извращении, которое ему недоступно, но которое есть у перверта. Поэтому невротики так любят играть в извращенцев, надеясь посредством этого получить доступ к запретному для него наслаждению, через фантазию об извращении невротик может прикоснуться к объекту своего влечения и реализовать свою сексуальность. Поэтому, например, некоторые женщины любят играть в шлюх, хотя таковыми не являются, поскольку это именно та извращенная женщина, которая может получать все блага и всё наслаждение мира. Или патологическая ревность к своему мужчине, фантазм о Дон Жуане – идеальный вариант проявления своих гомосексуальных чувств, направленных на других женщин и попадающих под запрет. Быть открытой лесбиянкой не так-то просто, а вот иметь при себе мужчину, который имеет всех понравившихся тебе женщин – вполне социально допустимый вариант. В театре или в музее происходит нечто подобное.
Как зритель я вовсе не отождествляюсь с героем (иначе театр держался бы на чистой воды нарциссизме и не шёл дальше мыльных шоу), но я нахожу на стороне героя ту часть, которой у меня как раз нет, он сообщает мне ту фундаментальную утрату, которая и стоит у истоков меня как субъекта. Сцена захватывает меня именно потому, что показывает мне нечто невозможное, преступное, извращённое – убийство детей, секс с матерью, нарушение погребальных ритуалов (то, что оставил нам греческий театр); в сцене мне становится доступно именно то наслаждение, которое запретно для меня в обычной жизни, я узнаю в ней объект своего влечения, поэтому театр тревожит и приносит наслаждение одновременно. Удовольствие от искусства невротик получает именно благодаря тому, что он может приобщиться к безумию режиссёра или сумасшествию художника. Поэтому сами зрители создают этот миф, который поддерживает их удовольствие от искусства.
– Интересная позиция. А в чём причина страдания самих творческих людей неврозами, и случается это, как мы знаем, довольно часто? Какова вообще взаимосвязь художества и болезни, что первично?
– Здесь можно зайти в тупик в силу того, что есть невротики, которые не творят, а есть художники, которые не являются невротиками. Трудно проводить параллель. Есть масса исследований, которые сравнивают творчество и психоз, творчество и невроз, творчество и перверсию. Всё это, как правило, сводится к каким-то биографическим наблюдениям и тривиальным выводам про детские травмы, папу-маму и эдипов комплекс. Все это предельно банально выглядит и довольно топорно делается. Есть, например, книга, посвященная Льву Толстому, где автор пытается объяснить творчество писателя через первичную сцену, когда маленький Лёва Толстой ночью пробирается к гробу своей матушки, и его охватывает странное смешанное чувство отвращения и страсти перед женским телом. Он узнает свою любимую маму, но в то же время видит, что это восковое мертвое тело – уже не его мама. Автор исследования пытается отсюда вытащить, как ниточку из клубка, всю историю отношений Льва Толстого с женщинами. Дескать, поэтому в его романах все женщины плохо кончают: их сексуальность либо приводит их к гибели, как Элен Курагину или Анну Каренину; либо они превращаются в детородных самок и теряют всякую привлекательность, как Наташа Ростова: она совершенно опустилась, перестала следить за собой, вся ушла в своих детей.
– Получается две крайности.
– Да. И автор пытается сделать эту сцену универсальным ключом ко всему творчеству Толстого и его моральной философии. Однако есть множество людей, которые потеряли мать в детстве, но Львом Толстым стал только один из них. Следовательно, искать причину в первотравме неверно. И вроде бы все срастается, но это ничего не объясняет. Постфактум можно сказать, что факт смерти матери, конечно, оказал влияние на Толстого, но это нельзя брать в качестве универсальной модели, в качестве общей формулы для интерпретации его творчества. Поэтому попытка объяснить творчество через невроз, или через какое-то душевное расстройство оказывается непродуктивна. Я опять же беру слова о патологии в кавычки, потому что сложно сказать, чем отличается душевная норма от недуга, более того – миф о нормальном человеке, он тоже придуман невротиками. Возвращаясь к вопросу, вряд ли можно всю историю человека объяснить каким-то одним событием из его прошлого, а уж тем более связать творчество с первотравмой. Есть примеры того, как люди до тридцати лет никаким творчеством не занимались, а после становились художниками, как Василий Кандинский (где было его безумие до 1896-го года?). Есть и обратные примеры, вроде Артюра Рембо, который в девятнадцать лет прекратил писать стихи и после этого за всю оставшуюся жизнь ни строчки не написал. Поэтому здесь прямой корреляции нет. Простым психозом или неврозом феномен творчества не объяснишь.
– Это ведь, однозначно, совокупность факторов… Дмитрий, я знаю, что Вы увлекаетесь театром. В основе любого спектакля, а первично – пьесы – драматический конфликт. Столкновение. Проблематика. В центре такого конфликта всегда человек проблемный. Вам удавалось применять эту особенность театрального искусства на практике?
– Театр – это исключительно мое хобби. Часть моей собственной истории. Поскольку я вырос в театре.
– Вы занимались театральным искусством?
– Нет, в театре я именно вырос. Сам никогда не играл. А что касается применения на практике, несколько лет назад в Петербург приезжала коллега из Брюсселя, Паскаль Шампань, психиатр и психоаналитик, она работает в клинике с душевно больными людьми. И она заметила, что со сцены или под маской персонажа шизофренику проще говорить о самом себе. И это оказался очень эффективный метод в её практике, поскольку играя в театре, пациенты смогли авторизовать какой-то текст и произносить его от первого лица, что не так-то просто для человека, у которого нет собственного «я».
– Игра на сцене способствует процессу самоидентификации?
– Да. Например, при некоторых психозах человек владеет речью, но не может говорить от первого лица и, следовательно, не может авторизовать свою историю, не может рассказывать о себе. Но когда он начинает говорить за кого-то, устами сценического персонажа, то он в нём находит самого себя. То есть через другого начинает говорить за себя. Это позволяет ему отделиться от преследующих его голосов, и ответить на вопрос «кто говорит?»
Выходя на сцену, человек может пережить то, что Шкловский называл эффектом остранения. Он может увидеть дистанцию между собой-персонажем и собой-актёром (чего не получается в повседневной жизни, когда ты являешься тем, кого играешь, согласно легенде, написанной в твоём паспорте). Выходя на сцену, ты можешь обнаружить это необходимое очуждение между первым и третьим лицом, между собой и другим.
– Это помогает пациентам за пределами сцены? Действует как терапия?
– Да, это именно терапия. Такой уникальный пример, когда это и искусство, и терапия. Хотя слово «терапия» я бы не использовал. Во-первых, это не арт-терапия в том смысле, в каком она фигурирует в медицинском дискурсе. А во-вторых, искусство вообще не является способом излечения, оно может поддерживать и стабилизировать симптом, но не подвергает его проработке. Джойс, например, поддерживал себя при помощи письма, был социальным человеком, пока работал, но как только ему показалось, что он исчерпал себя как писатель и отложил перо, у него развязался психоз. Искусство может поддерживать человека, но само по себе не является способом излечения. Искусство не дает проработки, скажем так. Поэтому арт-терапия – это и не искусство и не проработка симптома.
– Вы отрицательно к ней относитесь?
– Я бы сказал метафорически: терапия дает человеку костыль, но не лечит его опорно-двигательный аппарат, позволяет устранить проблему или переключиться с неё, но не задаёт вопрос о её причинах.
– Понятно. А скажите, почему многие гениальные люди, которые глубоко погружаются в собственное творчество, начинают отрицать быт, семью, с трудом находят себя в обществе? Все равно ведь большинство людей творческих, так или иначе, отличаются и отделяются от остальных волей-неволей. Отчего у человека именно творческая самореализация выходит на первый план?
– Мне кажется, что это очередной расхожий миф о том, что настоящий художник должен быть голодным. Это продолжение вопроса о том, почему человек начинает заниматься творчеством. Вы сказали о семье, а я вспомнил Пикассо, у которого была масса жён, с которыми он не прекращал общаться, куча детей и огромный дом, всегда полный гостей, Кокто описывает его как очень гостеприимного и даже хлебосольного человека. И это не мешало ему быть и художником, и хорошим семьянином, и домохозяином.
– Вы считаете, что возможно успешное совмещение?
– Дело в том, что нам необходимы мифы: некоторые сомневающиеся в себе художники действительно поддерживают это разделение на материальное и духовное – дескать, если я пиит человечества, то должен презирать прозу жизни, построение карьеры, семейную рутину, капиталистические ценности и всё с ними связанное. Для кого-то это действительно так, но тогда возникает вопрос об этом противопоставлении. Как ты отличаешь материальное от духовного? И какую роль выполняет этот миф для твоего творчества? Не является ли твой талант слишком сомнительным для тебя самого, и действительно ли ты не уверен в себе настолько, что начинаешь прибегать к подобного рода мифологическим подпоркам, протезам, изображать из себя нищего, больного, голодного поэта, косить под кого-то, чтобы окружающие поверили в твою уникальность и неординарность? Неужели твой гений держится только на мифе о голодном художнике и безграничном самолюбовании?
– Получается, опять способ выделиться, из-за неуверенности в себе?
– Я знаю такие примеры, да. Если ты просто написал стихотворение – не так очевидно, что оно гениально. А если ты при этом ещё не ел неделю, или лежал в психушке, или тебя привлекли за разжигание или угасание чего-нибудь там, то стихотворение будет звучать намного более убедительно. Для самого автора, конечно.
– Элемент эпатажа.
– Вроде того. Нарциссическая петля. Автор хочет выглядеть в своих глазах более даровитым, Это игры скопического влечения, о котором я говорил раньше.
– Дмитрий, Вы встречали на практике людей, которые своей деятельностью подтверждали, что всё это миф? Гениальных таких людей (смеемся). Тут, наверное, определение надо дать – кто он такой, гений.
– Да, конечно. А вообще эта логическая посылка работает в обе стороны. И логика такая: если я – художник, следовательно, я должен быть бедным и голодным, и обратно: если я бедный и голодный, следовательно, я – художник. Можно ведь быть и лоботрясом полнейшим и при этом быть уверенным в том, что страдания уже сами по себе делают тебя неординарным человеком, что ты как-то противостоишь обществу потребления – носишь обноски, питаешься объедками, занимаешься всякой дрянью, но зато ты такая вот яркая индивидуальность. В общем-то, всякий невротик наслаждается своим симптомом, и творческие люди здесь не исключение. В связи с этим у меня возникла ассоциация с Марксом, который говорил, что думать о себе как о яркой индивидуальности и пестовать свои таланты – это лучший способ превратиться в серую массу. Когда ты желаешь отгородиться от общества и уединиться в башне из слоновой кости, заткнув уши наушниками, одеваясь в секонд-хэндах и годами не включая телевизор, ты как раз и становишься тем самым легко манипулируемым «среднестатистическим человеком». Чем больше ты пестуешь свою индивидуальность, тем усреднённее ты становишься. Потому что все остальные именно этим и занимаются.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.