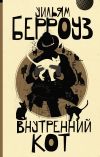Текст книги "Безгрешное сладострастие речи"

Автор книги: Елена Толстая
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 24 страниц)
Беловизмы у раннего Набокова
Я сознательно оставляю в стороне разговор о Набокове в контексте беловской метафизики, мировосприятия и так далее – об этом писали Георгий Струве и Нина Берберова, Владимир Александров и Дональд Бартон Джонсон. Ольга Сконечная в статье 1994 года «Черно-белый калейдоскоп: Андрей Белый в отражениях В. В. Набокова» и в недавней книге «Русский параноидальный роман»[429]429
Сконечная О. Черно-белый калейдоскоп: Андрей Белый в отражениях В. В. Набокова // Новое литературное обозрение. 1994. № 7–8. С. 38–44. Перепечатано в: Набоков В. В.: PRO ET CONTRA. Личность и творчество Владимира Набокова в оценке русских и зарубежных мыслителей и исследователей. Т. 1. РХГА, 1999. С. 667–696. Она же. Русский параноидальный роман. М.: Новое литературное обозрение, 2015.
[Закрыть] обнаружила у Набокова множество мотивных совпадений с Белым. А. В. Лавров в своей статье «Андрей Белый и „кольцо возврата“ в „Защите Лужина“» (2007) подробно обосновывает наличие в названном романе слоя подтекстов из 3-й Симфонии Белого «Возврат», которая была переиздана в Берлине в 1922 году с подзаголовком «повесть»[430]430
Лавров А. В. Андрей Белый и «кольцо возврата» в «Защите Лужина» / The Real Life of Pierre Delalande/ Studies in Russian and Comparative Literature to Honor Alexander Dolinin. Stanford, 2007. Part 2. P. 539–554.
[Закрыть].
Я пытаюсь взглянуть на дело с другой стороны: например, с чего бы вдруг молодому прозаику в двух рассказах подряд 1923–1924 годов говорить о «выпученной» манишке или рубашке: «Малиновый толстяк за своей зыбкой стойкой выпучил белый вырез» в «Ударе крыла» (с. 48) и «выпучив белую кольчугу крахмальной рубашки» в рассказе «Месть» (с. 58). Мы же сразу опознаем здесь беловский ход, потому что у Белого в «Крещеном китайце», романе 1922 года, написано: «мамочка, выпучив бюст из атласа»[431]431
Андрей Белый. Крещеный китаец. Берлин, 1922. С. 66.
[Закрыть].
Известно, что интерес Набокова к Белому возник в Ялте в 1918 году, когда он услышал о нем как о теоретике стиха от Максимилиана Волошина, и усилился, когда Набоков стал берлинским жителем и начал писать прозу. Белый жил в Берлине с осени 1921 до осени 1923 года. Набоков окончательно переехал туда из Кембриджа осенью 1922 года. Присутствие Белого в литературном Берлине было подавляюще, не заметить его было невозможно: он присутствовал везде. Входил в правление Дома искусств с ноября 1921-го, участвовал в горьковской «Беседе», сидел в берлинских кафе, выступал на литературных вечерах и на собраниях теософов. Его горестная личная жизнь была всеобщей притчей во языцех (бросила жена, поссорился с Штейнером, сошел с ума, танцует фокстрот). О нем как об авторе постоянно напоминали журналы и альманахи, например «Эпопея», где печатались «Воспоминания о Блоке» (1–3, 1922–1923), которые тут же и выходили книгой, и переделывались в главы «Начала века». Издавались брошюры Белого, например сварливая полемика с Ивановым «Сирин ученого варварства», а наряду с ней и гениальная антропософская «Глоссалолия». Белый все левел, возненавидел Берлин, возненавидел Запад вообще и, наконец, охотно дал К. Васильевой увезти себя обратно в Россию, где в памфлете «Одна из обителей царства теней» обвинил берлинскую русскую жизнь в выморочности. Впрочем, кто этого не делал! Не надо забывать, что именно в Берлине многие писатели написали свои лучшие книги – например, Виктор Шкловский и Алексей Толстой. Но это явно не случай Белого. Лучшие его книги были написаны давно, а берлинская его продукция разочаровывала – например, продолжающие «Котика Летаева» романы «Крещеный китаец» и «Записки чудака» (1922). Мандельштам в рецензии на «Записки чудака» обвинил ритмизованную прозу Белого в нехудожественности и в засилье старых символистских образов, а вместе с Белым и всему литературному Берлину приписал культурную отсталость:
«В то время, как в России ломают головы, как вывести на живую дорогу освобожденную от лирических пут независимую прозаическую речь, в Берлине в 1922 году появляется в издании „Геликона“ какой-то прозаический недомерок, возвращающий к „Симфониям“. „Записки чудака“ свидетельствуют о культурной отсталости и запущенности берлинской провинции и художественном одичании даже лучших ее представителей»[432]432
Мандельштам О. Собрание сочинений. В 4 т. Т. 2. М., 1993. С. 322.
[Закрыть].
Белый издал в Берлине семь новых и переиздал девять старых книг[433]433
ди Лео Донателла. Андрей Белый в Берлине 1920-х годов / Universitatea de stat «Alecu Russo» din Bălți. Бэлцкий государственный университет имени Алеку Руссо. Международная научная конференция «Традиции и новаторство в литературных исследованиях». 27 октября 2015 г. Бэлц, Молдова. С. 198–202.
[Закрыть], среди них классические «Серебряный голубь» и «Петербург», уже повлиявшие на все новое литературное поколение, и даже Третью симфонию «Возврат», с подзаголовком «Повесть» (1922). Так что Белый присутствовал в литературном Берлине всеми своими гранями и всеми периодами сразу. Образчик анахронистического влияния Белого-прозаика на юного Набокова – это рассказ «Слово» 1922 года, где воспринята прежде всего изнуряющая красивость ранней прозы Белого. Этот этап нужно было преодолеть, и на примере нескольких рассказов 1923–1924 годов можно увидеть, как именно взрослеющий Набоков преодолевал свою зависимость.
Беловские приемы на глазах становились общеупотребительными в модернистской русской, так называемой орнаментальной, прозе, его вихревой, рваный синтаксис, и обилие тире и двоеточий уже растащили эпигоны, звуковая инструментовка стала общим местом, ритмическая проза вызывала у читателя прямое отторжение; слабо прослеживаемый сюжет в особенности раздражал. В ранних рассказах Набокова середины 1920-х чувствуется влияние английской прозы, остросюжетной, часто с фантастическим или оккультным оттенком. В России тоже на смену орнаментальным интенциям, то есть в конечном счете на смену Белому, шло встречное стремление к фабульности в прозе. Таким образом, пробы пера Набокова попадают в одну струю с новейшими образчиками советской прозы.
Если же говорить о ведении мотивов и о контрапункте – то есть соположении контрастных мотивов как своего рода заменителе сюжета, как во 2-й Симфонии Белого, – то и эти приемы уже не носили авторского клейма Белого. В 1922 году, когда Набоков заканчивал последний семестр в Кембридже, все там уже носились с только что вышедшим «Улиссом» Джойса и на этой волне перечитывали «Дублинцев».
В рассказе 1923 года «Удар крыла» ведение мотивов сделано очень крепко, кто бы ни был для молодого автора образцом. Мотив удара, мотив полета, мотив крыла, мотив пуха, мотив ребер – все они по нескольку раз возникают в других контекстах перед тем, как собраться в пучок в финале.
В «Ударе крыла» используется известный эффект, когда каждая часть начинает, как у Гоголя в «Шинели», быть «исполненной необыкновенного движения». В «Мастерстве Гоголя» сам Белый потом опишет этот прием так: «Гоголь увеличивает энергию глагольного действия, подчеркивая или кинетику, или напрягая потенциал»[434]434
Андрей Белый. Мастерство Гоголя. Wilhelm Fink Verlag. Muenchen, 1969. Воспроизведен текст издания: М., 1934. С. 200.
[Закрыть], например вместо «пламя вырвалось», у него «пламя выхватилось». Вдохновляясь Гоголем, Андрей Белый массированно ввел этот прием в романе «Серебряный голубь» (1910): «колокольня кинула блики», «стрижи заерзали», «день обсыпал кусты», «стекленели стрекозиные крылья», «село раскидалось домишками». В «Петербурге» тот же прием: «Бронза поднялась со стола на длинной ноге», «Трюмо глотали… гостиную», «Инкрустации <…> разблистались»[435]435
Андрей Белый. Петербург. М.: Наука, 1981. Все примеры – с. 16.
[Закрыть]. Состоянию в этих случаях придается статус действия. У Белого такая склонность вещей функционировать в своем основном качестве с совершенно неожиданной интенсивностью как-то увязывается с общим ощущением мира, коварного и неконтролируемого. Но у его эпигонов этот прием превратился в обязательное качество, в тест на литературную грамотность. В «Ударе крыла» мы тоже сразу видим, что «белизна неслась в небо», «усмешка летала», «смех пел», «кружева ветвей стыли», «лыжа стекала», «небо зацветало», а «лестницы дышали»[436]436
Набоков В. Удар крыла // Набоков В. Русский период. Собрание сочинений: В 5 т. Т. 1. СПб.: Симпозиум, 1999. С. 35–37.
[Закрыть]. Можно даже сказать, что это уже не только влияние Андрея Белого, а и общая черта русской прозы этого года.
Общеизвестно, что «Удар крыла» – это вариация на тему собственного более раннего рассказа «Слово» (1922), где повествователю снится рай и толпа огромных, прекрасных ангелов: «И внезапно дорога, на которой я стоял, задыхаясь от блеска, наполнилась бурей крыл… Толпой вырастая из каких-то ослепительных провалов, шли жданные ангелы. Их поступь казалась воздушной, словно движенье цветных облаков» (с. 32 и сл.).
Рассказчик хочет поведать счастливым ангелам о несчастной своей стране, «погибающей в тяжких мороках» (множественное число тут также отсылает к Белому: в одном «Петербурге» слово «морок» встречается семнадцать раз, часто и во множественном числе – ср. «слухи реяли; и – мерещились мороки»[437]437
Андрей Белый. Петербург. М.: Наука, 1981. С. 349; ср. также «вмешалось – из сплетней и мороков» (с. 254), «массивы из бредов и чудовищных мороков» (с. 313), «мрачные мрежи из реющих мороков» (с. 334) и др.
[Закрыть]) и пытается остановить их и заставить себя выслушать, но тщетно:
«…Я стал хвататься <…> за волнистую, жаркую бахрому изогнутых перьев, скользящих сквозь пальцы мои, как пушистые цветы, я стонал, я метался, я в исступленье вымаливал подаянье, но ангелы шли вперед и вперед, не замечая меня, обратив ввысь точеные лики. Стремились их сонмы на райский праздник, в нестерпимо сияющий просвет, где клубилось и дышало Божество: о нем я не смел помыслить» (с. 33).
Но один из ангелов останавливается, выслушивает героя и произносит спасительное слово, которое герой забывает, просыпаясь.
Здесь главная идея – это легко опознаваемая мысль о спасительной теургической роли искусства, в свое время «генеральная линия» русского символизма, которую вырабатывал Андрей Белый в корпусе своих идеологических статей 1904–1908 годов в «Весах» и «Золотом руне», объединенных потом в циклы «Символизм» и «Арабески»; прежде всего тут надо вспомнить статью «Магия слова».
В «Ударе крыла» совсем другой мир и совсем другой взгляд на вещи. Прекрасные, огромные, разноцветные ангелы и «буря крыл» преобразились здесь в кипение «сплошного бурного меха», в «свистящий размах буйного меха» <…> в «пушистую бурю»: «Широким и шумным махом этот рыхлый мех скрыл ночное небо», «Бурая шерсть на крыльях дымилась, отливала инеем» (с. 49). Ангел пахнет мокрой шерстью. Есть и лик: «мелькнул белый лик», Керн «ударил белый лик, летевший на него». «Звериным запахом обдало его» (там же). Ангел опирается на ладони, как сфинкс. Ноги у него атрофированы. Вспомним, что в рассказе «Слово» героя выслушивает ангел, ноги которого похожи еще на человеческие, не успели атрофироваться. Но бурый ангел 1923 года уже не имеет слов – вместо речи у него лай, он чудовище, он злобен: мстит героине, убивая ее во время прыжка с трамплина в воздухе ударом крыла.
Если такое случилось с ангелом, что же с самим божеством? Вспомним в рассказе «Слово»: «нестерпимо сияющий просвет, где клубилось и дышало Божество» (с. 33), а в «Ударе крыла» об ангеле говорится: «словно заклубился широкий ветер» (с. 43). То есть ангел тайно отождествлен с Божеством, он его представитель.
Что же это за божество? Керн – это обокраденный Иов наших дней, у него нет родины, нет дома. Керн потрясен самоубийством жены и хочет покончить с собой. Ему возражает кроткий, рыжий, козловидный приятель героя Монфиори, любящий Библию и бильярд.
«А в Бога вы верите? – спросил Монфиори с видом человека, который попадает на своего конька. – Ведь Бог-то есть.
– Библейский Бог. Газообразное позвоночное…[438]438
На самом деле это цитата из книги «Мировые загадки» (1899) Эрнста Геккеля (1834–1919) – крупнейшего немецкого дарвиниста. Человечество вначале поклонялось антропоморфному Богу, затем пришло к выводу, что Бог есть «чистый» дух. Тем не менее для людей душевная деятельность этого чистого духа видится совершенно такой же, как и деятельность антропоморфного личного Бога: «В действительности, этот нематериальный дух мыслится не бесплотным, а только незримым, газообразным. Так приходим мы к парадоксальному представлению Бога как газообразного позвоночного животного». Геккель Э. Мировые загадки. Изд. тов. бр. А. и И. Гранат и Ко. М., 1906. С. 19.
[Закрыть] Не верю.
– Это из Хукслея, – вкрадчиво заметил Монфиори. – А был библейский. Бог… Дело в том, что Он не один; много их, библейских богов… Сонмище… Из них мой любимый… „От чихания его показывается свет; глаза у него, как ресницы зари“. Вы понимаете, понимаете, что это значит? А? И дальше: „…мясистые части тела его сплочены между собою твердо, не дрогнут“. Что? Что? Понимаете? <…> Он море претворяет в кипящую мазь; оставляет за собою светящуюся стезю; бездна кажется сединою!» (с. 47).
Монфиори цитирует описание Левиафана устами Всевышнего из Книги Иова[439]439
Ср. Ветхий завет, Книга Иова, 41: 5–17: «Кто может открыть верх одежды его, кто подойдет к двойным челюстям его? Кто может отворить двери лица его? Круг зубов его – ужас; крепкие щиты его – великолепие; они скреплены как бы твердою печатью; один к другому прикасается близко, так что и воздух не проходит между ними; один с другим лежат плотно, сцепились и не раздвигаются. От его чихания показывается свет; глаза у него, как ресницы зари; из пасти его выходят пламенники, выскакивают огненные искры; из ноздрей его выходит дым, как из кипящего горшка или котла. Дыхание его раскаляет угли, и из пасти его выходит пламя. На шее его обитает сила, и перед ним бежит ужас. Мясистые части тела его сплочены между собою твердо, не дрогнут». Ср. далее: «Он кипятит пучину, как котел, и море претворяет в кипящую мазь; оставляет за собою светящуюся стезю; бездна кажется сединою». Иов 41: 23–24.
[Закрыть]. При этом персонаж слишком буквально понимает Библию, утверждая, что Господь не един, их, богов, оказывается, много. Действительно, ветхозаветный Господь грамматически означен множественным числом – Элохим. Монфиори чересчур восторгается зоологическими достоинствами Левиафана, крепостью его сочленений и т. д. Его Господь берет числом, грубой силой. Если ангелов сонмы, то богов, по Монфиори, сонмища – слово, более подходящее бесам. Библейского бога Монфиори подменяет Левиафаном – символом не только космической мощи, но и всесильного государства. То есть перед нами отвратительная гностическая картина мира, в котором царит какая-то пакость, которую Монфиори облыжно выдает за библейского Бога. Теодицея Монфиори ненадежна, он сам – несомненный черт, со своими острыми ушами и козьими глазами. Он вообще искуситель: героя он спаивает и подталкивает к самоубийству. У Монфиори уши в рыжем пуху, у ангела крылья из бурого пуха. Что черт, что ангел – оба зоологичны, и черт толкует, что таков же и Бог. Понятно, что в таком мире задерживаться не хочется. Биографические привязки таких настроений самоочевидны.
Действие рассказа разыгрывается в горнолыжном Церматте, герой – лондонец, героиня – англичанка. Культурные ссылки в рассказе не русские, это Ветхозаветная книга Иова – а в Англии Библию читали все. Кроме того, в ложной ссылке на популярную остроту – это Хаксли-отец, великий биолог-эволюционист, который мог быть у Набокова в списке обязательного чтения в тот год учебы на двух факультетах в Кембридже.
И все же кажется, что что-то знакомое, беловское присутствует и в топике рассказа. Это мотив «провала». В экспозиции как бы вскользь говорится о «жизни в гостинице, одиноко горевшей в провале гор», но это место лишь предвещает главный провал, «черный провал», о котором боится думать герой Набокова, Керн, – это смерть его жены и манящее его самоубийство: «Сколько их было уже, шелковых тряпок этих, как он силился занавесить ими черный провал!..» (с. 39).
У Белого тема «провала» присутствует с самого начала, со стихов «Золота в лазури»: «Провалы, кручи, гроты» («Вечность»), «В провал слетели камни под ногою» («Возврат»), «Я в провалы зияющей ночи» («Успокоение»). Сравним у Блока знаменитое «над бездонным провалом в вечность»; «бездонный провал» – это точная цитата из «Страшной мести». В «Петербурге» Белый щедро использовал многозначный мотив провала: в романе двадцать четыре «провала» или «проваливания». Они могут быть и частью портрета: щетина, как иней, оттеняет в лице старика-отца героя «темные глазные провалы и провалы под скулами»[440]440
Андрей Белый. Петербург. М.: Наука, 1981. С. 333.
[Закрыть].
Как и у Белого, слово «провал» в главном своем значении варьируется у Набокова в портретных описаниях – например, ангела, у которого «на плечах под ключицами были теневые провалы» (с. 50), то есть то же слово используется в другом, невинно-оптическом смысле. Есть у «провалов» и акустический смысл: о танцующем герое у Набокова говорится: «Не дыша, входил он в звуковые провалы», то есть синкопы (с. 40). Эффект тут достигается двойной – и размывание смысла, и усиление самого повтора. Так что можно считать, что само это словоупотребление тащило за собою беловскую ауру – тем более в комплекте с метафизической гоголевско-символистской «бездной»: потому что в том же пассаже читаем: «А провала не скрыть, бездна дышит, всасывает». Любопытно, что и в рассказе «Слово» «провал» присутствует, и именно по отношению к ангелам, которые вырастают «из каких-то ослепительных провалов» (с. 32). Это слово настораживает, именно оно намекает, что ангелы – все, кроме одного, еще не полностью оторвавшегося от земли, – окажутся безразличны к земным катастрофам.
Есть еще одно отчетливо «беловское» уподобление в рассказе «Удар крыла»: «и словно пружина, звякнув, раскрутилась у него в мозгу: Парабеллум» (с. 45). У Белого в голове героя всегда «крутится» мозговая игра, и из нее проистекают разные нехорошие вещи – например, в «Петербурге»: «и крутились в сознании обитателей мозговые какие-то игры, как густые пары в герметически закупоренных котлах»[441]441
Андрей Белый. Петербург. С. 14.
[Закрыть]. Итак, реминисценции А. Белого в «Ударе крыла» присутствуют в разных видах: тут и отталкивание от символистской теургической темы, воспринятой в раннем рассказе «Слово», и приемы экспрессии, и отдельные памятные словоупотребления, как бы носящие его «марку».
А вот рассказ весны 1924 года «Пасхальный дождь» уже лишен той назойливой квазибеловской экспрессии, о которой говорилось выше. Зато он использует символический образ, введенный Белым еще в первой, Северной (Героической), симфонии и развитый во Второй (драматической). Это мотив черной старухи – она же птица печали.
Мы уже отмечали, что героиню рассказа, бывшую гувернантку Жозефину, сопровождают многочисленные указания на черноту. Перед нами нагнетание символического цветового мотива, связанного с отрицанием жизни, тревогой, печалью. Ее компаньонка тоже носит черное. Жозефина вкупе со своей компаньонкой выступают как члены некоей секты черных старух, печальных и обидчивых. Возможно, здесь аукнулись символические черные старухи из «Второй Симфонии (драматической)» Андрея Белого (1902), взывающие к состраданию: вначале какие-то две женщины в черном наблюдают из окна за одним из персонажей Поповским; затем к молодому философу приходит гостья – бедная родственница в черном, с морщинистым лицом: она потеряла сына, она никому не нужна, о ней все забывают, и ей некому рассказать о своей печали[442]442
Андрей Белый. Четыре симфонии. Muenchen: Wilhelm Fink Verlag, 1971. C. 150–151.
[Закрыть]. Она садится у зеркала, и вскоре в тексте появляются другие такие же:
«3. С противоположной стороны улицы открыли окно две бледные женщины в черном. 5. Обе были грустны, точно потеряли по сыну. Обе были похожи друг на друга. 6. Одна походила на зеркальное отражение другой»[443]443
Там же. С. 157.
[Закрыть].
То есть эти женщины в черном множатся в зеркалах! Далее во 2-й Симфонии такой же бледной женщиной в черном оказывается сама Вечность, которая у Белого тематизируется как печаль:
«2. Это была как бы строгая женщина в черном, спокойная <…> успокоенная. 4. <…> она клала каждому на сердце свое бледное, безмирное лицо. 5. Это была как бы большая птица. И имя ей было птица печали[444]444
Курсив А. Белого.
[Закрыть]. 6. Это была сама печаль»[445]445
Там же. С. 188.
[Закрыть].
Набоковская Жозефина со своими тревожными глазами и траурными бровями – тоже сама печаль; и она тоже в структуре рассказа с помощью символического эпизода привязана к птице, нелепой, толстой, старой, как и она сама, и тоже ищущей приют, вспомним: «громадный старый лебедь бил крылом, топорщился – и вот, неуклюжий, как гусь, тяжко перевалился через борт» (с. 79).
В 1936 году вышла французская новелла «Mademoiselle O» – вариация на тему юношеского рассказа. В этом и дальнейших воплощениях набоковской героини мотив птицы-печали только развивается, что усиливает шансы моего предположения. В «Других берегах» Мадемуазель издает возглас, звучащий «граем потерявшейся птицы» и вдобавок выражающий «бездну печали – одиночество, страх, бедность, болезнь и мольбу доставить ее в обетованный край, где ее, наконец, поймут и оценят…»[446]446
Набоков В. Русский период. Собрание сочинений в 5 т. Т. 5. СПб.: Симпозиум, 1900–2000. С. 202 и сл.
[Закрыть]. В довершение всего в этом эпизоде на ней еще и «шляпа с птицей». Эпизод с лебедем в поздней новелле, в отличие от «Пасхального дождя», кончается неудачей. Так что птица-печаль так и осталась лейтмотивом судьбы героини, значимость которого только резче прочерчивается в поздней версии.
Кстати, насчет птицы-печали и важности этого символического мотива для Набокова. Есть картина Виктора Васнецова «Песни радости и печали. Сирин и Алконост» (1896), на которой изображены две девы-птицы, слева черная, печальная, а справа розовая, веселая. Здесь Сирин грустит и плачет, а Алконост смеется. Но у Блока в стихотворении «Сирин и Алконост» наоборот: Сирин радостен, а Алконост горюет. Так что за этой набоковской фразой о птице-печали, может быть, стоит вот эта самая итоговая неоднозначность собственного псевдонима.
И наконец, надо упомянуть о других проявлениях цветового кода в рассказе о гувернантке в его первом, русском, воплощении. Мне кажется, что в использовании желтого цвета здесь сказался символизм цветов «по Белому». Знакомые Жозефины, которые не слишком добры к ней, – русские эмигранты Платоновы – даны в депрессивном желтом колорите: желтый табак мужа и желтый парик жены. Вспомним о негативной коннотации желтого цвета в «Петербурге» Белого. Тут и желтоватая муть, и желтоватые невские пространства, и желтые казенные дома и дом героя, и темно-желтый Липпанченко, и дудкинские четыре желтых стены, и желтые обои у них в квартирах, и монголы, которые мерещатся им на обоях, и желтая пята, и даже желтая пятка и желтый ноготь Аполлона Аполлоновича. Так и здесь, в «Пасхальном дожде», желтизна кодирует негатив. После холодного и насмешливого приема у Платоновых полубольная героиня простужается и заболевает пневмонией.
При том что используется художественный инструментарий Белого, Петербург снов набоковской героини – это все же совсем другой, чем у Белого, город – тут он цветной, просторный и праздничный. Несомненно, такая трактовка полемична по отношению к ужасной и губительной столице в описании А. Белого. Особенно чувствуется эта полемичность, когда речь заходит о Медном всаднике.
Хотя Всадник у Набокова ведет себя наподобие Всадника у Белого, то есть соскакивает с коня: «…и Царь Петр вдруг спрыгнул с медного коня, разом опустившего оба копыта» (ср.: «и где опустишь ты копыта?») – но ведет он себя вовсе не как страшный беловский Всадник: «…и подошел к Жозефине, с улыбкой на бурном, зеленом лице» (с. 80): лицо бурное, потому что в пушкинской «Полтаве» Петр (живой, не памятник) «весь как Божия гроза» – и зеленое, потому что в «Петербурге» оживший памятник сохраняет цвет патины: «фосфорически заблистали и литое лицо, и венец, зеленый от времени…»; «в медных впадинах глаз зеленели медные мысли»[447]447
Андрей Белый. Петербург. М.: Наука, 1981. С. 213, 215.
[Закрыть].
Однако Медный всадник в нашем раннем рассказе никого не губит безвозвратно – наоборот, он награждает героиню живительным троекратным пасхальным поцелуем, то есть ведет себя, как живой царь Петр в другом сочинении Пушкина:
Итак, Набоков в течение года-двух преодолевает зависимость от беловских и квазибеловских внешних приемов, однако берет на вооружение некоторые символические образы мэтра. При этом он резко не соглашается с ним в пластической подаче и эмоциональной оценке своего родного Петербурга.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.