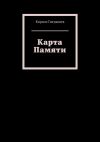Текст книги "Искусство памяти"
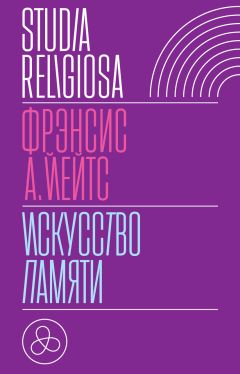
Автор книги: Фрэнсис Йейтс
Жанр: Религиоведение, Религия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 29 страниц)
Перкинс утверждает, что латынь Диксона темна, что здесь и не пахнет «романской ясностью»644644
Ibid., р. 17.
[Закрыть]. Что использование небесных знаков в памяти абсурдно645645
Ibid., р. 19.
[Закрыть]. Что все подобные бессмыслицы нужно напрочь отбросить, ибо дисциплинировать память может только логическое упорядочение, как учит Рамус646646
Ibid., р. 20.
[Закрыть]. Что душа Диксона слепа и в своем заблуждении ничего не знает об истине и благе647647
Ibid., р. 21.
[Закрыть]. Что все его образы и umbrae сущий вздор, а в логическом упорядочении мы находим естественную силу для запоминания.
Аргументы Перкинса полны реминисценций из Рамуса, он часто цитирует учителя дословно, указывая соответствующие места. «Открой свои уши, – кричит он Диксону, – и услышь слова Рамуса, говорящие против тебя, постигни безбрежный поток его гения»648648
Antidicsonus, р. 29.
[Закрыть]. Затем приводит отрывок из Scholae dialecticae о том, что логическое упорядочение имеет для памяти гораздо бóльшую ценность, чем искусство памяти, использующее места и образы649649
Ibid., pp. 29–30. Ср.: Ramus, Scholae in liberates artes, ed. of Bale, 1578 col. 773 (Scholae dialecticae, lib. XX).
[Закрыть], а также два пассажа из Scholae rhetoricae. Первый – обычное рамусовское провозглашение логического порядка основанием памяти650650
Ibid., р. 30. Ср.: Ramus, Scholae, ed. cit., col. 191 (Scholae rhetoricae, lib. I).
[Закрыть], во втором рамистская память сравнивается с классическим искусством не в пользу последнего:
Из всех искусств помощь памяти может оказать порядок и расположение вещей, устанавливающие в душе, что есть первое, что второе, что третье. Что же касается мест и образов, о которых болтают невежды, они совершенно недейственны и заслуженно осмеивались многими мастерами. Сколько образов потребуется, чтобы запомнить «Филиппики» Демосфена? Единственное учение о порядке – это диалектическое расположение; только здесь память может обрести помощь и опору651651
Ibid., loc. cit. Ср.: Ramus, Scholae, ed. cit., col. 214 (Scholae rhetoricae, lib. III).
[Закрыть].
За «Антидиксоном» следует Libellus in quo dilucide explicatur impia Dicsoni artificiosa memoria («Книжица, в которой ясно излагается нечестивая Диксонова искусная память»), где Перкинс проходится по правилам Ad Herennium, о которых говорит Диксон, в деталях противопоставляя им логическое расположение рамистов. Проводя это несколько скучноватое исследование, в одном месте Перкинс становится весьма интересным и даже неожиданно забавным. Он говорит об «одушевлении» Диксоном образов памяти. Диксон, конечно же, в своей темной бруновской манере рассказывает о классическом правиле, гласящем, что образы должны быть броскими, занятыми какой-либо деятельностью, необычными и способными эмоционально возбуждать память. Перкинс убежден, что использование подобных образов не только значительно ухудшает интеллектуальную способность к логическому упорядочению, но и морально предосудительно, поскольку эти образы направлены на пробуждение страстей. И здесь он вспоминает Петра Равеннского, в чьей книге об искусной памяти дается совет привлекать внимание молодых людей сладострастными образами652652
Antidicsonus, р. 45.
[Закрыть]. Нет сомнений, что это относится к замечанию Петра о том, как ему пригодилась его подруга, Джунипер из Пистойи: ее образ неизменно пробуждал его память, поскольку в молодости она была очень дорога ему653653
См. выше, с. 155.
[Закрыть]. Перкинс в пуританском ужасе открещивается от такого совета, который в действительности нацелен на пробуждение низменных аффектов ради стимуляции памяти. Такое искусство не для благочестивых людей, оно создано людьми нечестивыми и непорядочными, не уважающими божественный закон.
Здесь мы вплотную подошли к причине того, почему рамизм был столь популярен среди пуритан. Диалектический метод способствовал очищению эмоций. Запоминание стихов Овидия, опирающееся на логическое упорядочение, помогает стерилизовать возмущающие аффекты, вызванные Овидиевыми образами.
Следующая антидиксоновская работа Перкинса, опубликованная в том же 1584 году, – это Libellus de memoria verissimaqve bene recordandi scientia («Книжица о памяти и о самой истинной науке для лучшего припоминания»), где еще раз рассказывается о рамистской памяти со множеством примеров логического анализа стихотворных и прозаических произведений, посредством которого они должны запоминаться. В послании, предваряющем этот труд, Перкинс кратко обрисовывает историю классического искусства памяти, изобретенного Симонидом, окончательно оформленного Метродором и дополненного Туллием, а в менее отдаленные времена – Петраркой, Петром Равеннским, Бускием654654
H. Buschius, Aureum reminiscendi… opusculum, Cologne, 1501.
[Закрыть] и Росселием. Каков же итог всего этого? – спрашивает Перкинс. Ничего сколько-нибудь цельного или ученого, а скорее лишь «своего рода варварство и дунсианство»655655
Libellus de memoria, pp. 3–4 (посвящение Джону Вернеру).
[Закрыть]. Любопытно используемое здесь слово «дунсианство», заставляющее вспомнить прозвище «дунсы»: так крайние протестанты называли приверженцев старого католического порядка, и слово это возжигало костры из дунсовских рукописей во времена чистки реформаторами монастырских библиотек. По Перкинсу, от искусства памяти отдает средневековьем; толкователи этого искусства выражаются без «романской ясности»; оно – принадлежность древних времен варварства и дунсианства.
Следующие далее Admonitiuncula ad A. Dicsonum de Artificiosae Memoriae, quam publice profitetur, vanitate («Увещевания к А. Диксону о тщетности искусной памяти, открыто им преподносимой») идут тем же путем, что и Antidicsonus, но здесь больше внимания уделяется «астрономии», на которой Диксон основывает память и ложность которой доказывает Перкинс. Здесь содержится важное выступление против астрологии, которое заслуживает тщательного исследования. Перкинс предпринимает попытку с позиций рассудка подорвать «скепсийскую» искусную память критикой астрологических допущений, лежащих в ее основании. И все же впечатление рассудительности, которое Перкинс производит, когда говорит на эту тему, несколько затуманивается, как только мы обнаруживаем, что основным доводом против применения «астрономии» в памяти служит то, что она, эта «астрономия», есть «специальное» искусство, в то время как память, часть диалектики и риторики, является искусством «общим»656656
В Admonitiuncula, следующими за Libellus, страницы не пронумерованы. Данный отрывок взят нами из: Admonitiuncula, Sig. C 8 verso.
[Закрыть]. Здесь Перкинс слепо следует произвольно пересмотренной рамистами классификации искусств.
Ближе к концу «Увещеваний» вся их суть суммируется в пассаже, где Диксона умоляют сравнить свое искусство памяти с методом рамистов. С помощью метода всякий материал заносится в память в силу естественного порядка, твоя же искусная память, Диксон, создана гречишками искусственно. Метод использует истинные места: общему отводится высшее место, особенному – среднее, частному – низшее. А какого рода места в твоем искусстве, истинные они или придуманные? Если ты скажешь, что они истинные, ты солжешь; если же станешь утверждать, что придуманные, я не стану перечить тебе, ты и так покроешь свое искусство позором. В методе образы ясны, отчетливы и четко отделены друг от друга, не то что мимолетные тени твоего искусства. «Следовательно, пальма первенства отдается методу, взявшему верх над посрамленным и сломленным учением памяти»657657
Libellus; Admonitiuncula, Sig. E i.
[Закрыть]. В этом отрывке интерес представляет то, как метод выводится из классического искусства, но принципиально противопоставляется ему в центральном вопросе об образах. Используя терминологию классического искусства, Перкинс оборачивает ее против самого этого искусства и применяет ее к методу.
В Defensio pro Alexandro Dicsono («В защиту Александра Диксона») наибольшего внимания заслуживает псевдоним, под которым этот труд был опубликован: Хей Скепсий. Хей, возможно, происходит от девичьей фамилии матери Диксона – Хэй658658
Ср.: Durkan, article cited, р. 183.
[Закрыть]. А прозвище Скепсий, несомненно, ставит его под знамена Метродора Скепсийского – и Джордано Бруно, – использовавших в памяти зодиак.
Эта дискуссия в полной мере подтверждает мнение Онга, что метод рамизма изначально был методом запоминания. Перкинс всюду основывает свою позицию на предположении, что рамистский метод есть искусство памяти, с которым он, как это делал и сам Рамус, сравнивает классическое искусство (не в пользу последнего), чтобы теперь отвергнуть его и заменить. Перкинс подтверждает высказанную нами в предыдущей главе догадку, что бруновский тип искусной памяти в елизаветинской Англии выглядел бы как возвращение средневековья. Искусство Диксона напоминает Перкинсу прошлое, старые недобрые времена невежества и дунсианства.
Поскольку оппоненты относятся каждый к своему методу как к искусству памяти, борьба ведется в терминах этого искусства. Однако в этой битве за память явно просматриваются и иные импликации. Обе стороны почитают свое искусство как моральное, добродетельное и истинно религиозное, в то время как оппонент аморален, иррелигиозен и суетен. В мудром Египте и поверхностной Греции или, наоборот, в полном предрассудков и невежества Египте и в реформированной пуританской Греции существовали разные искусства памяти. Одно из них – «скепсийское» искусство, другое – рамистский метод.
Принадлежность псевдонима Г. П. устанавливается тем фактом, что в Prophetica («Пророчествах»), которые Уильям Перкинс в 1592 году опубликовал под своим настоящим именем, он нападает на классическое искусство памяти с тех же позиций, которые развивал и «Г. П.». Хауэлл определил Prophetica как первую написанную англичанином книгу, где рамистский метод используется в проповеднических целях; он также отмечает, что для запоминания проповедей Перкинс предписывает здесь рамистский метод, а не искусную память с ее местами и образами659659
W. S. Howell, Logic and Rhetoric in England, pp. 206–207.
[Закрыть]. Атака на искусную память осуществляется следующим образом:
Искусная память, составленная из мест и образов, будет учить тому, как удержать в памяти понятия легко и без усилий. Но одобрена она быть не может (по следующим причинам): 1. Одушевление образов, составляющее ключ к запоминанию, нечестиво, поскольку вызывает абсурдные мысли, оскорбительные, чудовищные и подобные тем, что стимулируют и разжигают низменные плотские аффекты. 2. Оно обременяет ум и память, поскольку ставит перед памятью три задачи вместо одной: во-первых, (нужно запоминать) места; затем образы; и наконец, предмет, о котором нужно будет говорить660660
W. Perkins, Prophetica sive de sacra et unica ratione concionandi tractatus, Cambridge, 1592, Sig. F XIII recto.
[Закрыть].
В этих словах Перкинса, пуританского проповедника, мы с точностью узнаем «Г. П.», писавшего памфлеты против нечестивой искусной памяти Диксона и порицавшего чувственные образы, рекомендованные Петром Равеннским. Круг времен превратил средневекового Туллия, так упорно трудившегося над созданием запоминающихся образов добродетелей и пороков, дабы предостеречь благоразумного человека от Ада и направить его к Раю, в похотливого и аморального писаку, навязчиво разжигающего плотские страсти своими телесными подобиями.
Среди других религиозных работ Перкинса есть «Предостережение от идолопоклонства недавних времен» – предостережение, внушаемое с самой настоятельной серьезностью, ведь «во многих умах жива еще память о папизме»661661
W. Perkins, Works, Cambridge, 1603, p. 811.
[Закрыть]. Люди хранят и скрывают в своих домах «идолов, сиречь образы, которыми оскверняли себя идолопоклонники»662662
Ibid., р. 830.
[Закрыть], и нужно тщательно проследить, чтобы все подобные идолы были изъяты, а все следы идолопоклонства прошлых веков уничтожены, где бы их ни обнаружили. Призывая к активному иконоборчеству, Перкинс предостерегает и от теории, лежащей в основе религиозных образов: «Язычники утверждали, что яркие образы суть элементы, или буквы, для познания Бога; так и паписты говорят, что образы – это книги для мирян. Мудрейшие из язычников использовали образы и обряды, чтобы вызывать ангелов и небесные силы и так достигать знания Бога. Так же поступают паписты с образами ангелов и святых»663663
W. Perkins, Works, р. 833.
[Закрыть]. Подобные вещи непозволительны, поскольку «не дано нам стяжать присутствия Господня, дел духа его и внемления его нам о том, чего сам он не стяжал… Бог ни единым словом не связал себя с присутствием своим в образах»664664
Ibid., р. 716.
[Закрыть].
Более того, запрет распространяется как на внутренние образы, так и на внешние: «Когда ум цепляется за какую-либо форму Бога (например, паписты представляют его стариком, сидящим на небесном троне со скипетром в руке), в уме возникает идол…»665665
Ibid., р. 841.
[Закрыть] Под запрет попадает всякая деятельность воображения: «Вещь, привнесенная в ум воображением, есть идол»666666
Ibid., р. 830.
[Закрыть].
Дискуссию Перкинса и Диксона нужно представлять себе на фоне разрушенных строений, разбитых, изуродованных образов – фоне, угрожающе разрастающемся по всей елизаветинской Англии. Мы должны воссоздавать старые ментальные структуры, где практика искусства памяти с незапамятных времен подразумевала использование старинных зданий и размещенных в них старых образов. Рамисту же надлежит уничтожать образы как внутренние, так и внешние, замещая старое идолопоклонническое искусство новым способом запоминания, обходящимся без образов и опирающимся на абстрактный диалектический порядок.
И если старая средневековая память была столь плоха, то как обстоит дело с ренессансной оккультной памятью? Оккультная память движется в направлении диаметрально противоположном памяти рамистов: первая всячески подчеркивает пользу того самого воображения, которое вторая запрещает, видя в нем магическую силу. Обеим сторонам их метод представляется единственно верным и религиозным, а оппонент видится нечестивым глупцом. Именно с такой напыщенной и страстной религиозностью диксоновский Тамус нападает на любящего поспорить Сократа, равняющего мудрецов с мальчишками, не умеющего постичь пути небес, не ищущего Бога по следам и umbrae. Как сказал Бруно, вынося окончательную оценку оппозиционному религиозному направлению, с которым столкнулся в Англии:
Таким образом, в Англии разыгралось сражение за память. Война велась в душах людей, и ставка была огромна. Это была не просто битва нового со старым. Обе стороны принадлежали новым временам. Рамизм был новым явлением. И память Бруно и Диксона была пропитана герметическими влияниями Ренессанса. Их искусства были более тесно связаны с прошлым, чем метод рамизма, поскольку в них использовались образы. И все же это было не средневековое, а ренессансное искусство.
Обсуждение столь важных вопросов никто не держал в секрете. Напротив, они очень широко публично освещались. Сенсационная дискуссия между Диксоном и Перкинсом была тесно связана с наделавшими еще больше шуму «Печатями» Бруно и его столкновением с Оксфордом. Бруно и Диксон, каждый со своей стороны, бросили вызов обоим университетам. Диспут Диксона с рамистским Кембриджем проходил параллельно диспуту Бруно с аристотелианским Оксфордом, состоявшемуся во время его визита в Оксфорд; результаты последнего отражены в диалоге Cena de le ceneri, опубликованном в 1584 году (год дискуссии Диксона–Перкинса). Хотя рамисты были и в Оксфорде, цитаделью рамизма являлся Кембридж. И оксфордские доктора, возражавшие против бруновского изложения магии Фичино в контексте коперниканского гелиоцентризма, не были рамистами, поскольку в сатире на них, содержащейся в Cena, они названы педантами-аристотеликами. Рамисты же были, конечно, антиаристотеликами. В другой своей работе я уже рассказывала о конфликте Бруно с Оксфордом и его отражении в Cena668668
G. B. and H. T., pp. 205–211, 235 ff.
[Закрыть]. Здесь моя цель – лишь привлечь внимание к тому, как спор Бруно с Оксфордом накладывается на одновренно идущую полемику его ученика с Кембриджем.
Посвящая французскому посланнику книгу De la causa, principio e uno («О причине, начале и Едином»), опубликованную все в том же беспокойном 1584 году, Бруно сообщает, какая великая суматоха поднялась вокруг него. Он подвергается стремительному потоку нападок; зависть невежд, домогательства софистов, злословие недоброжелателей, подозрения глупцов, усердие лицемеров, ненависть варваров, ярость толпы – вот лишь некоторые из напастей, которым ему приходится противостоять. Во всех этих потрясениях посланник был для него неприступной скалой, высящейся посреди океана, незыблемой под натиском бушующих волн. Посланник укрыл его от этой грозной бури, и в благодарность Бруно посвящает ему свой новый труд669669
Dialoghi italiani, ed. cit., pp. 176–177.
[Закрыть].
Первый диалог De la causa хотя и открывается явлением Солнца новой философии Ноланца, полон намеков на недавние потрясения. Элиотропио (чье имя заставляет вспомнить о гелиотропе – цветке, поворачивающемся вслед за солнцем) и Армессо (возможно, измененное имя Гермес)670670
Как отмечает Д. Зингер, Bruno, p. 39, note.
[Закрыть] рассказывают Филотео, философу (сам Бруно), что Cena de le ceneri вызвала множество враждебных кривотолков. Армессо надеется, что новая книга «не станет предметом комедий, трагедий, жалоб, бесплодных пререканий, чего нельзя сказать о той, что появилась немного раньше и заставила тебя оставаться в домашнем уединении»671671
Dialoghi italiani, ed. cit., р. 194.
[Закрыть]. Его упрекают, что он слишком много берет на себя не в своей стране. На это философ отвечает, что ошибкой было бы убивать иностранного врача за то, что он применяет лекарство, неизвестное местным жителям672672
Ibid., р. 201.
[Закрыть]. На вопрос, что же дает ему уверенность в собственных силах, он говорит о божественном вдохновении, которое ощущает в себе. «Немногие, – замечает Армессо, – способны понять, что ты делаешь»673673
Ibid., loc. cit.
[Закрыть]. Говорят, что диалогами в Cena он нанес оскорбление всей стране. Армессо считает, что многое в его критике справедливо, хотя и огорчен выпадом против Оксфорда. После чего Ноланец отрекается от своей критики оксфордских докторов, что выражается в восхвалении монахов средневекового Оксфорда, к которым современные люди чувствуют неприязнь674674
Ibid., pp. 209–210; ср.: G. B. and H. T., p. 210.
[Закрыть]. Таким образом, в диалоге, который, возможно, немного разрядил напряженную ситуацию, содержится и много провокационных выпадов.
Армессо выражает надежду, что персонажи новых диалогов не вызовут столько волнений, сколько вызвали герои Cena de le ceneri. Он слышал, что одним из их участников будет «тот самый Александр Диксон, умный, честный, обходительный, благородный и преданный друг, которого Ноланец сердечно любит»675675
Ibid., р. 214.
[Закрыть]. И в самом деле, «Диксоно» – один из важнейших участников De la causa, где, таким образом, речь идет не только о нападках Бруно на Оксфорд и вызванных ими волнениях (в первом диалоге), но (в четырех последующих) упоминается и одновременно развертывавшаяся полемика между Диксоном и рамистом из Кембриджа, а «Диксоно» представлен как центральный их участник и верный последователь Бруно.
Участие Диксона в диалоге дает повод для ремарки (сделанной не им самим, а одним из его собеседников) насчет «архипеданта из Франции». В роли старого французского педанта выступает, конечно же, Рамус, что тут же и выясняется совершенно однозначно, поскольку его называют автором Scole sopra le arte liberali и Animadversioni contra Aristotele676676
Dialoghi italiani, р. 260.
[Закрыть], а это итальянские версии названий двух наиболее известных работ Рамуса, которые Перкинс часто цитирует, громя «нечестивую искусную память» Диксона.
Последние четыре диалога De la causa в общем уже не полемичны, здесь еще раз излагается философия Ноланца с ее утверждениями о том, что божественную субстанцию можно воспринять по ее следам и теням в материальном мире677677
Ibid., pp. 227–228.
[Закрыть], что мир одушевляется мировой душой678678
Ibid., р. 232.
[Закрыть], что мировой дух можно уловить магическими процедурами679679
Ibid., pp. 242 ff.
[Закрыть], что материя, подлежащая всем формам, божественна и неуничтожима680680
Ibid., pp. 272–274.
[Закрыть], что Трисмегист и другие теологи681681
Ibid., р. 279.
[Закрыть] человеческий ум называют богом, что универсум – это тень, сквозь которую можно узреть божественное Солнце, что глубинная магия способна раскрыть секреты природы682682
Ibid., р. 340.
[Закрыть] и что Все есть Одно683683
Ibid., pp. 342 ff.
[Закрыть].
Против такой философии выступает педант Полииннио, однако Диксоно каждый раз поддерживает своего учителя, верно поставленными вопросами обнаруживая его мудрость, и пылко выражает согласие со всем, что тот говорит.
Таким образом, в накаленной атмосфере 1584 года Бруно сам объявляет Александра Диксона своим учеником. Возбужденной елизаветинской публике напомнили, что Ноланец и Диксон действуют заодно, а De umbra rationis не что иное, как отголосок все того же таинственного «скепсийского» искусства памяти, какое можно найти в «Тенях» и «Печатях» Бруно, и составляет единое целое с герметической философией Ноланца.
Поскольку искусство памяти стало взрывоопасной темой, Томасу Уотсону, поэту, члену кружка Сидни, потребовалась известная доля отваги, чтобы в 1585 году (а возможно, и несколько ранее) решиться опубликовать свой Compendium memoriae localis («Компендий локальной памяти»). В этой работе о классическом искусстве прямо говорится как о рациональной мнемотехнике, даются правила и примеры их применения. Во вступлении Уотсон из осторожности отмежевывается от Бруно и Диксона.
Я очень боюсь, что мой пустячный труд (nugae meae) будут сравнивать с таинственными и глубоко учеными Sigilli Ноланца или с Umbra artificiosa Диксона, ведь это может принести больше скандальной славы автору, нежели пользы читателю684684
Thomas Watson, Compendium memoriae localis; на титуле не указаны ни место, ни дата издания. В S. T. C. высказывается предположение, что эта работа опубликована в 1585 году Вотрольером.
[Закрыть].
Книга Уотсона показывает, что классическое искусство памяти все еще было популярно среди поэтов и что открыто заговорить о «локальной памяти» в то время было равносильно выступлению против пуританского рамизма. Как показывает его предисловие, он также ясно сознавал, что за искусством памяти Бруно и Диксона таятся иные материи.
Какое место среди всех этих дискуссий занимал лидер елизаветинского поэтического Ренессанса, Филип Сидни? Ведь он, как хорошо известно, был на короткой ноге с рамизмом. Сэр Уильям Тэмпл, выдающийся представитель кембриджской школы, был его другом, и все в том же роковом 1584 году, когда «скепсийцы» дрались за память с рамистами, Тэмпл посвятил Сидни свое издание Dialecticae libri duo («Двух книг о диалектике») Рамуса685685
Ср.: Howell, Logic, pp. 204 ff.
[Закрыть].
Весьма любопытная проблема возникла в связи с интересной информацией, которую раскопал и изложил в своей статье об Александре Диксоне Деркен. Разыскивая дипломатические документы, в которых упоминалось бы о Диксоне, Деркен нашел ее в письме английского представителя при шотландском дворе Боуэса лорду Берли, датированном 1592 годом:
Примечательно, что корреспондент лорда Берли знает, как лучше напомнить государственным мужам (от которых ничто не ускользало), кто такой Диксон: знаток искусства памяти, когда-то служивший Филипу Сидни. Когда Диксон мог состоять в услужении у Сидни? Вероятнее всего, около 1584 года, когда он сам заявил о себе как знаток искусства памяти, последователь мастера этого искусства, Джордано Бруно.
Это прежде неизвестное обстоятельство ставит Сидни несколько ближе к Бруно. Если у него на службе состоял ученик Бруно, то он не мог одновременно испытывать неприязнь к учителю. Здесь мы начинаем понимать, что Бруно имел некоторые основания посвятить Сидни (в 1585 году) Eroici furori и Spaccio della bestia trionfante.
Однако как же Сидни удавалось удерживать равновесие между двумя столь противонаправленными течениями, как рамизм и бруно-диксоновская школа мышления? Вероятно, и те и другие стремились завоевать его расположение. Возможно, такое предположение в какой-то мере подтверждается замечанием, которое делает Перкинс, посвящая свой Antidicsonus Томасу Маффету, члену кружка Сидни. Перкинс выражает надежду, что Маффет окажет ему поддержку в его стремлении противостоять влиянию «скепсийцев» и «Диксоновой школы»687687
Commentationes autem meas his de rebus lucubrates, tuo inprimis nomine armatas apparer volui: quod ita sis ab omni laude illustris, ut Scepsianos impetus totamque Dicsoni scholam efferuescentem in me atque erumpentem facile repellas («И хочу, чтобы мои размышления об этом при свете свечи явились вооруженные прежде всего твоим именем: ибо тем ты заслужил бы всеобщую похвалу, поскольку это ты с такой легкостью рассеял бы усердия скепсийцев и сумел бы противостоять всей этой Диксоновой школе, пробуждающей во мне рвущееся наружу негодование»). Antidicsonus, Letter to Thomas Moufet, Sig. A 3 recto.
[Закрыть].
Сидни, который был учеником Джона Ди и допустил Александра Диксона к себе на службу, Сидни, которому Бруно был готов посвящать свои труды, не совсем похож на Сидни – пуританина и рамиста, хотя он, конечно же, нашел какой-то способ примирить эти противоположные течения. Ни один строгий рамист не написал бы «Защиту поэзии», этот манифест английского Ренессанса, охраняющий воображение от пуритан. Ни один строгий рамист не смог бы написать и такой «Сонет к Стелле»:
Though dusty wits dare scorn astrology,
And fools can think those lamps of purest light
Whose numbers, ways, greatness, eternity,
Promising wonders, wonder do invite
To have for no cause birthright in the sky
But for to spangle the black weeds of Night;
Or for some brawl, which in that chamber hie,
They should still dance to please the gazer’s sight.
For me, I do Nature unidle know,
And know great causes great effects procure;
And know those bodies high reign on the low.
And if these rules did fail, proof makes me sure,
Who oft fore-see my after following race,
By only those two eyes in Stella’s face.
(Над астрологией пусть тщится пыльный ум,
И пусть глупец узрит в чистейшем свете,
Что тайну кличет потаенных дум
Числом, величьем вечности отметин,
Лишь тьме помеху, пасынков небес,
Одеждам ночи давших блесток прядь
И длящих хор нестройный лишь для тех,
Кому не лень их пляску наблюдать.
С природою знаком я по родству,
Мне действий и причин известно порожденье,
У врат высоких звезд круг стал не вдруг.
Когда ж неблагосклонно их движенье,
Кто свет мне на пути дарил не раз? –
То блеск лучистый Стеллы темных глаз.)
Поэт, полный религиозного чувства, следует пути небес, подобно Тамусу, египетскому царю из диксоновского диалога; он разыскивает следы божественного в природе, как Бруно в Eroici furori. И если отношение к старому искусству памяти с его местами и образами может играть роль пробного камня, то Сидни упоминает о нем без всякой враждебности. Объясняя в «Защите поэзии», почему поэзия запоминается легче, чем проза, он говорит:
…те, кто обучает искусству памяти, указывают, что нет для него ничего лучше хорошо знакомой комнаты, поделенной на множество мест; так и в прекрасном стихотворении каждое слово занимает свое естественное положение, каковое и помогает хорошо запомнить это слово688688
Sir Philip Sidney, An Apologie for Poetrie, ed. E. S. Shuckburgh, Cambridge University Press, 1905, p. 36.
[Закрыть].
Столь любопытная интерпретация локальной памяти показывает, что Сидни запоминал стихи не по рамистскому методу.
Ноланец покинул те берега в 1586 году, но его ученик продолжил преподавать искусство памяти. Этой информацией я обязана «Алмазному Дворцу Искусства и Природы» Хью Платта, опубликованному в 1592 году в Лондоне. Платт сообщает, что «шотландец Диксон последние годы преподавал в Англии искусство памяти, о котором написал темный и насыщенный фигурами трактат»689689
Platt, Jewell House, p. 81.
[Закрыть]. Платт брал у Диксона уроки, где научился запоминать места группами по десять, размещая в них образы, которым нужно придавать побольше живости и яркости, то есть, «как выражался Мастер Диксон, одушевлять umbras (sic!) или ideas rerum memorandum» («тени или идеи запоминаемых вещей»)690690
Ibid., р. 82.
[Закрыть]. Один из примеров такой одушевленой umbra – «Беллона с широко открытыми горящими глазами, изображенная так, как ее обычно и описывают поэты»691691
Ibid., р. 83.
[Закрыть]. Платт находит, что метод дал определенный результат, но вряд ли оправдал надежды, возлагавшиеся учителем на это «великое и цветущее искусство». По-видимому, его обучали только мнемотехнике в ее простейшей форме, а он, не зная, что это классическое искусство, называл его «искусством Мастера Диксона». Иными словами, Платт не был посвящен Диксоном в герметические таинства.
«Темный и насыщенный фигурами» трактат Диксона о памяти, где Гермес Трисмегист цитирует собственные книги, пользовался, видимо, широкой известностью. В 1597 году, под названием «Тамус», он был перепечатан лейденским книгоиздателем Томасом Бассоном; в том же году Бассон переиздал Defensio «Хэя Скепсия»692692
См.: J. van Dorsten, Thomas Basson 1555–1613, Leiden, 1961, p. 79.
[Закрыть]. Мне неизвестно, что побудило Бассона переиздать эти работы. Он любил тайны, и есть основания полагать, что состоял в тайной секте, «Семье любви»693693
Ibid., р. 65.
[Закрыть]. Ему покровительствовал дядя Сидни, граф Лестерский694694
Ibid., р. 16.
[Закрыть], которому посвящено первое издание «темного и насыщенного фигурами» трактата. Генри Перси, девятый граф Нортумберлендский, имел собственную копию «Тамуса»695695
Каталог манускриптов в замке Алнвик, в библиотеке девятого графа Нортумберлендского.
[Закрыть]; в Польше это сочинение тоже связывали с трудами Бруно696696
См.: A. Nowicki, Early Editions of Giordano Bruno in Poland, The Book Collector, XIII (1964), p. 343.
[Закрыть]. Одним из любопытных моментов в судьбе этой странной книги является то, что о ней с похвалой отзывается иезуит Мартин дель Рио в своем трактате против магии, изданном в 1600 году: «В опубликованном в Лейдене, не лишенном остроты и проницательности «Тамусе» Александр Диксон под псевдонимом Хей Скепсий защищается от нападок ученого мужа из Кембриджа»697697
Martin del Rio, Disquisitionum Magicarum, Libri Sex, Louvain, 1599–1600, ed. 1679, p. 230.
[Закрыть]. Почему египетское «внутреннее письмо» искусства памяти, о котором говорит Диксон, удостоилось одобрения иезуита, тогда как учитель, от кого Диксон перенял это искусство, был сожжен на костре?
В обстановке венецианского Ренессанса Джулио Камилло возвел свой Театр Памяти на виду у всех, хотя тот и являл собой герметическую тайну. В специфических обстоятельствах английского Ренессанса герметическая форма искусства памяти, по-видимому, уже не демонстрируется столь явно; искусство начинает ассоциироваться либо с теми, кто втуне симпатизирует католицизму, либо с уже существующими тайными религиозными группами, или же с нарождающимся розенкрейцерством и франкмасонством. Египетский царь и его «скепсийский» метод, противопоставляемый методу грека Сократа, могли бы дать нам ключ, благодаря которому многие тайны Елизаветинской эпохи приобрели бы более определенное историческое значение.
Мы видели, что дискуссия в рамках искусства памяти велась вокруг воображения. Люди той эпохи оказались перед дилеммой: либо внутренние образы должны быть полностью вытеснены методом рамистов, либо их нужно с помощью магии превратить в единственное средство постижения реальности. Либо телесные подобия, придуманные средневековым благочестием, должны быть разрушены, либо их нужно как-то связать с величественными фигурами, созданными Зевксисом и Фидием, ренессансными художниками воображения. Быть может, именно острота и безотлагательная необходимость разрешения этого конфликта ускорили появление Шекспира?