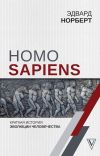Текст книги "Почему властвует Запад… по крайней мере, пока еще. Закономерности истории, и что они сообщают нам о будущем"

Автор книги: Иэн Моррис
Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 67 страниц) [доступный отрывок для чтения: 22 страниц]
Как нам во всем этом разобраться? Несомненно, Восток и Запад отличались друг от друга – начиная с пищи, которую люди ели, и кончая богами, которым они поклонялись. Никто не спутает Цзяху с Иерихоном. Но были ли эти культурные контрасты настолько сильно выраженными, чтобы объяснить, почему Запад властвует? Или же эти культурные традиции были попросту разными способами делать одно и то же?
В табл. 2.1 в обобщенном виде представлены вышеописанные факты. Полагаю, что при этом можно выделить три момента. Во-первых, если культура, созданная на территории Холмистых склонов 10 тысяч лет назад, из которой потом произошли последующие общества Запада, действительно имела больший потенциал для социального развития, нежели культура, созданная на Востоке, то можно было бы ожидать увидеть некоторые резкие различия между двумя сторонами табл. 2.1. Но мы этого не видим. Фактически и на Востоке, и на Западе происходило приблизительно одно и то же. В обоих регионах видно одомашнивание собак, культивирование растений и одомашнивание крупных (под которыми я подразумеваю весящих более 100 фунтов [45 кг]) животных. В обоих регионах видно постепенное развитие «полного» сельского хозяйства (под которым я подразумеваю высокопродуктивные, трудоемкие системы с полностью одомашненными растениями и иерархией на основе богатства и пола), образование больших деревень (под которыми я подразумеваю деревни с численностью жителей более ста человек), а еще через два или три тысячелетия появление городов (под которыми я подразумеваю поселения численностью более тысячи человек). В обоих регионах их обитатели сооружали сложные и тщательно сделанные здания и фортификации, экспериментировали с зачатками письма, рисовали красивые рисунки на сосудах, пышно украшали могилы, демонстрировали повышенное внимание и интерес к предкам, приносили в жертву людей и постепенно распространяли сельскохозяйственный образ жизни (поначалу медленно, но спустя примерно два тысячелетия все быстрее, а в конце концов «затопили» даже самые благоденствовавшие общества собирателей).
Во-вторых, и на Востоке, и на Западе не только происходили сходные события, но они также происходили в более или менее одном и том же порядке. Я проиллюстрировал это в табл. 2.1 линиями, соединяющими параллельные формы развития в каждом регионе. Большинство из этих линий имели приблизительно один и тот же наклон, и при этом то или иное развитие впервые начиналось на Западе, а затем повторялось на Востоке через примерно две тысячи лет[96]96
Средняя разница составляла чуть менее 1700 лет; медианная – 2250 лет.
[Закрыть]. Это позволяет твердо предположить, что у развития и на Востоке, и на Западе была одна и та же культурная логика. Одни и те же причины имели одни и те же последствия на обоих концах Евразии. Единственным реальным различием является то, что данный процесс на Западе начался на две тысячи лет раньше.

Таблица 2.1. Сравнение начальных этапов развития Востока и Запада
В-третьих, на самом деле ни одно из моих двух первых замечаний не является полностью истинным. Из этих правил есть исключения. Грубые гончарные изделия появились на Востоке по крайней мере на семь тысяч лет раньше, нежели на Западе, а богатые могилы – на тысячу лет раньше. С другой стороны, жители Запада строили монументальные святилища более чем на шесть тысячелетий раньше, нежели обитатели Востока. Любой, кто убежден, что из-за этих различий Восток и Запад направились по различным культурным траекториям, – что и объясняет, почему Запад властвует, – должен показать, почему гончарные изделия, могилы и святилища имеют столь большое значение. В то же время и любой (например, я сам), кто убежден, что они не имели реального значения, должен объяснить, почему возникли такие отклонения от общих закономерностей.
Археологи по большей части согласны по поводу того, почему гончарные изделия появились на Востоке настолько рано: ибо доступные там пищевые продукты были таковы, что очень важной становилась варка еды. Людям Востока нужны были емкости, которые можно было бы поставить на огонь, и, вследствие этого, они очень рано овладели гончарным делом. Если это верно, то вместо того, чтобы сосредотачивать внимание на гончарном деле самом по себе, нам, возможно, следует задать другой вопрос: а не предопределили ли различия в приготовлении пищи различные траектории развития Востока и Запада? Возможно, к примеру, что приготовление пищи по-западному обеспечивало больше питательных веществ, благодаря чему люди становились более сильными. Впрочем, это не слишком убедительно. Исследования скелетов дают довольно удручающую картину жизни в обоих первичных сельскохозяйственных центрах: и на Востоке, и на Западе она была, перефразируя английского философа XVII века Томаса Гоббса, бедной, скверной и короткой (хотя и не обязательно жестокой). В равной степени и на Востоке, и на Западе ранние земледельцы и скотоводы плохо питались и были малорослыми, влачили тяжкое бремя паразитов, имели плохие зубы и умирали молодыми. В обоих регионах усовершенствования в сельском хозяйстве постепенно приводили к улучшению диеты. И в обоих регионах в конце концов появились более изысканные кушанья для элиты. Зависимость от варки еды на Востоке была лишь одним из многих различий в приготовлении пищи. Однако в целом черты сходства питания на Востоке и на Западе намного перевешивали эти различия.
Может быть также, что различные способы приготовления пищи привели к различным манерам питания и к разным структурам семьи, что имело долговременные последствия. Впрочем, опять-таки далеко не очевидно, что так происходило на самом деле. И на Востоке, и на Западе самые ранние земледельцы и скотоводы, по-видимому, хранили, приготовляли и, может быть, ели пищу всей общиной, и только спустя несколько тысяч лет стали делать это на уровне семьи. Опять же, и здесь черты сходства на Востоке и Западе перевешивают различия. Раннее изобретение на Востоке гончарного дела, конечно, является интересной отличительной особенностью. Однако оно не кажется особенно уместным для объяснения того, почему Запад властвует.
А как же насчет рано возникшей значимости замысловатых и тщательно устроенных захоронений на Востоке и еще более рано возникшей значимости замысловатых и тщательно устроенных святилищ на Западе? Я подозреваю, что в обоих случаях развитие было всего лишь зеркальным отражением. И то и другое, как мы видели, было тесно связано с возникавшей «одержимостью» предками во времена, когда сельское хозяйство сделало наследование от умерших самым важным фактом экономической жизни. По причинам, которые мы, вероятно, никогда не поймем, жители Запада и жители Востока пришли к различным способам выражения своей благодарности предкам и установления контакта с ними. Некоторые жители Запада, по-видимому, считали, что для этого следует передавать черепа своих родственников последующим поколениям, наполнять здания головами быков и столбами, а также приносить в этих зданиях в жертву людей. Люди Востока обычно полагали, что лучше хоронить вместе со своими родственниками животных, вырезанных из нефрита, почитать их могилы и, наконец, обезглавливать других людей и также бросать их в ту же могилу. Словом, разные приемы для разных людей; однако результаты схожи.
Я полагаю, что на основе табл. 2.1 мы можем сделать два вывода. Во-первых, первые этапы развития в западном и восточном первичных центрах были по большей части довольно похожими. Я не хочу замалчивать очень даже реальные различия во всем – начиная от стилей каменных орудий и вплоть до того, какие растения и каких животных люди ели. Однако ни одно из этих различий не работает существенным образом в поддержку теории «давней предопределенности», которую мы обсуждали: что некие особенности пути, по которому культура Запада развивалась после ледниковой эпохи, обеспечили ей больший потенциал, нежели культуре Востока, и что они объясняют, почему Запад властвует. Это, по-видимому, неверно.
Если какая-то теория «давней предопределенности» и может уцелеть после столкновения с фактами, приведенными в табл. 2.1, то только наипростейшая из всех: что благодаря географии Запад имел две тысячи лет форы, сохраняя это первенство достаточно долгое время, чтобы первым перейти к индустриализации, и поэтому он доминирует в мире. Чтобы проверить эту теорию, нам необходимо распространить дальше наше сравнение Востока и Запада на более поздние периоды и посмотреть, так ли это было в действительности.
Это звучит достаточно просто. Однако второй урок, который можно извлечь из табл. 2.1, состоит в том, что межкультурное сравнение – дело хитрое. Простое перечисление важнейших этапов развития в виде двух колонок было лишь началом, поскольку осмысление аномалий, имеющихся в табл. 2.1, потребовало от нас рассматривать варку и выпечку хлеба, черепа и могилы не сами по себе, а в общей связке, чтобы выяснить, что же они означали в доисторических обществах. И это погружает нас в одну из центральных проблем антропологии – сравнительное изучение обществ.
Когда европейские миссионеры и администраторы XIX века начали собирать информацию о людях в своих колониальных империях, то их отчеты о чуждых и странных обычаях поражали академических ученых. Антропологи составляли каталоги таких видов деятельности, строили догадки об их распространении по земному шару и о том, что они могли бы рассказать нам об эволюции более цивилизованного (под которым они понимали более похожее на европейское) поведения. Они отправляли желающих студентов-выпускников в экзотические края, чтобы те собирали дополнительный материал. Одним из таких одаренных молодых людей был поляк, учившийся в Лондоне, – Бронислав Малиновский, который в 1914 году, когда разразилась Первая мировая война, оказался на островах Тробриан. Не сумев добыть лодку, чтобы отправиться на ней домой, Малиновский сделал единственно разумную вещь: после непродолжительной хандры в своей палатке он нашел себе подругу. Вследствие этого к 1918 году он постиг культуру островов Тробриан изнутри. Он уяснил то, что упускали из вида его профессора в своих книжных исследованиях: антропология на самом деле – это наука, объясняющая, каким образом обычаи согласуются друг с другом. Сравнения должны проводиться между полностью функционирующими культурами, а не между отдельными практиками, вырванными из контекста, поскольку одно и то же поведение может иметь разный смысл в разных контекстах. Например, татуировка на вашем лице может сделать из вас бунтаря в Канзасе, но в Новой Гвинее она помечает вас как конформиста. Равным образом, одна и та же идея может принимать разные формы в разных культурах, – подобно тому как и черепа, передаваемые по наследству на доисторическом Западе, и захоронение предметов из нефрита на доисторическом Востоке выражали почтение к предкам.
Малиновский, скорее всего, резко отрицательно отнесся бы к табл. 2.1. Мы не можем, настаивал бы он, выхватывать набор обычаев из двух функционирующих культур и выносить суждение, какая из них была лучше. И мы, несомненно, не можем писать книги, в которых есть главы, озаглавленные наподобие: «Запад вырывается вперед». Что, спросил бы он, мы подразумеваем под словами «вырывается вперед»? Каким образом мы обосновываем выплетание отдельных практик из целостной паутины жизни и каким образом мы измеряем их относительно друг друга? И даже если мы сможем выплести таким образом реальность, то как нам узнать, какие части из нее следует измерить?
Все это хорошие вопросы, и нам нужно ответить на них, если нам требуется объяснить, почему Запад властвует, – даже притом, что поиски этих ответов на протяжении последних пятидесяти лет разрывают антропологию на части. И теперь я с некоторым трепетом брошусь в эти неспокойные воды.
3
Измерение прошлого
Эволюционирующая археологияСоциальная эволюция была все еще довольно новой идеей, когда специалисты по культурной антропологии взбунтовались против нее, о чем упоминалось в конце главы 2. Современное миропонимание своими корнями уходит всего лишь в 1857 год, когда Герберт Спенсер, получивший домашнее образование английский эрудит, опубликовал эссе под названием «Прогресс, его закон и причина». Спенсер был странным человеком. К тому времени он уже пробовал свои силы в качестве железнодорожного инженера и помощника редактора в тогда еще новом журнале The Economis, и был романтическим партнером романистки Джордж Элиот (однако ничто из перечисленного не подошло ему. Он никогда не имел постоянной работы и никогда не был женат). Однако его эссе сразу же стало сенсацией. В нем Спенсер объяснял, что «начиная от первых сколько-нибудь заметных изменений и до последних результатов цивилизации мы находим, что превращение однородного в разнородное есть именно то явление, в котором заключается сущность прогресса»[97]97
Spencer, 1857, p. 465.
[Закрыть]. Эволюция, настаивал Спенсер, – это процесс, посредством которого вещи начинаются как простые и становятся более сложными, и это объясняет все обо всем.
«Переход от простого к сложному посредством последовательной дифференциации наблюдается в изменениях на самых ранних стадиях существования Вселенной (о которых мы можем помыслить, а также в самых ранних изменениях, которые мы можем установить индуктивно). Этот переход наблюдается в геологической и климатической эволюции Земли, в каждом организме, обитающем на ее поверхности; он наблюдается в эволюции человечества, независимо от того, представляется ли оно цивилизованным индивидом или собранием рас и народов; он наблюдается в эволюции общества, в частности его политической, религиозной и экономической организации; он наблюдается в эволюции бесконечного многообразия конкретных и абстрактных продуктов человеческой деятельности, которые составляют среду нашей повседневной жизни».
Следующие сорок лет Спенсер провел, увязывая между собой в русле единой эволюционной теории геологию, биологию, психологию, социологию, политику и этику. Он преуспел настолько, что 1870 году был, вероятно, самым влиятельным философом, пишущим на английском языке. Так что когда японские и китайские интеллектуалы решили, что им нужно понять достижения Запада, то он был первым автором, которого они перевели. Великие умы той эпохи преклонялись перед его идеями. В первом издании «Происхождения видов» Чарльза Дарвина, опубликованном в 1859 году, не было слова «эволюция». Не было его также и во втором, и в третьем, и даже в четвертом и пятом изданиях. Но в шестом, опубликованном в 1872 году, Дарвин почувствовал необходимость позаимствовать термин, который к тому времени благодаря Спенсеру стал популярным[98]98
Иными словами, представление об эволюции у Дарвина значительно отличалось от такового у Спенсера. Спенсер верил, что понятие эволюции приложимо ко всему и что эволюция является прогрессивной и приведет к улучшению Вселенной. Дарвин же ограничивал эволюцию только биологией и определял ее как «происхождение путем модификаций». И поскольку источником модификаций являются случайные генетические мутации, модификации лишены направленности. Иногда они порождают сложность из простоты, а иногда и нет.
[Закрыть].
Спенсер верил, что общества в ходе эволюции проходят через четыре уровня дифференциации, от простых (бродячие группы без вожаков) через сложные (постоянные деревни с политическими вождями) и двойной сложности (группы, в которых есть церковь, государство, сложное разделение труда и ученость) к обществам тройной сложности (великие цивилизации, вроде Рима и викторианской Британии). Эта схема прижилась, хотя не было двух теоретиков, вполне согласных с тем, как следует именовать эти этапы. Некоторые из них говорили об эволюции от дикости через варварство к цивилизации; другие предпочитали эволюцию от магии через религию к науке. К 1906 году этот «лес терминологий» вызывал уже такое раздражение, что отец-основатель социологии Макс Вебер жаловался на «тщеславие современных авторов, которые ведут себя в отношении терминологии, используемой еще кем-нибудь, как если бы она являлась их зубной щеткой»[99]99
Max Weber, цит. в Gerth and Mills, 1946, p. 66, примечание.
[Закрыть].
Однако какие бы наименования эволюционисты ни использовали, все они сталкивались с одной и той же проблемой. Они интуитивно чувствовали, что, должно быть, правы; однако у них было мало неопровержимых доказательств, чтобы это подтвердить. Поэтому, дабы обеспечить получение дополнительных данных, были учреждены новые направления в антропологии. Некоторые общества, согласно этой логике, являются менее развитыми, нежели другие: колонизованные народы Африки или островов Тробриан с их каменными орудиями и красочными обычаями подобны ныне живущим предкам, отображая тех, на кого должны были быть похожи в доисторические времена цивилизованные люди в обществах тройной сложности. Все, что требуется сделать антропологу (помимо того, что ему приходится сносить малярию, внутренних паразитов и неблагодарных туземцев), – это сделать хорошие записи, а затем он (в те дни женщина не слишком часто выступала в этой роли) может отправиться домой и заполнить пробелы, имеющиеся в эволюционном предании.
Это была интеллектуальная программа, которую отвергал Малиновский. Однако в известном смысле странно, что данный вопрос вообще был поднят. Если эволюционистам нужно было задокументировать прогресс, то почему бы им было не делать этого напрямую, пользуясь археологическими данными – физическими остатками от действительных доисторических обществ, – вместо того чтобы делать это косвенно, пользуясь данными антропологических наблюдений за современными группами и предполагая при этом, что они являются пережитками прошлого? Ответ здесь таков: сто лет назад археологи попросту очень многого не знали. Серьезные раскопки только-только начались, так что эволюционистам приходилось комбинировать скудную информацию из археологических материалов с дополнительными деталями из древней литературы и случайных этнографических отчетов. Благодаря этому Малиновскому и подобно ему мыслящим антропологам было крайне легко объявлять реконструкции эволюционистов просто россказнями.
Археология – молодая наука. Всего три века назад наши самые старые свидетельства об истории – китайские пять классических книг, индийские Веды, еврейская Библия и греческий поэт Гомер, – простирались в прошлое не более чем на 1000 лет до н. э. Все, что предшествовало появлению этих шедевров, было покрыто мраком. Простой акт выкапывания предметов все изменил, но для этого потребовалось время. Когда Наполеон вторгся в Египет в 1799 году, он привез с собой множество ученых, которые скопировали или увезли десятки древних надписей. В 1820-х годах французские лингвисты открыли секреты этих иероглифических текстов, что сразу же добавило две тысячи лет к задокументированной истории. Чтобы не отстать, британские исследователи в 1840-х годах проделывали штольни в разрушенных городах на территории современного Ирака или же, вися на на веревках, переписывали царские надписи в горах Ирана. И еще до того, как закончилось то десятилетие, ученые могли уже читать древнеперсидские и ассирийские тексты и изучали мудрость Вавилона.
Когда Спенсер начал писать об этом прогрессе в 1850-х годах, археология все еще была скорее авантюрой, нежели наукой, изобилуя вполне реальными Индианами Джонсами. Только в 1870-х годах археологи начали применять в своих раскопках геологический принцип стратиграфии (поскольку, если исходить из соображений здравого смысла, самые верхние слои Земли в конкретном месте должны были образоваться после слоев, лежащих ниже, то мы можем использовать последовательность отложений для реконструкции порядка событий), и только в 1920-х годах стратиграфический анализ стал господствующим методом. Археологи все еще зависели от увязки изучаемых ими местонахождений с событиями, упомянутыми в древней литературе. Поэтому вплоть до 1940-х годов находки из большинства частей мира находились в тумане предположений и догадок. Этому пришел конец, когда физики-ядерщики открыли радиоуглеродное датирование, используя распад нестабильных изотопов углерода в костях, древесном угле и других органических находках для того, чтобы сказать, каков возраст этих объектов. Археологи начали упорядочивать доисторические времена, и к 1970-м годам стала оформляться глобальная общая схема.
Когда в 1980-х годах я обучался по магистерской программе, один или два ведущих профессора все еще утверждали, что, когда они были студентами, их преподаватели говорили им, что единственными важными инструментами в полевой работе являются смокинг и небольшой револьвер. Я до сих пор не уверен, следовало ли мне им верить, однако, какова бы ни была истина по данному вопросу, к 1950-м годам эра Джеймса Бонда определенно закончилась. Реальные прорывы во все большей степени происходили благодаря повседневному напряженному труду армии профессионалов, которые, рассеявшись по всему земному шару, рылись в поисках фактов и все дальше продвигались в доисторические времена.
Музейные хранилища переполнялись артефактами, а библиотечные полки стенали под тяжестью технических монографий. Но некоторые археологи беспокоились, что остается без ответа фундаментальный вопрос: что все это означает? Данная ситуация в 1950-х годах была зеркальным отражением ситуации в 1850-х: если когда-то для крупной теории искали данные, то теперь данные буквально вопияли о необходимости теории. Вооруженные своими с таким трудом добытыми результатами, ученые-обществоведы середины ХХ века, особенно в Соединенных Штатах, ощущали готовность начать новый этап теоретизирования.
Называвшие себя неоэволюционистами – чтобы показать, что они являются более продвинутыми, нежели «старые зануды» – «классические» эволюционисты типа Спенсера, – некоторые ученые-обществоведы начали утверждать, что, хотя это просто замечательно – иметь так много фактов, с которыми можно работать, однако масса свидетельств сама становится частью проблемы. Важная информация оказывается похороненной в огромном количестве отчетов антропологов и археологов, изложенных в форме запутанных и неупорядоченных повествований, или в исторических документах. Короче, все это было недостаточно научным. Неоэволюционисты считали, что, дабы выйти за пределы леса типологий XIX века и создать общую объединяющую теорию общества, им необходимо трансформировать эти повествования в числовые данные. Измеряя различия и присваивая им значения в баллах, они могли бы ранжировать общества, а затем искать корреляции между полученными баллами и их возможными объяснениями. В итоге они могли бы обратиться к вопросам, которые могли бы оправдать вообще все потраченное время и все деньги, выделяемые на археологию: существует ли только один путь эволюции обществ или же таких путей множество; группируются ли общества на отдельных эволюционных этапах в кластеры (и если да, то каким образом они переходят от одного этапа к другому); можно ли объяснить все на основе единственной характеристики – к примеру, такой как население или технология (или, если на то пошло, география).
Первую серьезную попытку в этой области в 1955 году предпринял Рауль Нэролл, антрополог, работавший в рамках крупного проекта по сбору данных под названием Human Relations Area Files (Ареальная картотека человеческих отношений), который финансировали федеральные власти и в котором были задействованы многие университеты. Полученный им результат он назвал «индексом социального развития». В случайном порядке выбрав тридцать доиндустриальных обществ по всему миру (некоторые современные, некоторые исторические), он внимательно «протралил» данные по ним, чтобы выяснить, насколько эти общества отличались друг от друга, что, как он полагал, отражалось бы в том, насколько большими были их крупнейшие поселения, насколько специализированными были их ремесленники и как много подгрупп в них имелось. Сведя полученные результаты к стандартному формату, Нэролл присвоил рассмотренным обществам числовые показатели в баллах. На последнем месте оказался народ ягана с Огненной Земли, жители, которые в 1832 году произвели впечатление на Дарвина как люди «на более низкой ступени развития, нежели в каком-нибудь другом месте на земле»[100]100
Дарвин Ч. Путешествие на корабле «Бигль» (1882), глава 10.
[Закрыть]. Они получили всего 12 баллов из возможных 63. На первом же месте оказались ацтеки до их завоевания испанцами с 58 баллами.
На протяжении следующих двадцати лет и другие антропологи пробовали свои силы на этом поприще. Несмотря на тот факт, что каждый из них использовал разные категории, разные наборы данных, разные математические модели и разные техники выставления баллов, все они приходили к результатам, согласующимся друг с другом в диапазоне от 87 до 94 процентов, что вполне хорошо для общественной науки[101]101
Carneiro, 2003, p. 167−68.
[Закрыть]. Через 50 лет после смерти Спенсера и через сотню лет после написания им своего эссе о прогрессе неоэволюционисты стремились подтвердить законы социальной эволюции.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?