Читать книгу "Бес, творящий мечту"
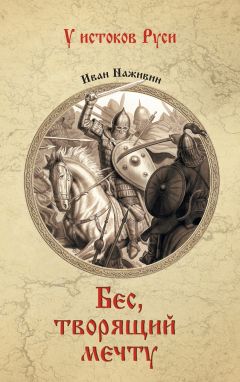
Автор книги: Иван Наживин
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Неуютный монашек
Раз сидел Упирь у каменного креста, что у Юрьева монастыря, на берегу славного Волхова, воздвигнут был. С ним сидел, греясь на веселом вешнем солнышке, один монашек юрьевский, который был родом пскович, и потому святыню новгородскую склонен был рассматривать несколько недоверчиво. Над гуляющим Волховом с хриплыми криками кружились чайки. В небе бежали жидкие белые облака. По разливу с песней уходили на низ караваны весенние, которые уже успели с делом управиться: в этом году благодаря поганым опозднились все…
– А по какому случаю крест этот тут поставлен? – лениво спросил Упирь, провожая глазами убегающие в водные дали суда.
Монашек вздохнул.
– По какому случаю? – медленно повторил монашек, лениво провожая суда своими водянистыми, немножко печальными глазами. – Кто разберет, по какому случаю стоит он тут?.. Темна вода во облацех, как говорится, а еще темнее – в делах человеческих. А сказывают люди про этот крест так. Жил в Новгороде владыка один, а звали его Иоанн. Он, сказывают, изнурял себя молитвой и часто запирался в узенький чуланчик, чтобы предаваться там богомыслию, – такой узенький, что и повернуться в нем нельзя было. Как в таких случаях полагается, бес делал ему заслоны всякие. Однажды забрался окаянный в кувшин, который был у святого, и стал оттуда плескать на него водой, чтобы помешать его молитве. Святитель подошел к кувшину и, дабы бес не мог выйти из него, запечатал его крестным знамением. Тогда он стал умолять святителя, чтобы отпустил его на волю. Владыка потребовал, чтобы он превратился в коня и чтобы свозил его в Иерусалим, но так, чтобы к утру быть снова в Новгороде обратно. Бес превратился сейчас же в черного коня, владыка сел на него, и тот понесся в Иерусалим, прямо к церкви Воскресения. Церковные двери сами собой растворились, зажглись лампады и свечи сами собой, владыка поклонился святыне, снова сел на коня и к утру был дома.
– А у нас умные люди говаривали, – перебил вдруг его задумчиво Упирь, – что ежели который имеет при себе цвет чеснока – чеснок, как и папорот, цветет под Иван Купалу тоже, – так тот человек может ездить на ведьме, как на коне, хоть бы и в заморские страны…
– О? – слегка удивился инок. – А я и не слыхал… Ну только наш владыка и без чесноку обошелся. Потому ежели почиет на ем благодать, так на что ему еще чеснок?.. Я так это дело понимаю… Ну, – говорит он это бесу, – теперь ты можешь уйти куда хочешь… А бес и говорит ему: смотри, отче, никому об этом не рассказывай, а то я тебе такую пакость сочиню, что и не очухаешься!.. Ему не хотелось, чтобы над им, бесом, отцом гордыни, люди смеялись… И вот однажды в душеполезной беседе с честными игуменами и священниками владыка сказал, что он знавал одного человека, который в одну ночь съездил в Иерусалим. А бесу только этого и надо было. Он придрался к словам владыки и стал чинить святителю всякие пакости. Придет, к примеру, какой большой человек к владыке, глядь, а у того монисто девичье валяется, а то под ложницей башмаки женские стоят… Все это им бес в мечте показывал, а они в простоте думали, что это так и на самом деле есть. И вот заговорил весь Новгород, что дело плохо. А потом прошло некоторое время, зашумело и вече: не можем на престоле апостольском блудника терпеть!.. У новгородцев дело от слова всегда недалеко, и вот прямо с веча народ бросился к покоям владычим, чтобы изгнать святителя. И только подбежали было все к хоромам его, как вдруг растворяются двери и из покоев выбегает девица. Известно, был это все тот же бес-пакостник, а новгородцам-то он в мечте девицей представлялся… Они осерчали, схватили владыку и вытащили его, надругаясь, на улицу. А он ничего не понимает, а только все твердит: что это, чада мои, дескать. Но они и слушать ничего не хотели и тут же решили посадить его на плот и пустить по Волхову: пушай плывет куда хочет! Ну, усадили старика на плот и пустили. А святитель, ставши на плоту, возвел очи горе и давай молиться: «Господи, не поставь этого новгородцам в грех! Они сами не ведали, что творят…» И вдруг Волхов понес плот против воды! Новгородцы, увидев чудо сие, сразу поняли, что все ими виденное было только бесовское мечтание. Сейчас же, бросивши все дела, устроили они крестный ход и пошли с иконами святыми за владыкой берегом, умоляя его вернуться. Но плот плыл, и доплыл вот до нашего монастыря. А от нас навстречу владыке тоже крестный ход уже идет: какой-то юродивый, что при обители жил, предварил настоятеля о чудесном путешествии владыки. Ну, вышел святитель на берег, и весь народ со слезами упал перед ним на колени, моля о прощении. Владыка был незлобив душой, простил всех, совершил молебствие и возвратился в Новгород с великой честью и славой, а потом перед всем народом и обсказал, как было все дело, а когда кончил повествование свое, сказал: «Чада мои, творите всякое дело с испытанием, да не будете прельщены дьяволом!..» Собралось сейчас же вече, и новгородцы приговорили поставить на берегу вот этот самый каменный крест на память грядущим поколениям. Радость была в тот день по всему Великому Новгороду, а бесу окаянному скорбь и великое посрамление… Вот что сказывают про крест сей люди… – закончил тихо худенький монашек, следя глазами за убегающими по светлому разливу судами, и опять почему-то тихонько вздохнул.
– Чудеса Господни!.. – проговорил Упирь, качая головой и чувствуя в то же время в прямой душе своей какой-то горький осадок. – Гоже сказал ты, что темна вода во облацех…
– Темна, темна… – перебирая бледными перстами в своей жиденькой бороденке, повторил монашек. – Потому ежели скажем, что монисто или там наряд женский – бесовское наваждение, так, может, бес, что в кувшине был, тоже бесовское наваждение? Может, никакого кувшина не было, ни коня, ни Ерусалима… Как же человек может разобрать, где прельщение беса начинается и где кончается? Ведь ежели так рассуждать, то, может, и сам владыка, и ты вот – бесовское наваждение. Может, тебя и нет совсем…
– Господи Иисусе… – испуганно перекрестился Упирь. – Что ты, брат, окстись: какое же я бесовское наваждение?!
– Да я только к примеру… – спокойно проговорил неуютный монашек. – Чего смущаешься? Может, и я сам бесовское наваждение. Может, и меня нету… Ничего не дано человеку знать доподлинно…
Отец Упирь все испуганно крестился, глядя на замысловатого монашка. И ему в самом деле начинало казаться, что неуютный монашек – мечтание бесовское. А над ними, на берегу славного Волхова, стоял каменный крест, напоминая православным о великом посрамлении беса Иоанном, владыкой Господина Великого Новгорода…
Ушкуйники
Плоскиня – он в последнее время как-то стих и ушел в себя – произвел на новгородцев большое впечатление: они ценили бывалых людей. А этот чуть не всю землю насквозь прошел. И все думали и гадали, кто мог бы быть старый бродник: по осанке его, по повелительным ноткам, которые часто прорывались у него, ясно было, что Плоскиня знавал и лучшие дни. «Попа и в рогоже видно», как говорится… И те удалые добры молодцы, которые собирали ватаги повольников, всячески старались перетянуть старого воина к себе…
Новгородские повольники были то же, что скандинавские викинги: снарядившись как следует, они отправлялись морями и сушей куда глаза глядят за добычей и иногда оставляли на чужбине жизнь, а иногда возвращались богатеями, как кому повезет. Шли в повольники большей частью вольные люди. Так назывались в Новгороде те, которые не состояли членами какой-либо общины и потому не несли никаких общественных обязанностей. Многие из таких вольных, безместных в жизни людей читали в Новгороде по покойникам, шли в скоморохи, а то и просто разбойничали по глухим дорогам. В повольники мог поступить и богатый, и бедный, и сын боярина, и сын купца, и из черных людей. Ни о состоянии, ни о происхождении в ватаге не спрашивали: была бы охота, сила да ловкость. Повольничество не только не считалось позором, но, наоборот, пользовалось всеобщим уважением. О повольниках слагались песни. От повольника требовалось, чтобы был он со всяким учтив, чтобы мог он держать себя с достоинством во всяком обществе, чтобы любил он Господин Великий Новгород и работал бы для славы и величия его, защищал бы слабого и всячески стоял бы за правду. Часто повольники братались между собой, и тогда горой стояли один за другого до самой смерти…
Плоскиня и Уиирь пристали к той ватаге, которую набирал Хоть Зуболомич, молодой богатый купец, забубенная головушка и любимец работного народа. Он лихо пил, не стоял за крепким словцом, со всеми был поклонист и не скупился для черных людей. Новгород, сеявший на камне да на ржавце, был страной не только земледельческой, сколько торговой. Купец, гость в народном воображении исстари, принял образ какого-то богатыря. Та же удаль, та же решимость, та же готовность на всякую опасность в далеких торговых походах, та же фантастическая, бродячая жизнь, все это пленяло новгородца, и он охотно склонял свою голову перед именитым гостем и – его золотой мошной… В Новгороде всегда было сильно развито артельное начало. Торговых товариществ было чрезвычайно много – и постоянных, и на один удар. Каждый член товарищества должен был пожертвовать в пользу его 50 гривен серебра, а кроме того, в церковь Святого Иоанна в Опоках 29 с половиной гривен. Тогда он получал титул пошлого купца, и таким оставался всю жизнь, и почетное звание это передавал своим наследникам…
Наступил и канун отвала. На широком дворе пошлого купца Хотя Зуболомича собралась вся дружинушка его удалая. Столы ломились от съестного и питного. «Вологи» всякой было наставлено, пей не хочу. Сперва, по-новгородски, вологой назывались только молочные продукты, но потом словечко это приобрело иносказательный и более приятный для удалых повольников смысл. И теперь, глядя на столы тароватого хозяина, у всех них душа играла… Но, как того требовало приличие, поджидали батюшку.
Батюшка пришел и, как полагается, прочел перед пиром приличную случаю молитву:
«Соблюди, Господи, и помилуй посадников новгороцкых, и князей, и бояр, и всех приказных людей, новгороцкых доброхотов. Соблюди, Господи, и помилуй государя дому сему Хотя Зуболомича с водимой его и сынцы и с гостьми приходящими и со всеми православными крестьяны…»
Батюшка истово благословил брашну, и все, перекрестившись, стали, по приглашению хозяина, занимать за столами места. Хоть Зуболомич, рослый, форсистый, румяный, веселый, с лукавыми глазами, ходил промежду столов и подбодрял гостей своих и повольников: надо было уж тряхнуть как следует в останнышки…4747
В останнышки – в оставшееся время.
[Закрыть] И гости, провожая глазами хозяина тароватого, обходительного, всячески хвалили его и, подымая перст и прищуривая один глаз, с улыбкой, значительно говорили:
– Хоть Зуболомич?.. У-у-у!..
И пили за него еще и еще… А он низко всем кланялся и благодарил за честь…
А гусляры и гудцы гостей тешили то плясовыми песнями, то грустными, а то певец какой-нибудь словутный зачинал песню про годы стародавние:
В славном городе Киеве,
У князя Володимера,
У Краснова, у Солнышка…
И, довольные, гости щедро бросали им деньги. Старый Якун Григорович, хватив меду стоялого, так с мошной своей запутался, что хоть ты что хошь: не найдет в нее ходу, и шабаш!..
– Это называется: постой, татарин, дай саблю вынуть… – оскалилась какая-то огненная рожа с масляными глазами.
– Гожа пословица-то… – засмеялись вокруг. – Знать, суздальцы занесли…
– Суздальцы они, черти, новгородцам на язык не уступят…
– Наши покнижнее, пописьменнее, а и те ух востры…
– Я тоже надысь от них слышал: не грози попу плешью, у попа плешь в лопату…
Заржали весело, вольно, ото всей души.
– Пью за моих дорогих гостей… – поднял вдруг чашу обходительный Хоть Зуболомич. – Дай вам Бог путины доброй, добычи богатой, а пуще всего домой в добром здоровий со славой воротиться…
И все, подняв чарки, пили за Хотя Зуболомича…
Всю ночь шумело застолье развеселое. А наутро, очумелые от попойки, с головами в тумане, все, лязгая оружием, рассаживались по своим ушкуям – так звались ладьи новгородские, – с криком великим, с бранью и смехом. На берегу стояли родственники отъезжавших и целые толпы народа, завистливо смотревшего на отвал удалых. И многие старики взгрустили потихоньку: так-то вот и они, бывало, в годы стародавние снаряжались в путь-дороженьку далекую!..
И с песней веселой один за другим выходили ушкуи на широкий разлив Волхова, Ильменя и Меты. Деревеньки и монастыри окрестные все были залиты полой водой и представлялись островками. Тысячи тысяч птиц гомонили в радостном сиянии вешнего утра. И мерно били весла в воду холодную и мутную, пышно отражавшую разгоревшееся, полное радости небо с кудрявыми, в завитках, облаками…
Потихоньку Новгород Великий уходил все ниже и ниже в воды: Славно казалось уже островком малым, над которым, по ту сторону Волхова, в отдалении сияли верхи Святой Софии Премудрости Божией. Против вешней воды грести было нелегко, и повольники враз упарились. Но села новая смена, и снова ушкуи, журча водой, ходко пошли полоями в манящую удальцов даль…
К ночи выбрали себе местечко на берегу повыше, посуше, пригребли и развели пожары, чтобы обогреться и ужин себе сварить. Ночь была свежая, с эдаким легоньким, веселым морозцем, и звезд, звезд наверху высыпало, не насмотришься!.. У новичков и думы, и разговоры все еще около дома вертелись: как там, что?.. А те, которые к этим походам в неизвестное уже привычны были, те сразу переступили порог новой жизни и – все забыли. Воспоминаниями о прежних походах себя тешили, рассказами о странах далеких, о бранных подвигах удалых ушкуйников… А у одного костра веселый старик с висячими усами и точно дубленой рожей рассказывал предания стародавние о Садко, именитом госте новгородском. И хотя почти все уже слышали, и не раз, об удалом новгородце, но с удовольствием слушали складную речь еще и еще. Упирь, уставив мечтательные глаза свои в огонь, пил каждое слово рассказчика…
Садко, гусляр бедный, играл на поместных пирах, теша душу новгородскую, и тем кормился. И вдруг перестают его звать на пиры, на веселые беседушки. Пошел Садко с горя к Ильмень-озеру, сел на бел-горюч камень и заиграл в свои гусельки. И вдруг взволновался седой Ильмень, и из сердитых волн его вышел молодец. То был сам Ильмень-озеро: захотелось ему наградить гусляра за игру его нарядную. Он посылает Садко в Новгород и велит ему биться с гостями об заклад, что есть в Ильмень-озере рыба с золотыми перьями. Купцы давай гусляра высмеивать: никто николи такой рыбы тут и не видывал! И побились они об заклад: бедный гусляр голову свою поставил, а гости – три лавки товару красного. Поехали на озеро, закинули невод – глядь: рыбка златоперая!.. В другой раз невод завели – опять рыбка с золотыми перьями!.. То же и в третий… И купцы отдали Садко три лавки, и начал он богатеть, и скоро стал он именитым гостем новгородским… И с караваном своим ушел он на Волгу, и торговал там двенадцать лет, а когда собрался он наконец с барышами великими домой, отрезал он большой усмаг хлеба, круто посолил его и бросил его Волге. Он понимает, что не надобно Волге хлеба-соли, но честь и спасибо ей дорожи, вежество:
А спасибо тебе, матушка, Волга-река!..
А гулял я по тебе двенадцать лет.
Никакой я притки-скорби над собой не видывал…
А матушка-Волга отвечает ему:
Ай ты гой ecи удалой, добрый молодец,
Когда придешь ты во Новгород,
А и стань ты под башню проезжую,
Поклонись от меня брату моему,
А славному озеру Ильменю…
Садко передает Ильменю поклон Волги, и Ильмень-озеро за такое его вежество сулит ему новое богатство: пусть он со людьми своими со работными забросит только в озеро невода свои. Садко так и сделал. И первый невод принес ему много рыбы мелкой, второй – много рыбы красной, а третий – все рыбу белую. Он сложил свою добычу в подвалы на гостином дворе, чтобы торговать ею, но когда потом вошел он в погреба, там, где лежала рыба мелкая, были теперь все деньги дробные, где была рыба белая, лежали кучи чиста серебра, а где сложена была рыба красная, там лежало одно красно золото… На радостях закатил он новгородцам знатный пир. А подпив, стали новгородцы, как полагается, хвастаться. Не удержался и Садко. В упоении своего богатства и славы он объявил, что он один скупит все товары новгородские, и худые, и добрые. Ударили об заклад в тридцать тысяч денег. И вот наутро посылает Садко своих помощников по торгам скупать товары. Каждый день опустошает он все торги новгородские, а наутро гости навозят снова всего полным-полно. И, наконец, сдается Садко: «Побогаче меня славный Новгород…»
И, делать нечего, отдает он гостям новгородским проигранный им заклад…
Старик с дубленой рожей складно и певуче рассказывал, а над жаркими пожарами ночь ворожила вешняя. Плоскиня в сторонке молча слушал сказание старое, а Упирь блаженно представлял себе, что и с ним все это случиться может. Жаль вот только, попадьи его милой с ним нет. И он подавил в могучей груди своей тяжелый вздох…
– Молодца!.. – весело крикнул рассказчику Хоть Зуболомич. – За такое сказание нельзя не поднести. Да и удалых повольников подбодрить надо… Эй вы там…
И, когда слуги его верные разнесли чарки с зеленым вином, Хоть среди пылающих костров, над рекой, выпрямился во весь свой могутный рост и, высоко подняв чарку свою, громко и весело провозгласил:
– Ну, ребятушки: за Господин Великий Новгород!..
Вечная сказка
Много тяжких лишений пришлось претерпеть татарам при их отступлении от Селигера, много было у них от болезней тяжелых потерь людьми и конями, но из страшной ловушки они все же вырвались вовремя. Теперь, на пути к степям, больших рек у них впереди уже не было. Весна с каждым днем расцветала все больше и больше, и они, разрушая попутные города, быстро двигались на юг, на солнышко, в привычное им раздолье степей… Эта человеческая река, этот потоп захватывал широкую полосу и тянулся во длину с обозами на несколько десятков верст. Если передние полки вступали в новую местность целиной, то, когда доспевали задние, перед ними была уже широкая торная дорога, усеянная по сторонам трупами павших лошадей, над которыми днем кружились вороны, а по ночам урчали и дрались волки и лисицы. Столпы дыма поднимались страшными привидениями в ласковое весеннее небо, а по ночам степь была багровая от далеких пожаров. И этот жуткий шум бесчисленных ног заставлял бежать в ужасе прочь все живое.
Земля просыхала. Солнце грело и веселило. Рать татарская оживала все более и более. И вдруг напоролись они в земле Черниговской на небольшой городок Козельск. Козельцы довольно уже наслышались о том, что было сделано погаными в Суздальской земле, и понимали, что сдаваться или не сдаваться, по существу, все равно: впереди все равно гибель. А тогда лучше и не сдаваться, решили они, и городок, как ерш, ощетинился всеми своими иглами так, что татары никак не могли его взять. Батый был в изумлении; что такое: какой-то дрянной городишко, и осмеливается оказывать им сопротивление?! Он приказал удвоить усилия, но неделя проходила за неделей, а Козельск держался. И так, в непрестанных приступах и резне, прошло целых семь недель. Наконец татарские тараны разбили-таки стены городка, орда ворвалась внутрь, и в тесных уличках Козельска началась исступленная резня грудь в грудь. Кровь текла потоками. Василий, князь козельский, мальчуган, утонул в крови…
С Козельском было покончено. По заходу были разорены украины земель Смоленской и Черниговской, и, наконец, Батый вышел в степи: пора было дать своим полкам, а в особенности истощенным коням, заслуженный отдых…
Степь сияла во всей царственной красе своей. Цветами затканный ковер ее расстилался перед татарами на тысячи верст. В синих далях мерли тихие курганы, на которых местами грезили тысячелетние грезы каменные бабы. В траве по зорям плясали тяжелые дудаки. Табуны диких коней с серебристым ржанием, разметав по ветру гривы, уносились прочь. Пело небо жаворонками невидимыми, пела земля мириадами цветов, пели по ночам звезды серебряные, пели души человеческие, которым хотелось распахнуть над счастливой землей крылья лазоревые и летать, летать, летать…
И когда на вечерней заре полки становились на отдых, тотчас же быстро вставал на одну ночь среди степи бескрайней городок круглых шатров, и сизые дымки кудрявыми столбиками поднимались в тихое небо. И тогда начиналась для Анки Бешеной каждый день снова и снова волшебная сказка. С утра ее Темрюк становился во главе своего тумана, который шел, большей частью, сторожевым полком впереди, а она томилась по нем в своей кибитке. Но когда рабы разбивали его шатер и он, пахнущий цветами степными, ветром, волей, входил в него, радостный, она бешено бросалась к нему на шею, покорная раба его и его королева. И то встречала она его боярышней, вся в аксамите, в камнях самоцветных, то надевала она наряд татарский, то рядилась она в пестро-пышные ткани Востока – каждый раз новая, каждый раз по-новому обольстительная. Она уже научилась немножко болтать по-татарски и его научила словам русским, словам нежным, словам любви. И этих десятков слов им было достаточно, чтобы выразить то, что томило, что сжигало, что окрыляло их души снами волшебными…
Скрытые от всех шатром богатым, они ужинали, а затем, когда стан затихал постепенно, они под звездами, среди трав душистых, уходили в степь и бродили там, не зная, по земле они ходят или в стране какой сказочной, в которой никто еще не бывал… И встал за туманной гранью степи месяц, как червленый щит богатыря, и звенела тишина тысячей звуков неясных, звуков прелестных, как в полусне. И стояло над спящим станом чуть заметное зарево догорающих костров, и слышалась в серебристой мгле заунывная перекличка часовых. И они, обнявшись, шли медлительно все дальше и дальше по росным, пахучим травам, под звездами, неизвестно куда… Темрюк-хан дивился чарам маленькой русской колдуньи, которая преображала для него суровую жизнь воина в какую-то грезу сладкую, легкую, как утреннее сновидение, с которым, просыпаясь, не хочется расстаться…
И под шатром они проводили жаркую ночь вместе до света. А там опять становился он во главе своего тумана, под бунчуком косматым, и вел силы татарские все дальше и дальше, а она в своей кибитке ехала, окруженная рабынями, в обозе. Вокруг стоял немолчный гомон народа на походе: ржание и визг лошадей, крики погонщиков, поющее скрипение тяжелых колес, говор, и смех этот, ставший ей уже привычным – раньше он сотрясал ее, – топот бесчисленных ног, пробивающих новые пути, неизвестно куда и зачем. И тогда, среди жарких грез о ночи прошедшей, о ночи грядущей, в душе ее вставали видения жизни покинутой, жизни разрушенной как будто до корня, и сгоревшее Буланово под снегом, и лесные берега тихого, точно заколдованного лесного озера, и отец, и старенькая, вся в морщинках добрых мать, и милая подружка ее Настенка с ее красой нежной, несравненной – может быть, она и не знает еще, бедная, о гибели своего Коловрата, – и прекрасный Володимир в несколько часов ушедший в небытие, – все, все, все… И тогда потухало ее милое, дерзкое личико, стягивались брови соболиные, и из огромных глаз лились слезы горькие. Но она знала: если бы вот, как в сказках бывает, предстал вдруг перед ней ведун какой, Кощей Бессмертный, и сказал бы ей, что только одно слово ее, – и возвратит он ей все, только откажись она от любимого, она не колебалась бы ни минуты и снова и снова отказалась бы и от отца с матерью, и от Родины, от всего – только бы быть с ним, только бы пить всем существом любовь его, только бы лепетать ему летним вечером, среди степи бескрайней слова огневые, половины которых он даже не понимал!..
И русские полоняники с ненавистью украдкой смотрели на нее и, служа ей, госпоже своей, плевались при одном имени ее и ни о чем так сладко не мечтали, как о том, чтобы извести лиходейку… Она чуяла живым сердцем своим эту стену ненависти вокруг себя, она знала, что, ежели бы в счастливой судьбе татар произошла вдруг перемена, ее первую растерзали бы полонянки в клочки, но ей было все равно: солнце стоит уже низко над степью, скоро станут полки на отдых, и, снова все теплящаяся огнем волшебным, она уйдет со своим милым в бескрайнюю степь, под звезды, где никого, никого нет…
Иногда по огромному табору веселым, опаляющим огнем пробегала бранная тревога: то сторожевой полк завидел кочевье половецкое. Враз строил Темрюк свой туман к бою, и начиналась бешеная скачка по степи и сшибки кровавые, половцы клали оружие, и разбитые полки их, перестроившись, присоединялись к могучему потоку победителей. Раз «загон» татарский захватил у Днепра самого хана половецкого Котяна, деда князя Данила Галицкого. Но старому степному волку с остатками орды своей удалось уйти в Венгрию: он понял, что теперь в степи бескрайней для него места уже нет…
И вот полки татарские увидали впереди синий Дон. Переправившись через него, они в три перехода вышли на берег Волги, перешли и ее и, наконец, остановились на отдых среди степи бескрайной. Сюда же подкочевали и семьи татар, которые были оставлены ими при начале похода на Русь в степях приуральских. Надо было отправить огромный полон русский на невольничьи рынки Востока, привести в порядок и распродать несметную добычу гостям и – отдохнуть после трудов…
Была теплая летняя ночь. По заросшим густым камышом и низким кустарником бесчисленным островам Волги стон стоял от ночного зверя и птицы. Где-то в степи певец неведомый песню тоскливую звездам пел… Батыю не спалось. Он вспоминал страшные, дымно-красные картины своего огромного похода и с удовлетворением видел, как все обернулось счастливо для великого хана и – для него… Но – об этом думал он уже сотни раз, едучи во главе ратей своих по степям, по лесам, по сожженным городам, – но втайне дивился он сам первый на то, что делалось. Все его окружающие приписывали все эти победы ему. Его окружали все почетом чрезвычайным. Все преклонялись перед его глубоким умом. Даже неудачный поход на Новгород, его отступление от Игначь креста, от самых почти ворот Новгорода, они считали делом блестящим и не только не порицали его за то, что он не взял богатого города, но хвалили за то, что только он один, великий вождь, сумел вовремя понять опасность и отступить – до другого раза. Иногда и сам он, захваченный этим всеобщим поклонением, верил, что все это делает он. Но бывали минуты, как в эту тихую, звездную, теплую ночь, когда он с тупым недоумением чувствовал за собой какую-то огромную, грозную силу, которая выпирала его вперед, которая точно играла им… И тогда он чувствовал, что самый лучший план действия для него в пестрой сказке жизни в том, чтобы не делать никаких планов и идти туда, куда влечет его случай, судьба…
От дум этих Батый долго ворочался на мягких коврах своих и никак не мог уснуть… А в это время тихой степью, под яркими звездами шли, обнявшись, две стройные тени и что-то ворковали, и иногда нежно звучал в серебристом, душистом сумраке поцелуй…









































