Читать книгу "Бес, творящий мечту"
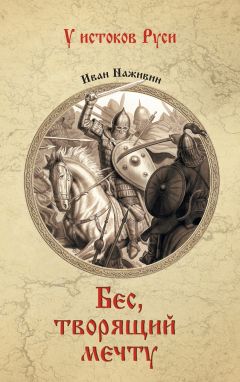
Автор книги: Иван Наживин
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Купальская ночь
Гневно озираясь в звездную, теплую мглу, Упирь быстро шагал к себе. Он знал, что еще немного и начнется. И даже уже началось: когда подошел он к своей хибарке и глянул за реку, там местами по лесам, у воды, полыхали уже огни купальские. Он подавил вздох, вошел в избу, молча переоделся, и попадья подала ужин. Она взялась было расспрашивать его, как и что сказал ему владыка, но отец Упирь был рассеян и отвечал невпопад. И она бросила разговоры: она знала, что раз поп задумался, то лучше его оставить, а то иной раз такое сплетет, что только ох да батюшки…
Поп знал, что спать сегодня ему не дадут – не столько шум их поганьский, сколько его злоба на них. И потому, поужинав, он наладил светец, принес лучины побольше и достал из бездонного кармана иматия рукописание владыки, бережно завернутое в плат… И все прислушивался одним ухом: беснование потихоньку уже начиналось…
И он взялся за книгу.
«Не лепо ли ны бяшет, братие, начати старыми словесы трудных повестей о полку Игореве, Игоря Святославлича!.. – прочел Упирь и высоко поднял брови: что-то как будто не очень божественно начинается. – Начати же с той песни по былинам сего времени, а не по замышлению Бояню…»
Что такое?! Он поглядел на заглавный лист. Там стояло: «Слово о полку Игореве»… Любопытно!
И медлительно – грамоте отец Упирь был горазд, но не больно – он продолжал:
«…Боян бо вещий, аще кому хотяще песнь творити, то растекашется мысию по древу, серым волком по земли, шизым орлом под облакы, помняшет бо речь первых времен усобице; тогда пущашет десять соколов на стадо лебедей, который дотечяше, та преди песнь пояше: старому Ярославу, храброму Мстиславу, иже зареза Редедю пред полки касожьскими, красному Роману Святославличу. Боян же, братие, не десять соколов на стадо лебедей пущаше, но свои вещие персты на живые струны вскладаше; они же сами князем славу рокотаху…»2525
Ведь Боян вещий, если для кого хотел песню петь, то растекался белкой по древу, серым волком – по земле, сизым орлом – под облаками, поскольку помнил рассказы об усобицах первых времен. Тогда пускал десять соколов на стаю лебедей, и которую (лебедь) поймают, та первая хвалу поет: старому Ярославу храброму Мстиславу, который заколол Редедю перед полками косожскими, статному Роману Святославичу. Боян же, братья, не десять соколов на стаю лебедей пускал, но свои вещие персты на живые струны клал, и струны сами князьям славу пели (др.-русск.).
[Закрыть]
По всему огромному телу Упиря прошел мороз восторга. «Они же сами князем славу рокотаху!.. – повторил он. – Славу ро-ко-та-ху…» Эка как отлил!
В открытое оконце дышала теплая ночь, вкруг камня бесовского уже слышались крики и смех, и песня шла, и метался бешеный хоровод, луной осиянный, но Упирь не слыхал ничего: меняя, не глядя, лучину, он, точно на крыльях каких лазоревых, понесся в дали заколдованные.
«А всядем, братие, на свои борзые комони, позрим синего Дону… – читал он с восторгом. – Хочу бо копие преломити конец поля Половецкого, с вами, русичи, хочу главу свою сложити, либо испити шеломом Дону!»2626
Сядем-ка, братья, на своих быстрых коней, посмотрим на синий Дон. Потому что хочу преломить копье на краю поля Половецкого, с вами, русищи, хочу голову сложить или выпить из шлема речной воды Дона (др.-русск.).
[Закрыть]
Опять мороз прошел по душе и телу Упиря… И вот верхом на комони борзом отец Упирь в блещущей кольчуге, в шеломе пернатом вступает ногой своей могучей в золоченое стремя и несется вихрем к зеленым берегам синего Дона и метет пред собою расстроенные полки половецкие… Солнце тьмою ему путь застилает. Ночь, стеная грозой, будит птиц, звери ревут, див кличет сверху древа и велит слушать земле незнаемой, Волге, и Поморью, и Посулью, и Сурожу, и Корсуню, и тебе, тмутараканский болван!.. Волки воют по оврагам, орлы клекотом на кости зверей зовут, лисицы брешут на червленые щиты. Черные тучи идут с моря грозного. В них трепещут синие молнии… Страхование великое, раны, может быть, смерть – так что же? Ужель не любо сложить буйную голову за землю Русскую, изронить душу жемчужную чрез золотое ожерелье в поле незнаемо? Умирать все одно надо – так уж лучше пусть потом воспоют внуки ему, Упирю, славу под рокот струн яровчатых!..
И текут медлительно звездные часы, а Упирь, все забыв, бьется с половцами в степи бескрайной, и разит направо и налево мечом своим харалужным, и идет с князем Игорем вместе в тяжкий плен к поганым. Пусть вокруг все ярче, все жарче полыхают песни купальские – Упирь тоскует в тяжком плену и смотрит за грани степи, на Русь, и по лицу его текут слезы горючие… Но – его сотрясло – вдруг пали цепи проклятые полона позорного, на крылатых конях летят они с князем в землю Русскую, и гремят им навстречу со всех сторон песни радостные, песни победные: «солнце светит на небесе, Игорь, князь на Русской Земле…», а Упирь, сдерживаясь из всех сил, чтобы попадья его не слыхала, рыдает над рукописанием волшебным и слезы теряются в лохматой бороде его…
«Ах, мать честная, курица лесная! – восторженно прошептал он. – Вот диво дивное и чудо чудное…» И, облокотившись буйной головой своей на тяжкую длань, Упирь, восторженно улыбаясь, глядел в сумрак своей жалкой хибарки. За тонкой перегородкой слышалось тихое дыхание попадьи его милой, а за окном в лунном серебряном сиянии кружился вокруг бесовского камня хоровод черный, и так ладно, так складно плыла песня старинная, песня нарядная, которую певал, бывало, и Упирь, когда он еще благодати не сподобился.
Ах, и по морю, морю синему,
Плыла лебедь с лебедятами,
Со малыми со дитятами.
Плывши лебедь встрепенулася,
Плывши лебедь вышла на берег,
Где ни взялся млад ясен сокол,
Он ушиб, убил лебедь белую,
Он пух пустил по поднебесью,
Сорил перья по чисту полю.
Где ни взялась красна девица душа,
Брама перья лебединые
Клала в шапку соболиную,
Милу дружку на подушечку,
Родну батюшке на перинушку…
Упирь пил нарядные звуки ночи, и мнилось ему, что есть в них что-то от рукописания владычного. И досадливо тряхнул он головой:
– Не по правилам поют, невегласы!.. Эту песню на Красной горке петь полагается, а они под Купалье ее завели. И опять зачин не так делают: начинать запев надо исподволь, из самой глуби душевной, так, чтобы сердце все затрепыхалось, как на заводи тихой лебедь белая, а они рубят… Эх, испортился народ вдребезги, ничего не понимает!..
А за окошками все кружилась, все к сердцу ластилась, все в сердце просилась песня старая, песня ладная:
Где ни взялся добрый молодец:
Бог на помочь, красна девица душа!
Она ж ему не поклонится.
Грозил парень красной девице:
Добро, девка, девка красная!..
Зашлю свата за себя возьму,
Будет время и поклонишься мне,
Будешь, девка, белы руки целовать,
Плеть шелкову во руках твоих держать.
Я думала, что не ты идешь,
Я думала, не мне кланяешься,
Я думала, что идет поповский сын,
Что поповский сын, поп Алешенька…
Отец Упирь упивался. Лучина ярко вспыхивала, и из сумрака переднего угла вдруг строго глянул на Упиря Христос большеокий. В одной пречистой руке своей Он, батюшка, держал Евангелие святое, а другой вроде как грозил попу Своему непутевому: ишь, заслушался песен-то поганьских!.. Упирь вдруг спохватился: в сам деле, что это вдруг с ним сделалось? Уж не наваждение ли бесовское?.. Неужели пошло это от рукописания владычного? Как мог владыка дать ему такую книгу? Как мог он даже держать ее у себя? Не говорится ли в ней о богах поганьских? Как же будет он обличать в воскресенье все это хлопотание бесовское – ишь, что разделывают!.. – когда сам владыка держит у себя книги поганьские, может быть, даже рядом со Священным Писанием, перед ликом Христовым?.. Ах, негоже, ах, негоже!..
Уже давно по дворам кочеты пропели – как всегда, красный кочет проскурницы пел поперед всех… – затихли понемногу вокруг камня бесовского невегласы бешеные и разбрелись, знать, как всегда, парами по садам вишневым, по лугам росистым, к реке, за которой небо словно белеть уже начинало, а отец Упирь, взволнованный, все думал путаные думы свои и не находил из них никакого выхода. Христос все грозил ему перстом своим пречистым, точно настаивая на чем-то. И Упирь вдруг понял: сбился он, поп окаянный, с книжкой этой с пути истинного, и Христос призывал его снова на путь ревнителя веры святоотческой…
– Да что ты, поп?.. – раздался из-за перегородки тесовой сонный голос попадьи его милой. – Али до солнца сидеть будешь?..
– А ты спи знай, спи… – отозвался он. – Скоро приду.
Нет, не поддастся он, Упирь, искушению дьявольскому! Как боролся он до сей поры с поганьством, так будет бороться и впредь. И в первую голову рукописание это окаянное уничтожить надо, душу мутящее, мечту творящее. Лучше всего сжечь бы его. Да попадью еще встревожишь, приставать начнет, что да почему, разговоры эти бабьи пойдут… Лучше всего в Клязьму бросить. А там владыка пущай как хочет, так и судит, – ты хоть развладыка будь, а попа смущать не моги никак… И посмотреть на невегласов, кстати, надо: что они там еще разделывают?..
Забрав книгу, отец Упирь тихонько отворил дверь и вышел в тихую, теплую ночь. И только отворил он калитку щелястую, как сразу увидел какую-то парочку, которая, крепко обнявшись, уходила в теплой мгле к реке. И почудилось Упирю, что ровно Настенка это, которая давеча так сразу опалила его. А из тьмы предрассветной звук поцелуя точно послышался и смех девичий, сладкой отраве подобный…
И вдруг снова подхватил Упиря вихрь какой-то горячий, и закрутил, и понес. И опять увидел себя Упирь в степи бескрайной на коне борзом, в шеломе златоблещущем, и из трав высоких лают лисицы на червленый щит его, и блещет вдали синий Дон, и в блистании мечном, в треске копий и скепании2727
Скепать – колоть, раскалывать.
[Закрыть] щитов метет он, витязь славный, пред собою силу степную, дикую. И вот врываются храбры земли Русской в вежи половецкие, и первое, что видит там он, Упирь, – это Настенка, которая вся узами связана. Одним движением меча он рассекает узы ее, и она бросается ему на шею. Он берет ее за руки белые, сажает на седло свое златокованое, и, как вихрь степной, несутся они травами росными на далекую Русь, и она, обняв его шею накрепко, шепчет в уши ему речи сладкие.
Он оглянулся и вздрогнул: он притулился к камню бесовскому, мечту творящему, а в руках держал рукописание поганьское… За Клязьмой уже светало и было слышно, как смеясь, бросали в парящую воду девушки венки свои, гадая о суженом…
– Тьфу! – плюнул Упирь, отпрянув от камня и боязливо оглядываясь: не увидал бы кто, часом! – Ну, чистое вот наваждение!
Но горько было Упирю расставаться с наваждением бесовским: Господи батюшка милосливый, да неужели ж только одну свою поденку серую знать?! Ведь засохнешь!.. Отчего же человеку и не порадоваться? Вон попадья заметила, что сапоги его каши просят, – пущай просят, а он вот в шлеме золотом на синий Дон поедет!.. Какое кому зло от этого?.. И отец Упирь, прижимая под мышкой рукописание владычное, решительными шагами направился к дому. Такой книге цены нету, а не то что… А владыке скажет, что украли. Ну, пущай епитимью какую положит… Да и гоже ли ему, старику, такую книгу у себя хоронить?.. На нем сан-то какой!..
Он тихонько отворил калиточку и наткнулся на сонную матушку: она вышла на мост2828
Мост (устар.) – сени.
[Закрыть] умываться.
– Где это ты все колобродишь, поп? – подозрительно оглядывая его, хмуро спросила она.
– Известно где… – сердито отвечал отец Упирь. – Ты помнишь, какая сегодня ночь-то была, или заспала?.. Ежели их не стращать, невегласов, так они такого наделают, и не выговоришь… Ежели я поставлен пастырем духовным, так должен я за всем глядеть…
Попадья знала рвение своего попа к вере и потому поверила ему сразу.
– Поди-ка дров принеси… – сказала она, умываясь свежей водой из глиняного рукомойника. – Вон проскурница2929
Проскурница – просвирница, то есть женщина, выпекающая просвиры.
[Закрыть] наша уж затопила…
Княжье
В начале XIII века молодая Русь кипела кровавыми смутами. Пользуясь этими смутами, с Украины ее щипали немцы, литовцы, ляхи, венгры, шведы, половцы, а внутри – и в значительно большей степени – терзало ее княжье, неимоверно расплодившиеся потомки князя Володимира Киевского. Это было неудивительно: княжье женилось очень часто в семнадцать лет, а то и в четырнадцать, и даже в десять. Были среди этих потомков и князья-хозяева, князья-заботники, как Ярослав I, Мономах, Ярослав Осмомысл, Роман Галицкий и прочие, были князья витязи, как Мстислав Храбрый, Мстислав Удалой, Данила Романович, Игорь Северский и прочие, но большинство было не князья, а княжье, тупое, жадное, беспокойное. Слова «Русская земля» были у них на устах постоянно – «блюдем Русские земли» – но это было только красноречие; на самом же деле они рвали Русскую землю без всякой пощады и заливали ее кровью. Немцы в ту пору добивали Славянское Поморье, ляхи и угры упорно лезли в Галичину, но княжью и горюшка было мало. Расплодилось их до того, что часто в одном городе сидело по два князя. Жалобы их на свое житье-бытье горемычное были чрезвычайно красноречивы: «Не могу я умирать с голоду в Выри…» – плачет один. «Что мне делать хотя бы и с семью городами, где живут одни псари?» – жалуется другой. На Русь они смотрели как на свое добро, на свое большое имение и, плодясь, все больше и больше дробили ее и дрались из-за наследства. И жгли волости, и рубили чад противника, и выкалывали один другому глаза. Володимерко иссек многих жителей Галича за сношения с его племянником. Ярослав Всеволодович, разбитый новгородцами под предводительством Мстислава Удалого, прибежав в свой Переяславль, велел всех новгородских гостей побросать в погреба и так «издушил» их человек с полтораста. Рязанский Глеб на пиру вероломно умертвил шестерых братьев своих с их боярами и слугами. Северские Игоревичи, призванные княжить в Галиче, избили галицких бояр – они отличались исключительной склонностью к баламутству, – но вскоре, захваченные боярами врасплох, были повешены ими. И так шло по лицу всей земли Русской.
Наследовал князю не сын его, а старший после него брат, то есть старший в роде. Никогда почти князь не мог надеяться, чтобы княжество после него досталось его детям. Они часто оставались не только без княжества, но даже без пристанища вообще, и судьба их зависела целиком от старших в роде. Князья по мере освобождения мест переходили из города в город. За ними следовали их «милостники» – любимцы – и дружина. Иногда уходили за князем даже простые вои, жители городков. Так, в начале XII века три города ушли таким образом, но были пойманы и возвращены на свое место. Если прибавить к этому, что также с худшего на лучший стол стремились и святители, и попы из плохого прихода в хороший, то Русь представляется каким-то кочевым племенем, которое никак не найдет себе покоя. Рубежи княжеств от частых переделов то и дело менялись.
Для обозначения отношения младших князей к старшим употреблялись выражения: младший «ездил при стремени» старшего, имел его господином, был во всей его воле, смотрел на него. Но все это было болтовней: младшие слушались старшего до тех пор только, пока он мирволил им, а то так сейчас же хватались за оружие. «Ты нам старший, – говорили они, – но если ты нас обижаешь, не даешь волостей, то мы сами добудем их себе». Изяслав говорил дяде своему Вячеславу: «Прими меня в любовь, а то волость твою пожгу». Возвышенные речения – в этом сказывалось неглубокое влияние батюшек – были среди княжья вообще в большом ходу, но наивен будет тот, кто примет их за чистую монету, как и у батюшек. Отец, умирая, говорил своим сыновьям: «Ты, старший брат, будь меньшим вместо меня отцом, а вы, меньшие, почитайте старшего, как отца», но не успевал он закрыть глаза, как начиналась свара, или, по-тогдашнему, размирье, нелюбье.
Но, несмотря на все эти родственные драки, при которых княжье нисколько не стеснялось водить на Русь на помощь себе ляхов, немцев, литву, половцев, словом, кого придется, несмотря на противление веча, с которым они справиться еще не могли, княжье пускало корни все глубже и глубже и эдак легонько отгораживалось от простых смертных и обстановкой всего своего обихода, и даже именами; христианские имена, которые давались им при крещении, сохранялись ими как бы про запас для царства небесного, а звались они старыми, языческими именами: «родился у Святослава Ольговича сын, и нарекоша ему имя в святом крещении Георгий, а мирски Игорь». Или: «дочь Ефросенья, прозванием Измарагд, еже наречется дорогый камень». И замечательно, что в простом народе этих старых, языческих имен совсем не было – точно запрещено это было. И настолько уже окрепло к XIII веку Княжье, что им можно уже было льстить в таких выражениях: «Княже мой, господине, орел – царь над птицами, осетр над рыбами, лев над зверями, а ты, княже, над переславцы…»
Орел, осетр и лев, княживший тогда над володимерцами, великий князь Георгий Всеволодович принадлежал по характеру своему не к князьям, а к княжью. Он не сеял, не жал, но усердно собирал в житницы свои. Когда лет семь тому назад из Заволжья прилетел слух, что там, по Яику, снова появились страшные татары, князь Георгий и не почесался: не полезут они из привычной им степи в Залесье, а те, которые к степи поближе, пущай сами и управляются. Конечно, как и на Калку, помощь в случае чего послать надо будет, но больно тревожиться не из чего. Прав был князь Андрей Боголюбский, царство ему небесное, что, бросив Киев, от степи ушел подальше…
И действительно, татары спокойно кочевали по яицким степям, и вреда от них никакого не было видно. Но тем не менее стали появляться знамения всякие, и Русь стала наполняться темной тревогой. В 1230 году в Новгороде рано поутру солнце явилось «о трех углах, яко коврига, потом мнеи (менее) бысть аки звезда, тако и погибе, потом мало опять взиде в своем чину». Через четыре дня, в торгов год (в час торга), солнце начало умаляться «зряшщим всем людям», и осталось его мало, и сделалось аки месяц три дня, потом опять начало полниться, и многие думали, что месяц идуще чрез небо, потому что тогда было межимесячье, а другие думали, что солнце идет назад оттого, что малые облака кучею борзо бежали на солнце. В Киеве было и того хуже: солнце стало месяцем, явились около него с обеих сторон столпы красные, зеленые, синие, и огнь с небеси облаком великим спустился на Лыбедь. Люди отчаялись все в своей жизни, думали, что наступает кончина, целовались, прося прощения один у другого, горько плакали и молили Бога: «Се: милостию своей Бог преведе страшный огнь тот через город бес пакости». Накануне же было сильное землетрясение. Печерская церковь во время обедни расступилась на четыре части. В трапезнице уготованный корм и питие для гостей, столы, скамьи разбиты были падавшими сверху из потолка каменьями. В Переяславле расселась надвое церковь Святого Михаила. В Володимире иконы подвиглись по стенам и паникадила со свечами поколебались.
Знамения не подействовали: побоявшись сколько полагается, греховодники-русичи снова взялись за зло. Тогда в Новгороде открылся страшный голод, а за ним – мор. На Воздвижение мороз побил весь хлеб, и он вздорожал пуще прежнего. Жители расходились по чужим сторонам. Потом начался опять мор. Епископ Спиридон устроил скудельницу3030
Кладбище, погост.
[Закрыть], приставил к ней мужа смиренного Станилу и велел свозить туда с улиц мертвых. В короткое время было навезено 3030 трупов. Весной голод стал свирепствовать во всей стороне новгородской еще пуще. Жители ели мох, желуди, сосну, ильмовый лист, кору липовую, нечистых животных, друг друга. Таких злодеев осекали, вешали, сжигали. Отцы и матери отдавали детей своих одерень из-за хлеба. Злые люди зажигали дома, в которых предполагался хлеб. Псы пожирали на улицах мертвецов. И все завершилось большим пожаром: погорел весь посад славенский до Холма, кроме церквей. Город был при конце. Но Бог умилостивился: прибежали немцы с житом и мукой, и город ожил…
А татары медленно подвигались вперед. В 1232 году подошли они к берегу Волги и стали кочевать по плодородным степям. И вдруг – раскат грома: гонец, присланный к князю Георгию от князей рязанских в самую Иванову ночь, поведал князю после заутрени, что татары вдруг бросились на Великие Болгары, взяли их на щит, все пограбили, а самый город пожгли.
– И годно им, поганым!.. – сказал князь Георгий, почесывая, по своей привычке, в непыратой бородке своей. – Смирнее будут…
Гонец-дружинник – это был сын знатного боярина Коловрата, который переселился в Рязанскую землю из Галичины, – с удивлением посмотрел на равнодушное лицо Георгия.
– Так-то оно так, – проговорил он, – но наши князья опасаются, как бы после Болгар не пришла поганым охота и на Русь пойти…
– Ну, не проглотят, подавятся… – спокойно сказал князь. – Мало ли их на Русь наскакивало, а где они? Погибоша аки обры, как говорится…
– Тебе виднее, княже… – сдерживая раздражение, проговорил Коловрат: он едва стоял на ногах от усталости. – Наши люди, которые прибежали с сумежья, в одно слово говорят: земля стонет от числа их, звери безумеют, птицы мертвыми падают… Смотри: не прогадать бы! Будь на Калке все русские рати ко времени, может быть, битва кончилась бы и по-другому…
– Да я разве что? – усмехнулся Георгий, которому было неприятно это напоминание о Калке. – Я не отказываюсь. Поглядим, как там у них дело обернется: в день оттуда не прискачешь, будь хошь растатарин ты…
Коловрат только зубы стиснул, и красивое лицо его побледнело: экое дубье, прости Господи!..
– В святых книгах написано, – учтительно продолжал князь Георгий, – что к каждой земле своей ангел приставлен да соблюдает ее. Ежели последует гнев Божий на какую землю, Он повелевает ангелу другой земли идти войной на эту землю, и ангел не может воспротивляться. Так что же мы, грешные, можем тут сделать?.. Да, кстати: заходил тут ко мне немчин один, от попа римского прислан, а от меня к вам, на Рязань, поехал. Добрался ли он до вас? Такой настырный немчин – чистая беда, – насилу отвязался!.. Все на свою руку охота попу Русь повернуть…
– Отец сказывал мне, что был он у нашего князя, – отвечал Коловрат, – но так ни с чем и отбыл в землю Черниговскую.
– И какие там все сказки про нас небылые складывают, просто диву даешься, право слово!.. – засмеялся князь и снова почесал в бородке. – Этот немчин привез с собой от попа грамо-тицу – наш владыка Митрофан взял ее себе, – в которой так прямо и прописано, что великий князь Володимир совсем-де не от Византии крещен был, а от Рима, от какого-то-де Бруны, что ли, который от попа римского для того и в Киев послан был, к… реке руссорум как-то. По-нашему, князь Володимир, а по-ихнему, вишь, выходит, реке руссорум. Придумают тоже!.. И явился, вишь, этот самый Бруна к Володимиру в нишей одежде, и Володимир так понял, что проповедью-то своей Вруна от бедности занимается, и говорит это ему: брось-де пустяки все эти твои, а я уж тебя одарю. Тогда Бруна обиделся, пошел к себе, оделся в самые что ни на есть дорогие одежды епископские и опять к князю явился. Тогда, вишь, Володимир и говорит ему: вижу, что не от бедности пошел ты на такое дело – значит, по глупости. Но ежели-де ты пройдешь живым через огонь, так я-де уверую и крещуся. Разложивши пожар большой, Бруна покадил на него, как полагается, водичкой святой окропил и прошел через огонь невредим. Володимир-князь бросился тогда-де к ногам его в слезах, и Бруна повел его и всю дружину к большому озеру и крестил их всех в сем изобилии воды. А потом-де какой-то из князей наш возьми Бруну да и убей. И были, пишут, над телом его чудеса всякие, и Володимир поставил над телом его церковь великую, и Русская-де церковь должна-де хвалиться иметь у себя такого блаженнейшего мужа… Чего-чего только ни нагородили, беда!.. Ну а наш владыка книгам-то хитрее всякого попа римского будет, откопал это летописи и теперь ответ попу пишет: верно-де был ваш Бруна у князя нашего Володимира и с месяцу времени гостил у нас, а затем князь проводил-де вашего епископа до самого рубежа… А они нись что напридумывали – обмануть, что ли, им в чем нас охота, уж не ведаю… Ну да слава Богу, у нас теперь и свои мужи есть, которые, может, поученее ихнего еще будут…
Витязь, хмурясь, слушал повествование. Тошно ему было. Приехал он сюда по делу большому, а его вот побасками какими-то забавляют…
Воевода княжой Петр Ослядюкович, один из «милостников», рослый, дородный боярин с белой бородой во всю грудь, только что вошедший в сени, сразу понял игpy князя: Георгию нужно было показать рязанцам, что никакие татаре не страшны нам и что мы сами свои дела с Божьей помощью, коли что, управим. И он поддержал князя:
– Когда Роман Галицкий ляхов победил, папа послал к нему посла намовляти того в латынство, обещая ему и фады всякие, и даже королем всей Руси учинити. И долго препирался с тем Роман: он тоже за словом-то в карман не лазил. А те, не срамяся, все лезли к нему с ласковыми словесами: какой папа-де мощный, и может-де тя, княже, богата, сильна и честна мечом Петровым устроити. Тогда Роман обнажил меч свой и говорит: такой ли-де меч-то Петров у папы вашего? Ежели-де такой, то может-де папа грады раздавати, а я-де поколе ношу свой меч при бедре, не хочу куповати3131
Куповати – покупать.
[Закрыть] ино кровию, яко же отцы и деды наши размножили землю Русскую. Это стязание3232
Стязание – состязание.
[Закрыть] с латиной вот уж сколько времени идет, а толков у них что-то не видится…
– Теперь, боярин, о пре3333
Пре – распря.
[Закрыть] не с латиной думать нужно, а с татарами, которые ближе латины… – сказал Коловрат, слегка покраснев: он догадался об игре хитрых суздальцев. – И, пожалуй, будут они позубастее твоего попа римского: они действуют не словесами ласковыми, а кривой саблей татарскою…
– Ну-ну… – примирительно сказал Георгий, почесывая в бородке. – Разве я что? Я не прочь… Только чего же горячку-то пороть? Посмотрим. А пока скажи отцу, что скоро мы тут кашу чинить думаем3434
Чинить кашу – варить кашу. Согласно русскому обычаю, каша варилась при начинании любого важного дела. Отсюда выражение «с ним кашу не сваришь».
[Закрыть]. Тогда, в случае чего, прошу всех князей рязанских на пированьице, почестный пир пожаловать… И ты приезжай…
– Покорно благодарим, княже… А с тем дозволь челом бить…
– Что ты, что ты? Чай, так гоже?! – засмеялся князь. – Ты погуляй у нас. У нас в Володимире-то гоже… А погостишь и поедешь: куды спешить-то? У Господа времени много…
– Нет, княже, уволь… – решительно сказал Коловрат. – Коней мы уже выкормили, а князь наказывал мне поспешать как можно…
Князь для прилику попробовал еще раз удержать молодого витязя, но тот стоял на своем. Он откланялся князю и Петру Ослядюковичу и в сопровождении гридей княжеских вышел на двор. Там его ждали уже спутники, среди которых резко бросался в глаза высокий, статный, но рябой старик с бесстрашными глазами и выбитыми передними зубами.
Коловрат вскочил в седло.
– Ну, Плоскиня, ходом!.. – бросил он старику.
И рязанцы поскакали к перевозу через Клязьму.
Там, у воды, ожидая парома, стояла небольшая толпа крестьян с подожками. Паром медлительно полз по солнечной реке с луговой стороны. И вдруг Коловрата точно ожгло по сердцу: красивая девушка с льняными волосами и нежно-голубыми, как небо, глазами смотрела на него из толпы. Была она босиком, с холщовым мешочком за плечами и с ореховым подожком в руках. В глазах Коловрата невольно отразилось восхищение. Красавица сразу заметила это и, слегка нахмурив свои соболиные брови, отвернулась. Еще немного, и рязанцы поскакали зеленой поймой к своей Рязани, а крестьяне в свою очередь взобрались на паром.
– Ну, Настенка, садись давай!.. – крикнула красавице ее подружка Анка, тоже красивая, румяная, с черными кудрями девушка. – А видела витязя-то?.. Ах, пригож!..
– Ну, больно нужно!.. – пренебрежительно отозвалась Настенка, но покраснела: и ее Коловрат поразил своей мужественной красотой и богатым убором бранным.
Коловрат в облачке пыли передом мчал к Рязани. В сердце его ласково сияло и не проходило видение красавицы суздальской. И грустно было молодому храбру, что вот потерял он уже ее и николи, может, больше уж не увидит…









































