Читать книгу "Бес, творящий мечту"
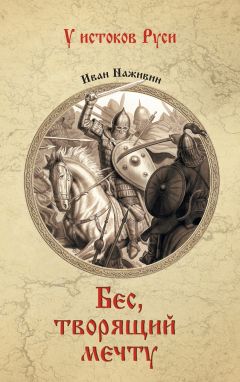
Автор книги: Иван Наживин
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Новый курган
Летят стрелы каленыя, гримлют слабли о шеломы, трещат копиа харалужныя и глаголят стязи в поле незнаеме…
Слово о полку Игореве
Русская церковь быстро стала обзаводиться собственными святыми. Она завела даже праздники греческим святыням, не существовавшие у самих греков: каши маслом не испортишь. Очень ратовали попики против игрищ поганьских и скакания и тех, кто сказки сказывает небылые. И хотя и дома дела им было по горло, они начинали уже восставать и против латины… Народ весьма не любил батюшек и при встрече с ними торопился спрятаться в конопель или хотя бы даже и в крапиву. «Аще кто узрящеть попа, чернца или черницю, то возвращают ся вспять, – упрекали батюшки паству свою и вопрошали: – Не поганьски ли то творим?» Но пастве было безразлично, поганьски или не поганьски, – только бы подальше…
Володимир не только не трогал инородцев – нельзя же было поднять против себя всех сразу, – но даже и к Господину Великому Новгороду приступить с новой верой сразу не решался: буйные озорники могли натворить больших дел и увлечь, пожалуй, за собой и всю Русь. Вообще «встань великая в людех» проявлялась тогда повсеместно. В особенности упорно и кроваво сопротивлялись радимичи и вятичи. И если хоромы пискупов приходилось ставить всегда в городках, то есть за стенами, которые защищали бы их от паствы, то, с другой стороны, стали все чаще и чаще пропадать без вести и волхвы непокорные. Жертвы многие падали с обеих сторон: мученики старой, дедовской, веры и мученики, большею частью подневольные, веры новой, которую они, увы, и сами путем узнать еще не успели.
И одним из первых таких жертв в смуте великой пал у дреговичей Варяжко, ушедший за Оленушкой в Туров. Она зажгла его своей верой. Вера эта для него совсем не была верой грецкой, христианской – он видел, что делали пискупы и попы, – а была и осталась верой Оленушки, у ног которой сложил он в жертву-жаризну, жертву всесожжения, всю свою молодую жизнь. Вокруг Оленушки и в Турове очень скоро собрались все страдающие и обремененные, а он, зажженный ею, ушел на проповедь ее веры в бесконечные болота и леса дреговичей, где по берегам тихих рек рассыпались редкие убогие деревеньки, и скоро погиб там под ножами разъяренных лесовиков, защищавших своих лесных богов… С большим трудом только удалось Оленушке вывезти оттуда бренные останки своего друга. И на костях его она поставила вскоре святую обитель…
Тревожно, сумрачно, кроваво, нехорошо стало на Руси: слова любви, которые белыми лилиями расцвели по берегам Галилейского озера, пройдя через руки злых византийских колдунов, превращались тут, в лесах и степях молодой Руси, в бессильных, но злых нетопырей. Церкви множились, но часто в них оказывались старые, полинявшие боги: Перун стал Ильи-пророком, утратив, однако, всю свою старую красу и размах, Велес превратился в святого Василия, скотьего бога, а местами в совершенно чуждого Егория с копьем на коне. И часто, отмолившись новым богам, двоеверы шли под овин молиться богу-огню, Симаргле, сыну великого Сварога, или к ключу-студенцу и ставили по-прежнему хлебцы домовому хозяину и Мокоши пресветлой, и обвешивали дуплину столетнюю полотенцами шитыми для берегинь-русалок. И часто какой-нибудь хрещеный, завернув плакун-траву в плат чистый, шел в церковь и, став у алтаря, бормотал: «Плакун, плакун, плакал ты много, а выплакал мало. Не катись твои слезы по чисту полю, не разносись твой вой по синю морю – будь ты страшен бесам, полубесам и старым ведьмам киевским. А не дадут они тебе сокровища, утопи их в слезах, а убегут от твоего позорища, замкни их в ямы преисподние. Будь же слово мое при тебе крепко и твердо во веки веков…»
Хмурились люди. Но в особенности хмур был Муромец. В полюдье с князем он теперь не ездил, ибо теперь не только дань собирала дружина, но и крестила страдальников с проклинательством и кровопролитием великим. Муромцу было это не по душе, и он предпочитал беречи стольный город. Нелюбье между ним и князем все увеличивалось. Богатырю казалось, что всем теперь верховодит из своего терема царевна заморская, на корню засохшая, и, подгуляв, говорил Муромец:
– Не скот во скотех коза, а не зверь во зверех еж, не рыба в рыбах рак, не птица в птицах нетопырь – не муж в мужех, кем своя жена владает…
Он пробовал, и не раз, упросить Володимира не давать попам своим терзать Русь, но бесплодно, и, махнув рукой, он на своем мужицком наречии говорил:
– Коли пожрет синица орла, коли камение восплывет по воде, коли свинья почнет на белку лаяти, тогда безумнии уму научатся…
И скучно было богатырю в этой новой, расхлябанной жизни, и все чаще и чаще пригубливал он и зелена вина, и медов старых, стоялых, а хлебнув, начинал иной раз и колобродить. И кричал он тогда во всю головушку: как вот еще немного, и осерчает он, и пустит стрелу каленую по золотым маковкам княжого терема, а то и в самого ли князя Володимира, а когда разбуянится больше, то сзывает к себе он всю голь кабацкую и обещает ей, что скоро сядет он князем в Киеве, а они, голь, у него боярами будут!..
И вдруг, на счастье Муромца, печенеги поднялись. С востока, из глухих степей, заходила новая туча, новый народ там объявился, половцы, и под их давлением зашумели печенеги, и волна их, поднявшись, забежала чуть не до Киева. Князь, бояре, старосты людские и попы о ту пору церковь Пречистой освящали, Десятинную, что Анастас выстроил, и за чашами зело усердствовали.
Володимер, нахлебавшись, как всегда, славу себе налаживал и, как всегда, путался:
Володимеру-князю на всей земле… —
старательно размахивая руками, дико выводил он.
– Пити!.. – грянула подгулявшая дружина.
Все вокруг загрохотало.
– Стой!.. Не лезь… – отмахнулся князь досадливо и, опять подняв руки, затянул:
Володимеру Красну Солнышку…
И вдруг гром с неба: печенеги!.. Враз все отрезвели и бросились навстречу степнякам. Только Муромец один запоздал: он, пьяный, по Киеву шатался и похвалялся силушкой своей богатырской, и народ жадно слушал его и ждал от него большого дела…
Встреча русской рати с печенегами произошла под самым Василевым, и, дивное дело, после первой же сшибки полки русские побежали, а князь Володимир даже под мост какой-то спрятался. И вот сидит он под мостом, трясется, Пречистую себе на помощь призывает и вдруг слышит: с киевского берега по мосту копыта застучали. Оказалось, Муромец проспался, выехал за ратью, встретил на пути бегущую дружину и воев и – заворотил их:
– Не бери на себя такой страмоты, робятя, заворачивай!.. Ишь, г.... испужались… Заворачивай давай!..
Печенеги в лугах под Василевым праздновали победу – пить они тоже горазды были, русской рати на волос не уступят – и, пьяные, орали песни воинственные, и буянили, и величались один перед другим. И вдруг из-за Василева ударили на них приободрившиеся россы. Степняки схватились, но, ловя перепуганных коней, упустили время, и русские конники буйным вихрем налетели на смятенный стан. Началась жестокая сеча – бились насмерть, до последнего, зубом грызлись, голыми руками душили один другого. Печенежские кони, испуганные, носились зря по табору и только увеличивали смятение…
Озлобленные степняки всякими хитростями, на которые были они всегда великие мастера, отманили от Муромца дружинников и, как муравьи на крота, бросились со всех сторон на суздальского богатыря. Его красная липкая палица со свистом носилась вокруг него, и трещали черепа степняков под ее ударами, как спелые арбузы. И вдруг Урень, былой дружок Варяжка, набросил сзади на Муромца аркан, который, как змея, обвил богатыря в грудях.
– Вр-решь!.. – засмеялся суздалец и, чуть понатужившись, разорвал аркан словно паутину. – А этого хошь?
И Урень с развороченной головой повалился под ноги коня.
Еще удар – и палица задребезжала: раскололась. Муромец бросил ее и схватился за меч. Но меча в ножнах не было. Он оторопел: что за диво?! Нюжли обронил?.. Или спьяну опоясать забыл?! А широкие петли с одной стороны, с другой стороны, сзади, отовсюду обвивали его, как змеи… И общими силами сбросили его печенеги с коня и с диким воем облепили его со всех сторон. Один старик вонзил ему под шею меч и вынул его окровавленный, и загоготал… В бешенстве яром летели со всех сторон дружинники – и Емин, новогородец разгульный, и Сирко Благоуродливый из славного Галича, и славный Рохдай, и Тимоня Золотой Пояс, и Ратибор с Поморья, и недавно прибывший с Белаозера, из земли Ростовской, Буревой, молодой да веселый… – и над стынущим уже телом северного богатыря началась бешеная сеча.
Печенеги были разбиты наголову, но еще долго, разгоревшись, преследовали их по степи витязи, теша сердца в схватках молодецких…
В глубоком черноземе, на раздорожье степном, неподалеку от Днепра старого схоронила русская рать своего богатыря. И насыпали высокий курган над ним, и справили, по обычаю прадедовскому, тризну шумную с поездьством буйным, и погоревали… И Володимир, поставив по обету, который он под мостом дал, в Василеве церковь-однодневку, начал на радостях освящения нового храма пировать. Пир, как отметил потом летописец, продолжался целых восемь ден подряд и, «еле можаху, потянулась рать под глаголы стягов на Киев…».
А сзади, «в поле незнаеме», на раздорожье, курган новый засинел в глухой степи, одинокий… Весной, когда поднимется из земли парной молодая, веселая вершь, озимя, отдыхают на нем пегие аисты, а то жерав серый присядет, а как подымутся хлеба, заколосятся, полудницы вьют себе на нем венки из васильков да из маков, и дремлет дед-полевик, рад солнышку, а в лунную ночь водят вкруг него свои светлые хороводы берегини-русалки. И раз, когда бронзовые от солнца, белозубые девки вышли в пшеницу к кургану бороду Велесу завивать, как то по обычаю дедовскому полагается, набрел на них пыльной дорогой отец Берында, с дрянной бороденкой своей и беззубым ртом, сердитый человек, которого Володимир попом в своей церкви-однодневке сделал.
– Опять беса тешите? – застучал он на девок подогом. – Опять вашему бесову Велесу бороду завиваете?..
И бойкая Гапка обратила к нему загорелое лицо и блеснула белым оскалом жемчужных зубов.
– И чего ты, батька, все лихуешься попусту?.. – сказала она. – Не хошь Велесу, так мы, пожалуй, Христу-батюшке бородку завьем… Все одно…
И Берында, плюясь, и ругаясь, и творя молитву, пошел к Василеву, а девки окаянные вдруг составили хоровод вкруг него и плясали, и плескали в ладоши безо всякого стыдения… Поп трясся и крестился: уж не полудницы ли, грешным делом? Свят, свят, свят… А девки, видя испуг его, от хохота прямо с ног валились…
И так и лежал один в степи богатырь северный, оберегая Русскую землю даже в самой смерти своей… А в Киеве, в гриднице высокой, Боян уже славил подвиги его в песнях застольных…
Жертва невольная
Что ми шумить, что ми звенить далече, рано, перед зорями?..
Слово о полку Игореве
Окрестили с грехом пополам Чернигов северский – и попики во все стороны от града лучами пошли в леса, гоня перед собой нечистую силу лесную не столько силою честного креста, сколько силою воинскою: без доброго прикрытия воев батюшки углубляться в эти ржавцы, мхи, дрягвы и дебри опасались…
Вверх по Десне светлой, к Боровому, цветущими берегами выступил по весне отец Ядрей-Федорок-Михаил. Он давно ждал этого дня, и в душе его была вешняя буря. На нем был и иматий широкий, и на голове скуфья, на ногах лапотки новенькие – все как полагается, и ехал он степенно на добром коньке, как отцу духовному прилично, но в душе был он все тот же почти лесовик Ядрей. Он невольно прислушивался к птичьему граю и ухозвону и жутко ждал, не закричит ли вверху древа див и не шевельнется ли в дуплине вековой нежить какая, и, чуть что, творил молитву-заклинание…
Еще немного, вот-вот, и он увидит свою Дубравку, окрестит ее и увезет за собой в Киев. Почитай, десять лет прошло с того дня как он в страхе перед лесными силами покинул ее, но она жила в его сердце, огневая колдунья, и до сего дня, и часто-часто милый образ ее тревожил его покой ночью перед зорями, и звал его, и манил… Он знал, что весь этот лесной край был теперь во власти старого недруга его, Ляпы, закоренелого невегласа, который с шайкой удалых добрых молодцев оберегал родимые леса от вторжения силы киевской. Но разве устоит злодей против воев княжеских?.. Но все же с великим бережением шли кияне лесными тропами вдоль берега Десны полноводной, и отец Михаил все обдумывал, как бы ему за это дело взяться поскладнее…
И надумал: первым делом надо будет колдунищу их злого, деда Боровика, захватить, а там с лесовиками справиться будет уже делом нехитрым. В старом колдунище вся сила, вся держава ихняя…
Начались уже знакомые ему зверовья. Сердце Ядрея колотилось в груди, как птица, в кляпцы пойманная, и он, своротив с дороги в чащобу, тихонько приказал воям отдохнуть, но никак чтобы не шуметь, чтобы не всполошить земляков раньше времени… И свечерело, и догорели за Десной лиловые и золотые тучки, и заволокли лес дремучий пепельные сумерки, и над светлой рекой, по уреме, залились, защекотали соловьи, и черемухой откуда-то потянуло сладкой, и роса жемчужной россыпью покрыла луга… И когда в отдалении, в поселке, стихли все звуки жизни, Ядрей в сопровождении воев тихонько, в обход селения, направился к одинокой избушке ведуна…
И все знакомее, все милее родные места… Вот, облитый луной, стоит над поляной на берегу Десны Перун, которого воздвиг Ляпа от трудов своих. Вот тот долок, в котором тогда, жаркою, колдовскою ночью Купалья, заласкала его до изнеможения Дубравка, вон в отдалении, в поселке, огонек одинокий горит – может быть, то старуха мать его бдит над прядевом… И вдруг в душе сомнение опять встало непереносное: а что, если вдруг он все-таки ошибается?! А что, ежели бы он тогда бросил бы веру чужеземную и тут остался среди своих, среди лесов, в старой жизни?!
Но вот и избенка ведуна. На высоких кольях тына белеют при луне черепа медвежьи, лошадиные, бычьи с огромными рогами и страшат сердце человеческое… А так все тихо – только в старой черемухе, избушку прикрывшей, рассыпается в душистой ночи соловей, да звезды, чуть видные в лунном потопе, трепещут и переливаются в вышине. Нетопыри над землей черной кружатся… Тихо – только сердце стучит на пороге неведомого, необычайного, жуткого… Но в руке его ведь крест святой, а по опушке вои залегли в траве росной…
И тихо в сопровождении двух воев прокрался он, старый зверолов, к избушке… Постояли, послушали… Потом неслышно завалили дверь низкую тяжелыми камнями, обложили наскоро сушняком все стены и – сухо черкнуло огниво… Розовым огоньком, как вещий папоротник в ночи цветущий, вспыхнул сухой мох, и сразу осветилась лунная поляна…
Вои, трясущимися руками сжимая палицы и мечи, вскочили черно-золотые, а отец Михаил с высоко поднятым в руке распятием стоял перед дверью, как бы запечатлевая ее печатью нерушимой. Изба занялась уже со всех сторон. Вдруг внутри послышался тревожный топот босых ног, в крошечном оконце мелькнуло белое лицо, и женский вопль потряс сердце. «Бабой, окаянный, обернулся… – пронеслось в голове. – Врешь, не обманешь!..» И еще выше поднялось в руке распятие…
Огонь разгорался. Цветущая черемуха порыжела, почернела и заплакала огневыми слезами горящих цветочков своих. Лес, весь розовый и золотой, точно ближе придвинулся. Крики в избе, истошные, страшные, не умолкали. Оборотень не раз бросался к низенькой двери, тряс ее из всех сил, но она не подавалась, и снова метался, как зверь в ловушке, по избе. Стены все оделись маленькими беленькими язычками. Жарко пылали стропила. И вдруг пылающая дверь широко распахнулась. Отец Михаил затрясся, и глаза его вышли из глазниц: перед ним в огневой раме стояла – Господи, спаси и защити… – его Дубравка!..
– Дубравка!.. – не своим голосом крикнул он, бросаясь к ней.
– Ядрей!.. – завопила она и, вся факел, упала навзничь с воплем, оледенившим всех.
И с глухим грохотом повалились внутрь костра стропила… Палимый нестерпимым жаром, отец Михаил бросился прочь и обмер: перед ним, весь розовый, стоял с грустной улыбкой колдун…
Уронив крест, одним движением сбросив с плеч иматий, потеряв скуфью, отец Михаил, не помня себя, с криком ужаса помчался бором в селение. За ним, задыхаясь от ужаса, спели вои…
Скоро, несмотря на глухую ночь, весь поселок пришел в движение. На счастье киян, Ляпы с его молодцами не было дома: он залег перед Черниговом на киевском гостинце. В ярком свете месяца забегали, заметались среди изб черные тени. Вдали, над лесом, стояло мутно-багровое зарево. Собаки из себя выходили. И Ядрей в серебристом сумраке узнавал своих родичей, постаревшую мать признал, Запаву с ее русалочьими глазами, и те узнавали его и шарахались от него прочь, а он ловил их за руки, за полы и, задыхаясь, все повторял:
– А где же Дубравка?.. Дубравка где?..
– Дубравка твоя у деда Боровика давно живет… – угрюмо отвечали со всех сторон лесовики, оправившиеся от первого испуга. – Она там…
Луна закачалась в небе, закачались избы, закачался старый лес, и Ядрей с воем рухнул на землю. И тотчас же вскочил. И опять упал и забился головой с выстриженным гуменцом о родную землю… В толпе селяков надрывно заплакала Запава: ей вспомнился тот страшный день, когда она также вот билась о землю на опушке дремучего леса… Была Запава с большим животом, и за передник ее испуганно цеплялись двое чумазых ребятишек.
Рано, восходящу солнцу…
Ничить трава жалощами, а древо с тугою к земле преклонилося.
Слово о полку Игореве
Кияне исчезли во бору. Дед Боровик долго стоял над пожарищем. Среди груд углей ослепительно белым светом догорал костяк бедной Дубравки… Старик, вздохнув тихонько, потупившись, побрел к Десне. Там, в уютном долке, среди молодого липняку стоял небольшой пчельник его: он приваживал диких пчел в колодах жить. На пчельнике позавчера надурили медведи, и на эту ночь дед Боровик ушел туда, чтобы попугать озорников. И Богодан ушел с ним: в сердце юноши загорелась буйным пожаром любовь к Дубравке, и он боялся ее. Она не обращала на него никакого внимания, и он мучился и ждал только Купалья, он овладеет тогда вещим папоротником, и тот даст ему власть над сердцем Дубравки… Теперь, ничего не подозревая, он спал в омшанике на свежескошенной, полной цветов траве…
Светало. Старый Боровик, босой, в длинной рубахе, с белой пушистой головой, стоял над Десной, заложив руки за лыковый поясок, и смотрел, как пробуждается земля. То, что случилось, только чуть взволновало вещее сердце. Дед знал, что никакой смерти нет, что это только обман, что есть только одно: жизнь – радость жизни, светлая, никогда не кончающаяся, из которой уйти некуда, ибо всюду Он, Сварог, Бог, Высокий, Свет Света… Вон чайка прильнула на миг к курившимся легким парком волнам, и поднялась с серебряной рыбкой в клюве на воздух, и проглотила рыбку. Но рыбка не умерла, а стала чайкой. Чайка мертвая падет на волны, ее съедят раки, рак пропадет в своей норке, его съест корень лозины, а от лозины примет жизнь сохатый, а сохатого убьют селяки и будут жить им – без конца… И вот труженицы-пчелки летают в цветущую пойму через реку и там собирают для него, старого Боровика, золотые капельки жизни и радости по цветам… И дед Боровик умильными глазками своими смотрел, как душистый ветер клонит к его старым ногам пышную купальницу, и вещее сердце его чуяло радость этой купальницы, тянущейся из мрака земли пред лицо Хорса, бога светлого, бога великого, всему дарующего жизнь. Вот из-за синих лесов показался в огненной славе золотой лик его – и старый Боровик опустился на колени, и его сердце запело гимн богам великим, которым покорно все живое… Ни страха, ни страдания уже не знал старый Боровик – он знал только сладчайшие слезы умиления. Те вещие травы, которым отдал он всю свою долгую жизнь, отдали ему волшвеные силы свои, свои живые чары и превратили для него землю в пресветлый Ирий. Как же мог бы он не верить чародейственным силам царства травяного, нерукодельного, но премудрого?!
Веселая муха, пьяная весной, запуталась с разбегу в его пушистой, впрозелень бороде и отчаянно завизжала. Он осторожно выпутал ее из силков, пустил и ласково засмеялся ее радости… Она растаяла в солнечном блеске, а он, заложив руки свои за лычко, весь белый, прозрачный, легкий – точно был он душой всех безбрежных лесов этих – все стоял над пылающей рекой, и все существо его, залитое радостью, без слов, умиленно молилось великим богам, украсившим для него эту землю точно для какого-то брачного пира… Не было для старого Боровика в ней ни зла, ни добра, а была только вечная, неизреченная радость…
Старик обернулся, чтобы идти будить Богодана, и – остановился: перед ним с крестом в высоко поднятой руке, весь от исступления дрожа, стоял в полном облачении во главе закованных в железо воев Ядрей-Михаил. Старик сразу признал родича своего, изменившего и роду, и лесам, и богам. «Гибель? – вихрилось в пылающей голове священника. – Пусть! Но раз судьба порешила бой, так пусть уж это будет бой насмерть…»
– Вои… – едва выговорил он синими губами. – Вяжите его…
И дюжие руки воев-лапотников враз сгребли легкого беленького старичка и связали его ужами накрепко. Весь исступление, отец Ядрей-Михаил заглянул в омшаник и там, на свежескошенной, полной цветов траве увидал спящего Богодана. И тот не оказал никакого сопротивления, а только смотрел на всех своими проникновенными, точно лесные озера, темными глазами. Душа его была в плену у нездешних сил. В его сердце все жарче, все чище, все глубже слагались в последнее время песни, и он, подыгрывая себе на гуслях яровчатых, волновал ими и деда старого, и красавицу Дубравку. И исходил в них душой – с мукой сладкой и блаженством мучительнейшим. Что ему там какие-то вои? Что они могут сделать ему, сыну Солнца?!
Но когда проходили они мимо курящегося синими дымками пожарища, Богодан повел большими своими глазами на старого Боровика, все понял – и низко опустил голову… И песчаным лесным проселком, по солнечному бору, звеневшему весенними гуслями, Ядрей с воями привели пленников в Боровое. Народ угрюмо молчал. И Ядрей-Михаил – он все был вне себя и точно никого и ничего не видел – на миг задумался. Было две казни страшных: размыкание конями и сожжение, как у скифов, о котором он глухо слыхал в своих скитаниях. И душа его занялась полымем безумия. Он сурово распорядился, чтобы достали вои воз и пару волов и чтобы нагрузили они этот воз доверху сушняком. Селяки сперва недоумевали, потом поняли и грозно зашумели, но из-за стены сомкнутых щитов на них направились острые копья, и они, стеная от бессильной злобы, отступили…
И вот связали старого Боровика и Богодана, положили их на воз, крепко прикрутили их к нему и в торжественном молчании вывели воз на околицу, в цветущие луга Десны, где в отдалении стоял в солнечном блеске Перун многомилостивый.
– Стой!.. – весь дрожа в холоде смертельном, проговорил отец Михаил.
Воз остановился. И раздался сверху старческий голос:
– Мучай нас, слепец, но за что же будешь ты мучить воликов?.. Отпусти их…
Он не слышал и не слушал ничего. Он был точно не он.
– Зажигай!..
Сухой треск огнива, слабый дымок, и разом с шипением и свистом взялся воз золотым огнем. Вои нахлестали быков, и те с ужасом в милых, кротких глазах своих вскачь понеслись по широким душистым лугам. Выбившись из сил в сочных, выше пояса, травах, быки приостановились было, но буйно разгоравшийся огонь наступал на них, и, совсем обезумев, они, задыхаясь, понеслись лугами дальше… И вдруг среди дыма и огня восторженно поднялся молодой голос:
Бог великий, высокий, пресветлый,
Жизни податель благой!..
Да святится имя Твое пресвятое…
Волы, хрипя, неслись цветущими лугами в буре огня и дыма. От селения с замирающими душами следили за ними и вои, и посели. И вдруг волы рухнули мордами в цветы и горящий хворост накрыл их. Тихий стон пронесся по рядам селяков, раздались рыдания надрывные, и вдруг яростный вопль покрыл все: высокий, костистый Ляпа во главе своих молодцов ринулся из леса на воев княжеских. Те смешались и от неожиданности нападения, и от того, что очень сомневались они в том, что сделали они тут хорошее дело. Но очнулись, справились, и началась исступленная сеча…
Селяки вооружались кольями тяжелыми, секирами, ножами и, помогая лесным молодцам, бросились на изменников веры дедовской… Ляпа страшно поднял тяжелую секиру свою над выстриженной головой Ядрея и захохотал: наконец!.. И вдруг с воплем бросилась перед ним белокурая Запава, одна из жен его, со своими русальими, страшными теперь глазами, и, широко раскинув руки, прикрыла собой Ядрея-Михаила. Но Ляпа, все хохоча, опустил секиру – и без стона с разбитым черепом рухнул в притоптанные цветы отец Михаил, а на него, пронзенная чьим-то копьем в живот, вся в крови упала Запава…









































