Читать книгу "Бес, творящий мечту"
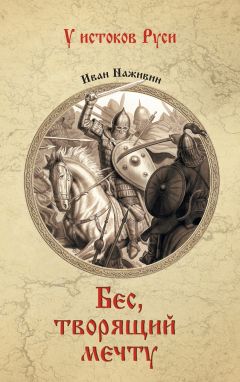
Автор книги: Иван Наживин
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Победа беса
По холмам володимирским зацвели вишни – точно вот вдруг по садам снег обильный выпал. Птицы радовались радостью весенней. Несмотря на страшный погром Руси, жизнь впроголодь и всяческую и во всем нищету, в молодых сердцах тоже зацвела весна. Сперва робко зазвенели хороводы вешние, а потом и посмелее, а доброселы и красноселы уцелевшие не утерпели и, как земля пообсохла, в первый же праздник вышли стенка на стенку и великий мордобой учинили… И по мере того как разгоралась весна, отец Упирь стал чувствовать, как одолевает его душу тоска весенняя, светлая, мечтой тяжелая. Жил он с попадьей в шалашике немудрящем и целые дни тюкал топором, строя себе избушку новую. Но топор просто из рук теперь валился: какая избушка? На что она? Зачем?.. Эх, сесть бы вот на коня борзого да и унестись в страны неведомые, где летают, слепя очи, жар-птицы и поют песни райские, где растут золотые яблочки и где в тереме высоком поджидает Упиря царь-девица с ясным месяцем во лбу… Попадья, конечно, попадья, тут спорить не приходится, но и царь-девица тоже царь-девица… И до того овладела Упирем мечта, что на Володимир и глаза его не глядели бы…
И вдруг он спохватился: да это опять бес, в камне живущий, в погибель его, попа, втягивает!.. На этот раз осерчал поп на беса до чрезвычайности. Какая же это жизнь после того: чуть зазевался, а он, окаянный, сейчас же тебя и оседлал!.. И раз бессонной ночью, когда по белым садам шел посвист соловьиный, и щелканье, и раскаты, Упирь вдруг понял: или он, Упирь, тут жить будет, или бес во камени своем, а вместе житья им нет…
И порешил Упирь окаянный камень в землю закопать…
Он подговорил на это дело своего свещегаса, старого и всегда сердитого Звездилу, и оба, дождавшись ночи потемнее, забрали лопаты и тихонько вышли на темную полянку. Крепко билось сердце в могучей груди Упиря, и великая смута была в нем: никак не мог отец Упирь разобрать, что в душе его теперь деется. И страшновато было: как бы бес штуки какой над ними не выкинул, – да и жаль словно маленько было камня бесовского, который тут испокон веку лежал. И смутно думалось, что уйдет бес с камнем своим, и уведет за собой и царь-девицу с ясным месяцем во лбу, и перестанут царь-птицы песни райские напевать Упирю, и замкнутся дали волшебные, в которые так тянет всегда его, попа несуразного… Но, с другой стороны, – мужественно решал он, споро роя песок золотой, – нет им вместе никакого житья: не то он поп Упирь Лихой, не то Иван-царевич из сказки старой. Нельзя вечно двоиться, троиться и, точно оборотень какой, сразу во многих личинах жить…
Копать было легко. Но все же Упирь упрел здорово: могила для беса требовалась немалая. А на Звездилу рассчитывать было нечего: он только, по обыкновению своему, ворчал что-то, да кряхтел, да Господа сердито на немощи свои призывал. И, опасливо косясь направо и налево, как бы врасплох не захватила его сила вражья со своими штуками, Упирь рыл могилу…
– Я думал, гоже будет… – сказал он, вытирая пот. – А, Звездило?..
– О, Господи Батюшка, прости наши согрешения… – сердито вздыхал и кряхтел старик. – Правда говорится: во грехе зачат есьмь и во гресех роди мя мати моя…
Выбравшись из ямы и опираясь на лопату, Упирь остановился на краю могилы. С него так и текло. И жалость к камню бесовскому все более и более овладевала им. Но нельзя было на полпути останавливаться, а то узнают про все володимирцы, засмеют: поп беса испугался, скажут! Они, черти, на язык-то вострые… А главное, нельзя жить надвое, а то и натрое, замаялся он с собой вчистую. Да и попадья на него все опасливо глядит глазами жалостливыми, опасается, как бы он опять штуки какой не отколол…
Тучи раздвинулись маленько, и в прорыв месяц ущербный на Упиря выглянул. Попу не понравилось это: точно свидетель какой непрошеный явился. Делая вид, что месяца он нисколько не опасается, отец Упирь еще раз на глазок примерил яму и камень. Ничего, в самый раз… И окстясь истово, стал он тихонько подковыривать лопаткой под камнем, с краю, чтобы бес его с собой в яму не увлек…
– А ну, попробуем… – тихонько бросил он Звездиле. – Становись рядом со мной… Берись… Ну…
– О, Господи Батюшка, Царь Небесный… – завздыхал и застонал старик, толкая вместе с Упирем камень в могилу. – Всуе мятется земнородный, как говорится…
Песок под камнем вдруг осел, и камень с глухим вздохом – ух!.. – тяжко рухнул в могилу…
Упирь даже присел от страха. Но ничего не было. И сразу поп осмелел и посмотрел на почти уже погребенного врага своего: с лицом-то духовным, знать, не всегда связываться бесу можно – ага! И втайне все на себя дивился: жалко вот камня, и шабаш!.. Он понял, что это искушение, и, поплевав для подбодрения себя на могучие длани свои, стал закапывать своего противника. Покрыть камень песком в уровень с землей, а остальной песок разбросать по темной поляне для могучего Упиря было делом нехитрым… Все было кончено, но – на душе была печаль.
– Ну, теперь и спать идти можно… – сказал он Звездиле. – Пойдем-ка, свещегас, отдыхать после трудов праведных… То-то теперь невегласы возропщут!..
– Ох, Господи милосливый, Батюшка… – застонал и закряхтел Звездило. – Недаром, знать, старики-то говаривали: Бог свое, а черт – свое… Поясница-то, поясница-то – хоть ты что хошь, а никак вот не разогнешься!..
Заговорщики разошлись, и, утомленный ночным бдением и трудами, отец Упирь заснул как убитый.
– Поп, а поп… – услышал он вдруг над собой тревожный голос своей попадьи. – Слышь, что ли?.. А, поп?..
– М-м-м… – пробурчал он.
– Вставай давай поскорее: беда! – тревожно говорила попадья. – Слышь, что ли, поп?.. Ишь, дрыхнуть-то здоров… А, поп?..
Может, поп и не скоро очухался бы ото сна, если бы ухо его не уловило злой галдеж большой толпы. Но он все же не мог сразу сбросить с себя цепи сна.
– Да поп!.. – не унималась маленькая попадья. – Вот истинный Господь, сейчас ведро воды холодной на тебя вылью!.. Ты эдак и царство небесное проспишь…
Но Упирь уже встал и обеими лапами продирал глаза.
– Ну, что там еще у тебя?
– Да на поляне камень бесовский кто-то зарыл… – тревожно заговорила попадья. – Народику собралось со всего города… И все в один голос на тебя указывают: следы-де по песку к нам на двор ведут…
– Дак что? – хриплым голосом сказал Упирь. – Какая тут беда?
– А ты вот поди к ним, потолкуй – ругаются на чем свет стоит!
Упирь поплескал из глиняного рукомойника на мосту воды в лицо себе, утерся рушником, который попадья сунула ему, и пришел в себя. Он уже понял, что маху дал. И, приглаживая волосы обеими руками, он вышел во дрянную, сколоченную из обгорелых дощечек калиточку. Вся поляна была в самом деле покрыта возбужденными володимирцами: они судили, рядили, размахивали руками и все на домик Упиря злыми глазами косились. И как только показался отец Упирь из калитки, толпа сразу зашумела, как рой обозленных пчел. Кто-то заливисто и обидно засвистал. Кто-то замяукал, как сам сатана.
– Ишь, плешь окаянная!.. – злобно крикнул голос.
– Да что вы, ребята? – струсив, сказал поп. – Чего это вы?
– Ты зарыл камень наш?.. – полезли вдруг на него со всех сторон злые лица. – Ты?!
– Я… – еще более смутившись, как-то жалобно пискнул Упирь.
– Зачем? Кто тебя просил?
– Он на грех наводит…
Толпу точно взорвало.
– Ишь ты, святитель какой выискался!.. Поп, а камня испугался!.. – закричала, захохотала, заухала толпа. – А твой он был? Твой?.. Может, сколько годов тут все мы гуляли да песни пели, а ты, идол плешивый, взял да всем и нагадил… Жеребячья порода…
И в могучую спину Упиря стали эдак легонько наподдавать. Он, как медведь, обертывался на тычки. И все орало и лезло на него – старики беззубые, горбатые уже старухи, молодые девки и парни: чистый вот Содом и Гоморра!..
– Не любо, так не глядел бы… – кричали все вперебой. – Чем он тебе мешал?..
– А бес…
– Сам ты бес, плешивый черт!.. И не бес, а сам сатана… Нешто можешь ты народу пакости творить?.. Ты от народа живешь…
Точно из бани, весь красный, вырвался из толпы Упирь. Но долго еще шумели володимирцы над могилой беса, творившего мечту столько веков. Одни уходили, другие приходили, и так шло до позднего вечера. Непутевого попа все кляли на чем свет стоит…
Но это были только цветочки – скоро появились и ягодки. В поисках за поддержкой пошел Упирь к одному попу, к другому на невегласов пожалиться… Но, к величайшему удивлению, и у них встретил он недобрый прием и хмурые взгляды: он забыл, что попы тоже ведь молоды были, что и попы, бывало, у камня ночи волшебные проводили…
– Да что это тебя черти дернули, скажи, пожалуйста… – недовольные, выговаривали они ему. – Ишь, тоже выискался!.. Сколько разов покойный владыка подковывал тебя на все четыре за это рвение твое, а ты знай все лезешь, где тебя не спрашивают… Э, пустая башка!..
Весь город – торговые, бояре, духовенство, черные люди, даже родственники Упиря – отвернулся от него. Все стали наводить на него посмех всякий, неподобные речи, продажу, и убытки, и скорби. От огорчения поп даже заболел. Что ни делала с ним попадья: и солью четверговой поила, и с уголька спрыскивала, ничего не помогало… Хотела она даже тихонько в Раменье к колдуну этому ихнему послать, да очень уж совестно было: все-таки поп, наставник душ наших… А Упирь от задумчивости худел и не знал, куда деваться от тоски, тем более что народ продолжал все ходить на бесову могилу, а возвращаясь, какой посердитее, иной раз и камнем в ворота запустит. А то озорники ночью нарочно тын повалят, растение зеленое в огороде повытопчут или иную какую пакость учинят – ну просто вот хоть на край света беги!..
Попадья все плакала: она любила жизнь тихую, мирную, благоутробную, в полном благодушестве. Наконец, кто-то пожалел ее и посоветовал ей к отшельнику Онуфрию сходить, который в Рождественском монастыре – он очень разорен был – спасался. Старец, узнав о болезни Упиря, дал попадье усмаг хлеба монастырского с солью.
– Вот, пущай поп твой съест хлеб сей, – сказал он шелестящим голосом. – Да, смотри, не зря, а чтобы с молитовкой… И будет здоров… А отчего с ним болезнь эта приключилась?
Попадья расплакалась еще пуще:
– От своей собственной глупости, отче…
И, давясь слезами, она рассказала старому отшельнику все.
– Какой камень? – воззрился тот на нее своими потускневшими глазами. – Тот, что у Миколы Мокрого на поляне лежал?
– Он самый, отче…
– Дурак!.. – покачал белой головой старец. – Воистину и трижды дурак… Ну, коли уж мутил так его бес, взял бы да покропил святой водичкой, и ладно… Дурак, дурак – так и скажи ему от меня…
Попадья, плача, отправилась домой. Отец Упирь с молитовкой уплел разом весь усмаг, и на другой день ему в самом деле полегчало. Но он не смел и глаз на улицу показать и все больше дома по хозяйству занимался: очень уж ему совестно было, что он так володимирцев изобидел. И почувствовал он в родном городе своем великую тесноту и неуют. И раз ночью теплой да звездной, тоскуя, вышел он на полянку над рекой, погрустил, и вдруг угнетенное сердце его процвело тихонько, как некогда в скинии жезл Ааронов, и – на коне крылатом унесся Упирь за горы и леса, в ту блаженную страну, где поют птицы райские, где цветут цветы лазоревые, а средь них ходит, попа своего Упиря поджидаючи, царь-девица раскрасавица…
Поп Упирь вскочил и гневно плюнул: истинно сказано, что сперва введет бес человека во искушение, а потом же, скотина, еще и насмехается!.. И, повесив голову, побежденный, поп Упирь зашагал домой и в сердцах хлопнул за собой калиточкой своей разбитой…
К угодничкам божиим
Весна цвела. В народе суздальском явно слышались две души: одна молодая, весенняя, встряхнувшись после погрома, радостно взялась за работу по восстановлению земли своей – авось больше гроза Божия не вернется, авось Господь помилует!.. – а другая тихо затосковала: уж очень все в мире сем непрочно и подобна жизнь человеческая былию – дохнул ветер хладный, и нет его. Так всегда после потрясений великих бывает. И стали эти смятенные души искать такого града, которому не страшны были бы никакие бури земли, града вечного, града верного, града светлого…
На Юрьев день, 23 апреля, мужики, как полагается, выгнали скот в поле. Пастухи, с иконой святого в руках, обходили стадо кругом, истово приговаривая: «Пошли, всемогущий Господи, святого Егория Победоносца с пламенным мечом на сохранение счетного скота моего – от зверя. От сглаза, от всякого лихого человека…» И, помогая пастуху держать в порядке обезумевший от внешней радости скот, бабы с освященными вербами в руках провожали своих кормилиц в поле. День был холодный, и с неба сеялся то мелкий дождик, то белая крупа, и посели радовались: дождик на Юрьев день – скоту легкий год, а крупа – урожай на гречу. И на другой день прилетела и рассеялась по полям последняя из птичек прилетных – соха… И хотя старая поговорка и говорит, что «до святого Юрия хлеб есть и у дурня», однако этим годом хлеба было мало даже и у толковых мужиков. Но все надеялись…
Ветер просушил уже дороги, леса оделись первым нежным листвием, и радовалось солнце в небе глубоком и теплом. Баушка Марфа собралась с Настенкой в Киев. С ними отпросилась у старика и баушка Степанида: может, помолится угодничкам Божиим, они и вызволят как-нито ее Аннушку из плена у поганых. Отец Упирь в минуту тоски собрался было с богомольцами суздальскими тоже, но, когда зашли они за ним, он только руками замахал: в город приехал князь Ярослав, брат покойного князя Георгия, от татар смерть на поле брани принявшего, и город закипел новой жизнью. Князь повелел и Миколу Мокрого отстроить враз, и Упирю приказал за всем делом смотреть. Теперь расхаживать уже нет времени, потрудиться надо. Жил он с попадьей уже в избушке новой, трехоконной, попадья уже и огородик для растения зелинного5050
Растения зелинные – овощи. При этом словом «овощеве» назывались фрукты.
[Закрыть] развела, телочку им благодетель один пожертвовал. Но надо было еще сараюшку какую ни на есть наладить, да и тын от озорников покрепче поставить. Нет, идти никак пока нельзя…
– А вы, родимые, идите, помолитесь… – говорил Упирь старухам. – Это гоже. И меня, грешного, там помяните…
Был он уже в новом, чистом иметии, и плешь поповская тоже выстрижена была, все честь честью. И плотники, что церковку Миколы из бревен сосновых, душистых рубили, завидев отца Упиря, шапки сымали, а которые обхождение с хорошими людьми понимали, те и под благословение подойти норовили… На могилу бесовскую отец Упирь старался не смотреть, чтобы сердца своего не тревожить: бес оказался сильнее его, и это было обидно.
Но если отказался идти с суздальцами отец Упирь, то пристал к ним Плоскиня рябой. Он постарел и все кашлял. Но великая тишина была теперь на его обезображенном оспой лице, а иногда и глубокое умиление. Говорил Плоскиня мало и от людей норовил держаться в сторонке… И другие старики и старухи, в погроме великом много пострадавшие, присоединились к баушке Марфе и, надев котомочки холщовые, взяв в руки подожки ореховые и к поясу лапотки запасные подвесивши, все, помолившись у Богородицы Златоверхой, в путь-дороженьку дальнюю тронулись…
Идти было больно гоже: земля вся была солнечная, зеленая, все цветами лазоревыми изукрашенная, пичужки на все голоса по лесам да по полям Господа славят, а на душе нет ни заботы, ни думушки, и вместе с пичужками она, робкая, запуганная, все Господа воспеть тщится. И по пути присоединялись к ним и другие страннички. В те годы вообще – даже до погрома еще – поклонение далеким святыням народ возлюбил настолько, что по церквам батюшки стали даже проповеди говорить и людей от таких странствий одерживать: молиться можно и дома. Но православные хмурились: не хошь – не ходи, а других не замай. Понимали они, что и попам пить-есть надо, а все же попов не слушались: ежели бы поп хоть раз единый от радости походов этих вкусил, так, может, сам первый передом пошел бы!..
Так и брели они потихоньку лесами да полями, горами да долами и все радовались. А пришли в Рязань – там тоже озабоченно и весело топорики тюкали, – походили, поглядели, погоревали и дальше пошли. И в сожженном Козельске тюкали топорики, и в Трубчевске подымалась средь развалин, ровно озимь, молодая жизнь. Горя везде – реченька глубокая, а зачем, только Господь один ведает. На ночлег по деревням разоренным останавливались – приютить странного человека исстари на Руси первым перед Господом делом считалось, – а не потрафят в деревне, тут же, у дороги, огонек разложат да и заночуют с Господом…
Раз в лугах на обоз волочан5151
Волочане – жители Волока Ламского, ныне город Волоколамск.
[Закрыть] наткнулись, которые с товаром всяким за солью в теплую сторону ехали. Стоят возы, оглобли вверх поднявши, стреноженные кони пасутся в сочных, росистых лугах, вздыхают да жвачку жуют волы круторогие, а волочане те круг огней разлеглись, гуторят. И богомольцы около их притулились. Разговоры пошли всякие про то про се, люди все добрые, обиды никому нету, гоже все так, умильно, по-хорошему…
В лесу леший разыграется, бегает, да шумит, да в ладоши плескать учнет, в камышах, над рекой русалочки белые хороводом проплывут, нежить всякая во мраке перекликаться да стращать начнет, но когда у человека крещеного крест на шее есть, а на устах молитва, что ты с ним сделать можешь?! А баушка Марфа про божественное рассказывать, как всегда на привалах, примется: про страдания Спасителевы, про тяжкие подвиги святых, про хождения Богородицы по мукам… И ладно бы книжный человек, так ведь не знает старуха и аза в глаза, а все по памяти валяет. Да как – заслушаешься!.. Вот уж воистину одарил Господь старицу даром чудесным…
И теплятся в небе вешнем звезды милые, и идут по лесам страхования всякие, а старушка, сидя у огонька, про Егория Храброго всем сказывает, да так-то напевно, так-то складно:
По колена ноги в чистом серебре.
По локоть руки в красном золоте,
Голова у Егория вся жемчужная,
По всем Егории часты звезды…
И рассказывает баушка, как на град Ерусалим напустил Господь царище Диоклетанище, безбожного пса, басурманина. Царь требует от Егория, чтобы отрекся он от веры истинной, но не хочет Егорий, и вот царь приказывает его во пилы пилить. Но:
По Божьему повелению,
По Егорьеву молению
Не берут пилы жидовские:
У них зубья позагнулися,
Мучители все утомилися, —
Ничего Егорию не вредилося:
Егорьево тело исцелилося,
Восстал Егорий на резвы ноги,
Поет стихи херувимские,
Превозносит все гласы архангельские!..
♥И рассказывает баушка притихшим слушателям среди лугов росистых, как приказал царище Егорья в топоры рубить, в сапоги ему ковать гвозди железные, в котел садить и в смоле варить, но – ничего Егорью не вредилося. И вот посадил его Диоклетиа-нище в тюрьму, и, когда, славя Господа истинного, просидел в ней Егорий тридцать лет, явилась к нему Божья Матерь и освободила его, и вышел Егорий на Святую Русь и пришел в град святой Ерусалим, и там, в соборной церкви, встретил он неожиданно мать свою. Узнав все, мать снаряжает воителя в путь по земле Русской:
Ты поди далече во чисты поля,
Ты возьми коня богатырского,
Со двенадцати цепей со железных
И со сбруею богатырской,
С вострым копьем с булатным
И с книгою, с Евангелием…
И, вышед на Русь, Егорий глаголет:
Вы леса, леса дремучие,
Встаньте и расшатнитеся,
Расшатнитеся, раскачнитеся:
Порублю из вас церкви соборные,
Соборные да богомольные:
Будет в них служба Господняя.
Зароститеся вы, леса,
По всей землe святорусской,
По крутым горам, по высоким…
По Божьему все велению,
По Егорьеву все молению,
Разрослись леса по всей земле,
По всей земле святорусской, —
Растут леса, где им Бог повелел…
И после приключений всяких доспевает Егорий и града Киева. На Херсонских вратах Киева сидит птица черногар и держит в когтях рыбу осетра. И велит ей Егорий лететь на окиян-море. И внутри Киева нашел он палаты белокаменны, где жил сам царище Диоклетианище. Увидавши Егория, кричит царище по-звериному, визжит по-змеиному, так, что конь Егория окарачился. Егорий убил царище Диоклетианище, до земли разрушил жилище его, утвердил в Киеве веру самому Христу, Царю Небесному. А потом взял он своих сестер, которые, околдованные, были в плену у Диоклетианища, велел им умыться в Иордане-реке, и камыш-трава с них свалилася, и еловая кора опустилася. И послал их Егорий к матушке…
И задумалась старая, в огонь глядючи…
– А что, баушка, правда сказывают, что когда кто в путь-дорогу, вот вроде нас, собирается, так гоже заговор Егорию прочитать?.. – послышался из темноты душистой, полной шорохов, шепотов всяких и раскатов соловьиных у реки, в уресме ростистой, голос одного из волочан.
– А как же, родимый мой?.. – отвечает баушка. – Известно, правда… Как соберешься в путь, стань где один в тишине и поистее прочитай вот эдак:
Едет Егорий храбрый на белом коне,
Златым венцом украшается,
Булатным копьем подпирается,
С татем ночным встречается,
Речью с ним препирается:
– Куды, тать ночной, идешь?
– Иду я людей убивать,
Гостей проезжих добывать.
А Егорий удал ему дороги не дал,
Православных обороняет,
В пути-дороге сохраняет…
Как можно… – заключила баушка степенно. – Это первое дело, родимый…
Одна из старушек сладко зевнула и рот, как полагается, перекрестила, чтобы нечистый не воспользовался удобным случаем и не забрался к старушке в душу.
– Воистину премудрость Господня… – назидательно сказала она. – А мы-то, грешники…
И опять зевнула сладко…
– Ну, давайте, родимые, укладываться… – сказала баушка, заражаясь ее зевотой. – А то ноги-то замаялись – надо и им покой дать…
И все укладываются под звездами, вокруг догорающих огней, и скоро в тьме росистой начинается на все лады храп. Только баушка Степанида вздыхает все, томится, Настенка тихонько, чтобы никто не слыхал, плачет о своем ненаглядном да старый Плоскиня, лежа на спине, все в звездную глубину смотрит и дивится на пролетевшую жизнь свою… А у огонька один из волочан лапотки плетет – этому спать нельзя: коней стеречь надо, – и, чтобы не уснуть, тонким, тихим голоском песню напевает унывную:
Уж как пал туман на сине море,
А злодейка-тоска в ретиво сердце, —
Не сойдет туман со синя моря
И не выйдет грусть зла из сердца вон…
Не звезда блестит во чистом поле,
Во чистом поле огонек горит.
У огня постлан ковер шелковый,
На ковре лежит добрый молодец…
Настенка – вся уши. В душе – мучительно-сладкая боль. И боится она и словечко проронить из песни степной. А волочанин, не думая, что его слушают, тянет потихоньку жалобную свою песню о том, как предлагает добрый конь удалому молодцу отвезти его на свою сторонушку, но тот отказывается и посылает коня домой одного, чтобы рассказал он там отцу с матушкой, молодой жене, малым детушкам, что изменил он вот им на чужой стороне, с другою ладой спознался:
Нас сосватала сабля вострая,
Положила спать калена стрела…
Настя вся трясется от сдержанных рыданий: не ее ли милый умирал там один, всеми покинутый, тоскуя о ней? И видит она, как
Его бела грудь подымается,
Руки белые опускаются,
Кровь горячая полила ручьем…
Боль нестерпимая и в то же время сладкая отрава песни степной баюкает ее истомившееся по милому сердце…
– О Господи, Господи, батюшка… – вздыхает в темноте баушка Степанида.
В небе высоком все звездочки падают и след серебристый по небу оставляют… А соловьи, соловьи!..
А утром на зорьке встанут, все от росы мокрые, помолются на восток, на зарю разгорающуюся, пожуют сухариков, водички изопьют и за посошки опять. Распростятся с волочанами по-хорошему, разойдутся навсегда, каждый в свою сторону. Но еще долго слышен богомольцам из лугов раздольных немолчный скрип тяжелых деревянных колес, издали так похожий на крики вспугнутой стаи лебединой…
И погоревали над разрушенным, черным Черниговом, где тоже топорики усердно тюкали, а в воздухе весеннем все стоял и не проходил этот дух тяжкий от убиенных, которых не отыскали еще под развалинами. И отстояли обедню, подкрепились у милостивцев и снова, подпираясь подожками, в путь дальний не торопясь пошли…
И, Господи, сколько радости было, сколько слез умильных, когда вдали, за седым Днепром, по горам заблистали наконец позолоченные верхи старых соборов киевских!.. Все, истово крестясь, опустились на колени и долго с усердием молились на святой град, и казалось уставшим сердцам, что это рай святой блещет там вдали, надежное пристанище для всех усталых и обремененных. А когда встали с молитвы, босые, натруженные ноги так сами и понесли их всех вперед, ровно вот у всех крылья за плечами выросли. А у пояса лапотки новые болтались на веревочке, ненадеванные, чтобы было в чем перед Господом в храмах киевских предстать…
И вот, наконец, и древний Киев перевоз: слава Тебе Господи, показавшему нам свет, – привел-таки Господь святому граду поклониться!..









































