Читать книгу "Бес, творящий мечту"
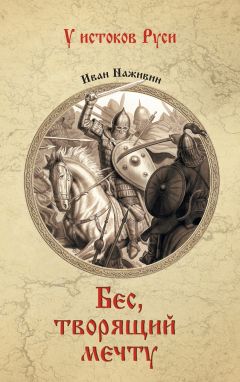
Автор книги: Иван Наживин
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Ведун
Я Бог твой. Я Тот, Который одевает поля муравою шелковой и листвием леса. В Моей власти плоды нив и дерев, стад приплоды и все, что идет на пользу человекам. Все это Я дарую чтущим Меня и отнимаю у Меня отвергающих…
Речь славянского бога Яровита
Сколько лет было деду Боровику, не знал никто, а он знал, да забыл. Одно время он ходил в поселке старшиной, головой рода, а потом вдруг – борода его была уже вся бела – все оставил и ушел в лес. Он выбрал себе местинку на берегу Десны, поставил крошечную избушку, обнес ее тыном и стал жить один, собирая на пропитание себе ягоды, грибы, орехи, мед и отыскивая на потребу людям травки целебные, волшвеные. Подкармливали его маленько и родичи. Но ему было всего так мало нужно, что все индо диву давались: «Чистый вот воробей наш дед, истинное слово!» Ничего никому худого старый Боровик не делал, со всеми был прост и ласков, но тем не менее, когда бабы или ребята по ягоды или по грибы шли или мужики по сено в луга ехали и видели издали среди могутных деревьев серенькую, прижавшуюся к земле избенку и эти белые лошадиные и медвежьи черепа по тыну, все чувствовали, как по спине их ползает жуткий холодок. Некоторые смельчаки подбирались поближе, чтобы поглядеть, что ведун делает, но ничего особенного не видали и они: ходит себе по хозяйству, секирой постукивает да все по-стариковски что-то про себя бормочет. И солнечно, и пташки поют, и веверицы прыткие по веткам качаются, а жуть… Ядрей так и не решился навестить старого родича: а вдруг как тот все угадает? Он стыдился теперь своей глупости чрезвычайно и ни за что не признался бы в ней. О вере заморской селяки хотя иной раз и поднимали речь – Ляпа, который поставкой князю в Киев ладей-однодеревок промышлял, много чудного про нее рассказывал, – но они смотрели на все это как на какую-то небывальщину. В особенности чудно им было, зачем им нужно было Бога распинать и как это Бог с собой такое дело допустить мог.
– А ну, попытай-ка нашего Перуна распять!.. – грохотали они и, довольные силою бога своего, переглядывались и приговаривали: – А ну, попробуй!.. Он тебе так распнет, что своих не узнаешь… О-го-го-го…
И еще больше смущался Ядрей…
Была весна. Десна гуляла во всей своей красе. Птицы табунами летели из Ирья пресветлого в Русскую землю. И немудрено: и тут, по затопленным яропольем лугам и лесам, было не только не хуже всякого Ирья, но, может, еще раздольнее, светлее, радостнее… И старый Боровик на заре каждое утро склонялся в тихой молитве пред встающим Хорсом благодатным, который лучами своими зажигал вкруг него по лесам, по лугам, по водам светлым эти пестро бушующие пожары жизни…
И вот вдруг раз из глубины темного леса, из этого горнила вселенской радости и любви, к избушке Боровика мальчонка вышел лет, может, десяти, а то и двенадцати, оборванный весь, бледный, с огромными темными глазами, налитыми жутью лесной. Что ни расспрашивал его ласковый дед, ребенок молчал. По одежде, по всему обличью видно было, что он свой, северской, но чьего роду – неизвестно. Он, видимо, и хотел говорить, но не мог – точно уста его запечатал кто печатью незримой. И наконец дед раскусил, в чем дело: в гостях у лешего мальчонка был, и, судя по всему виду его, немалое время. Это было делом довольно обычным. Заботливые матери, чтобы предохранить свое детище от шуток лесного хозяина, отправляя ребят по грибы или по ягоды, надевали им одежонку наизнанку – это против озорства лешего первое средство, – но иной раз опростоволосится какая, позабудет это, глядь, а ребенка-то и нет! И что ни ищут – нет, точно сквозь землю провалился… Бывали случаи, что леший держит так ребенка у себя по нескольку лет и он выходит потом куда-нибудь на люди из чащи лесной уже взрослым человеком. И уже на всю жизнь лежит на нем печать леса – и на душе его, и на всем облике…
Потихоньку стал парнишечка к деду привыкать, стал понимать его, а потом и сам стал слова ронять, точно вспоминал он их, точно он от сна какого лесного пробуждался. Но ни единого слова не проронил он – ни откуда он взялся, ни что в лесных пустынях он видел. Боровику тихий, ласковый мальчонка очень по душе пришелся, и радовался про себя старик: он давно уж вокруг себя поглядывал, кому бы науку свою лесную передать, но не находил подходящих людей для святого дела этого. И вот вдруг послали ему боги этого мальчонку с глазами темными, как лесные озера…
И спали вешние воды, и зацвели по лугам поемным цветы лазоревые, и Ярило, Ладо светлый, буйный, веселый, воцарился над землей Северской, и пришла неделя русальная, когда и лес, и поля, и селения гремят песнями в честь бога земной любви жаркой, и семик пришел, навьский великий день, когда хозяйки пекут пироги с яйцами, дрочены, яичницы, а молодежь вся в леса идет, к ключам-студенцам, и завивает венки и пляшет вкруг березки Матери, яркими лентами, как весна цветами, разукрашенной… А старый Боровик с сынком своим богоданным – он так Богоданом и назвал его – неутомимо ходил по светло-шумным лесам, по лугам изумрудным, поучая сынка тайнам травяного царства, премудрого, нерукодельного…
– Вот это трава хленовник прозывается, – говорил дед, срывая одну из трав и показывая ее Богодану. – Растет она всегда подле рек, собою, видишь, смугла, а ростом в стрелу, дух же от нее – понюхай-ка… – вельми тяжек… А это вот узик-трава: собою, видишь, листочки долги, что железца стрельные, кинулись по сторонам, а верхушечка мохната. Ростом бывает в пядь и выше… А это вот царские очи: собою мала, только в иглу, желта, как злато, цвет багров, а как посмотришь вот эдак против солнца, узоры всякие кажутся. А листвия нет на ней. Трава улик вот: сама она красно-вишневая, глава у нее кувшинцами, рот цветет, как желтый шелк, а листья лапками. Э-э! А эта как сюда попала? Это трава былие прозывается, растет она по горам, под дубьем, образ ее человеческой твари, а у корени – выкопай, не бойся – имеет два яйца, едино сухо, а едино сыро… А вот это травка царям царь, всем травам и деревам глава. Цветет она около Купалья, а издали кажет, будто огонь горит. Не всякому ищущему кажется, а кто найдет ее да не заговорит, то в другой раз уж найти не может: скроется обязательно… Вот ревяка-трава. По утренним и вечерним зорям она ревет и стонет, а кинешь ее в воду – дугой против воды пойдет. И ежели невпуть сорвешь ее, опять же реветь начнет она… Вот трава зимарг, собою бела и тоже против воды идет… А вот эта киноворот называется: хошь какая буря ни будь, она знай себе всеми стволами сразу на восток кланяется. Вот кликун, который по зарям кличет гласом по дважды эдак вот: ух-ух… Близ себя человека не допускает и семя с себя долой скидает, не дает человеку взять. А силу она имеет: к чему хочешь, к тому и годна…
И чутко слушал Богодан тихие речи стариковские и смотрел в травяной мир глазами своими темными и видел в нем чудеса всякие. И просил все: еще и еще чтобы говорил ему старец вещий о сокровенная мира сего. И, сев на берегу Десны светлой, на солнышке, дед Боровик любовно передавал ему науку свою.
– Больше всего травы собираются во время Купалья, в светлую ночь, но есть и такие, которые и в другое время искать надо. Иные даже самой ранней весной, как только снег сойдет, а другие – под осень, как трава белояр, к примеру, которая отцветает одним часом. Ночные травы – как папарать107107
Папарать – папоротник.
[Закрыть] черная, лев, грабулька, голубь и другие – цветут огнем. И иной цвет как огонь пылает, а другой как молонья бегает. И надо ведать день, когда какая трава зацветает. И собирать их тоже надо знать как: одну – с заговором, другую – с обрядом старинным, а третью – и с почестями. Адамову голову, к примеру, архалин, одолен, папарать бессердешную, метлику обязательно надо скрозь золото или серебро пронимать: или монеты вкруг нее по земле разложить, или цепочку какую золотую или серебряную… Траву расстрел следует копать под Купалье, рано, до солнечного восхода, и самому быть в великой чистоте надобно, за три дня до того не надо гневаться и ко всякому податливым быть надо. А чтобы взять траву полота нива, нужно кинуть ей золотую монетку. А как будешь рвать ее, пади на колени и, схвативши траву, торопись обернуть ее шелковым скарлатным108108
Скарлатный – ярко-красный цвет.
[Закрыть] лоскутом, или золотым аксамитным, или бархатным… Трава раст ранней весной цветет, из-под снега. И как сорвешь ее, на то место яйцо положить следует. А трава разрыв по старым селищам растет и в тайных и темных лугах и местах. Ежели на ту траву скованная лошадь найдет, то железы спадут. А коса набежит, то вывернется и изломается. И развязывает та трава всякий узел. А рвать ее так надобно: если где соха вывернулась или коса изломалась, то выстилай на том месте сукно, или кафтан, или епанчу, только бы чистое, а она выйдет наскрозь – и ты возьми и шелком только наднеси, и она к шелку пристанет. А взявши, положи в горшок и воском залепи: а то уйдет беспременно. Ну, вот… А теперь давай пройдем бережком еще маленько – тут вот, в удолье109109
Удолье – низина.
[Закрыть], добрые травы растут…
И тихим берегом светлой Десны, над водой, опушкой старого бора они пошли дальше.
– Вот бел таленц стоит… – продолжал старик любовно. – Ежели настоять ее и пить, узнаешь все прочие травы и на что они нужны бывают. Сказывают, что ежели ты ее на себе имеешь, то травы и всякое древо и зверь с тобой говорить будет, и скажутся, на что они надобны. Притом же и прочих животных, гадов и зверей гласы узнаешь, и что они промежду собой говорят, и все премудрое познаешь. Но я до этого не дошел еще… То же про траву муравеиц сказывают, и про траву бал: с ней не только языки звериные человек понимать может, но будет он знать и о чем вода говорит, и про что лес шумит. Есть еще трава перенос – только я ее не знаю. Доброе ее семя, сказывают. Положь его в рот да поди в воду, вода расступится. Хошь, спи на воде, не затопит. Трава железа помогает человеку птицей или зверем переметнуться и невидимым стать… А это вот… – он нагнулся и поднял на песке длинный камешек, похожий на острие стрелы, – а это вот камень, что громовой стрелой зовут. Цветом он бывает всякий, а больше, как этот вот, красен искрами. Когда кто испужается грому Перунова, положь этот камень в воду и давай пить. Многие его в перстень на руку вделывают – от всякого видимого и невидимого злодея он предохраняет. И демоны Перунова камня крепко боятся. А захочет какой молодец на кулачки биться, то с камнем этим на руке всякого одолеет… Примечай все, соколик, – еще и еще раз повторял Боровик. – И все запоминай накрепко… Великое это дело, первое дело!..
И в больших темных глазах Богодана были жуть и восхищение. Странные, дивные речи ведуна точно преображали мир и делали его одним сплошным огромным и восхитительным чудом. И вот на каждом шагу, если уметь видеть, лежат ключи к этому чуду, которые не только отпирают его, но и дают дивную власть над всею жизнью, над всем невозможным…
Они незаметно подбились к Боровому перевозу, от которого убегала в леса торная песчаная дорога на Чернигов, на Любеч, на Новгород славный. Ветхий паром только что подошел с того берега и тупо ткнулся в песок. Грохоча, съехала на берег телега. И вдруг раздался истошный крик, и пожилая баба, увязая ногами по песку, бросилась к Богодану.
– Сыночек ты мой!.. Ненаглядный… Золотко…
И, обливаясь слезами, она стала обнимать и целовать мальчика. Тот, едва улыбнувшись ей какою-то далекой, бледной улыбкой, сейчас же опять потух и заперся в себе. Подбежал и мужик. И, плача, оба рассказывали деду, что сын пропал у них еще прошлым летом, и где был он, они не знали. Они хотели забрать ребенка с собой, но мальчик судорожно ухватился за сухую руку деда Борового и смотрел на них отчужденно.
– Не замайте его… – сказал Боровик. – У всякого своя звезда. Коло меня познает он вся сокровенная и на пользу человекам жить будет… А вы теперь знаете, что чадо ваше живо, и, когда можно, навещать его будете… Он у меня уж обвык…
И после долгих слез и причитаний селяки согласились. Боровика боялись все, и супротив него выступить никто не осмелился бы. И, когда Богодан услыхал, что он остается у вещуна, на тихом личике его опять скользнула бледная улыбка, и на миг потеплели его чудные глаза…
Купалье
Ай да наша утушка,
Ай да наша серая —
Вот какого нашла себе селезня,
Селезня молодого, хохлатого!..
Русская народная песня
И так, среди любовных песен цветущей земли, среди гроз благодатных, среди писков, и зовов, и страхов, и восторгов молодой жизни, загоревшейся по лесам и лугам бесчисленными огнями, подходило к концу недолгое, но ослепительно радостное царствование Ярилы и незаметно подкралось Купалье, макушка лета, когда солнце на зиму поворачивает, а селяки должны все силы напрягать, чтобы справиться с трудами неотложными. «Плясала бы баба, плясала, да макушка лета настала, – говорили посели, почесываясь перед великими трудами в огневых полях. – Всем лето пригоже, да макушка тяжела!..»
И вот подошел и вещий день Купалья.
Чуть выгнали по росе скотину на пасево, как по поселку зазвенели девичьи голоса:
– Девки, девки, Купалу обряжать!..
И тотчас же на задворках, под овином, закипела горячая работа: загорелые проворные руки мастерили большую куклу Купалы, другие тащили новое липовое корыто, третьи цветы да ветки зеленые собирали… А в лесной глуши своей старый Боровик, весь охваченный восторгом духовным, творил про себя древлюю молитву богу весны, богу любви. И Богодан, сжав на худенькой груди ручки, истово повторял святые слова богу любви. Но в душе его было что-то большее этих слов, чего высказать он не мог бы никак и что его томило всегда до муки великой…
И весь этот день по всей великой земле славянской, от самых берегов Дуная до Днепра, до Волги-Итиля, до Ильмень-озера, по всем головам, по всем сердцам бродило что-то солнечно-пьяное. Кровь играла не только у молодых, но и у стариков, свою молодость вспоминавших…
И наконец отгорел закат за Десной огненной, и тихими стопами, по мхам зеленым, неслышно подошла ночь, вся силами тайными исполненная. Все вокруг исполнилось чуда. Цветы и травы загорались и обещали самое невозможное. Деревья в тихой беседе неслышно переходили с одного места на другое… И в стороне от поселка, на лугу, над Десной собралась с горящими сердцами молодежь. Были и из дальних поселков, как и здешние молодцы уходили на другие игрища – туда, куда звало сердце… Двое принесли две плахи сухих, и все, переговариваясь низкими от волнения голосами, собирали по опушке старого бора сушняк для купальских пожаров. Добывать огонь от огнива в этот вечер не полагалось – только трением дерева о дерево можно было получить его для священных костров. И парни на сменках усердно трудились над сухими плахами, и все, замирая душой, с нетерпением ждали. И вдруг в сиреневых сумерках все вздрогнуло: пыхнул между плахами зарницей голубой первый огонек и спрятался. Приятно гарью запахло. Молодежь удвоила усилия. Слышалось тяжелое дыхание. И огонек пыхнул еще и раз, и два, и три и вдруг расцвел на смолье золотым цветком…
Еще несколько мгновений радостной суеты в теплом душистом сумраке – и вот по темному лугу вдруг загорелись золотые костры-пожары. И из душистого сумрака выступил на опушке леса, весь розовый, Перун, бог высокий, которого поставил тут старый Бобер, отец Ляпы, первый богатей на весь поселок… И так же ярко, и так же жарко вспыхнули в молодых сердцах огни любви желанной. Сияли глаза, улыбались уста, и все тело нетерпеливо рвалось точно в полет какой…
– Горелки, горелки!..
И среди огневых дворцов по поляне росистой весело выстроились одна за другой пары цветные. Девушки были в рубашках широких, вышитых, в бусах зеленых, а на головах были венки из последних цветов. Впереди всех стал по жребию молодой парень, которому предстояло «гореть».
Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло, —
возбужденно зазвенели голоса над закутавшейся в нежный туман рекой.
Взглянь на небо —
Птичка летит!..
И первая пара, один справа, а другой слева, понеслась вперед, в пропитанную золотом пожаров теплую летнюю тьму. Горевший Ляпа, развертистый, но некрасивый молодец, много уже раз ходивший со своими ладьями в Киев, оглянулся и, увидев хорошенькую Запаву с ее русалочьими глазами, несущуюся навстречу своей паре, с криком бросился за ней, чтобы взять ее в полон, разбить пару, не дать ей соединиться. И стоявшие пары кричали и хохотали от сжигавшего их нетерпения, и, когда Запава после всяких уловок и угонок, обманув Ляпу, соединилась наконец со своей парой, все бурно приветствовали победителей, а Ляпа, недовольный, но старающийся недовольство свое скрыть, снова стал впереди – «гореть».
Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло…
И снова цветным вихрем среди огней и бурных криков и спорого топота босых ног завихрилась жаркая летняя игра. На этот раз Ляпе удалось разбить пару – бежал Ядрей с маленькой, вертлявой колдуньей Званкой, – и на его место стал, как полагалось, Ядрей. Бежать же должна была Дубравка с приятелем его, Хмелем. И среди восторженного визга всех и криков и плескания в ладоши Дубравка понеслась в золотой сумрак. Ядрей бросился за ней, но напрасно: она крутилась среди огней, то исчезая, то вновь появляясь, как бешеная и не давалась никак. Но не давалась она и Хмелю. Каждый жест ее, каждый порыв вызывал бурю восторгов. Ее пара, Хмель, обежав пожары, с восторженным криком бросился было к ней, но красавица точно, без всякого усилия перелетела через огонь и попала в сильные руки Ядрея. Все вокруг восторженно заревели: во-первых, потому что вышло это у нее так красиво, а во-вторых, потому что было это дерзким нарушением всех правил дедовской игры. Она должна была искать соединения со своей парой, а не с Ядреем. Но она, гордо закинув головку, дерзко улыбалась золотой от огней улыбкой и не отпускала руки завоеванного Ядрея. И они стали в хвост и прижались, горячие, один к другому, и Ядрей в разгоревшееся ушко красавицы нашептывал волшвеные слова, она с первой же встречи, тогда, у обмерзшего колодца, зажгла его… Но мучилась тайно Запава-русалка, тоже крепко Ядрея полюбившая, и хмуро смотрел на счастливую пару Ляпа, давно уже вздыхавший по Дубравке…
Огнем горели распаленные молодые тела. И один за другим валились они в душистую росную траву: ох, моченьки моей больше нету!.. Но это только так было, девичьи причуды одни, так как не прошло и нескольких минут, как среди разгоревшихся огней зазвенел колдовской голос Дубравки:
За реченькой яр хмель…
И сразу стройно подхватил хор:
Яр, яр хмель…
И зазвенел серебром высокий голос красавицы:
Перевейся, наш яр хмель…
И еще стройнее отозвался хор молодых голосов:
Яр, яр хмель…
И пошла на зеленом душистом лугу нарядная перекличка.
На нашу сторонку… —
выводила Дубравка. И сейчас же отзывался хор:
Яр, яр хмель…
И стройно нарастала, отзываясь в звонкой лесной чаще, старая песня:
На нашей сторонке
Удача большая:
Тычья золотые,
Ветья шелковые…
Нащиплю я хмелю,
Хмелю ярого,
Позову я гостя,
Гостя дорогого,
Батюшку родного…
Мой батюшка пьет-ест,
Домой ехать хочет.
А я, молоденька, горе горевати.
Но я не умею горе горевати,
Только я умею скакати, плясати.
И стройно, тепло, нарядно отзывался хор:
Яр, яр хмель…
И, точно спрыснутые живой водой, все повскакали с примятой шелковой травы, заплескали в ладоши, и, ядовито играя в сердцах, зазвенел-зачастил серебристый голосок Дубравки:
Ах вы, сени мои, сени…
И разом сорвалась горячая лавина:
Сени новые мои!..
Подбоченившись, Дубравка выскочила вперед, на чистое место, и, задорным жестом отбросив назад черные косы, вся так и затрепетала, выжидая. И бросился к ней пьяный ею Ядрей.
Сени новые, кленовые… —
еще жарче завихрились голоса, и пестрым вихрем заметалась в пляске ярой красавица Дубравка. Ядрей, умоляя ее глазами, улыбкой, всем телом, все забыв, метался за ней, совсем пьяный, но ни одним движением не нарушая строя плясовой песни:
Вы решетчаты мои…
И вылетела разбитная Званка, а за ней вздыхатель ее Хмель. И завихрились и эти…
Уж, как знать, мне ли, младой,
По вас, сеничкам, не хаживати,
Уж как мне мила дружка
По вас, сеничкам, не важивати…
Радостно вздрагивали чащи лесные от огневых песен, но торжественно-жутко было все же по темной, теплой, душистой земле. Все точно насторожилось в ожидании вещего часа полунощного. И дед Боровик, творя заклинания древлие, бродил с тихим Богоданом по горам и долам, все замечая, и трепетно ждали оба огневого цветения волшвеных трав. Другие боялись ночной нежити в эту ночь, но Боровик бродил повсюду без всякого страхования, а наоборот, был он глубоко умилен великими таинствами этой ночи, и горело его старое сердце, как свеча воску ярого, как вон та звезда золотая над пустыней лесной. И деревья тихо переходили с места на место и шептали речи вещие, и блаженно дремал в овраге, у студенца звонкого, леший, хозяин лесной, а на тихой завороженной реке играли мавки-русалки жемчугом лунным, который разбросала повсюду светлая Мокошь, над темными лесами поднявшаяся.
Заплетися, плетень, заплетися, —
нарядно звенело среди огней, —
Ты завейся, труба золотая,
Завернися, камка крущатая…
И колдовала ночь среди огней, и звездные хороводы плыли над темной землей, и Сошка Золотая110110
Орион.
[Закрыть], боком поднявшись над лесами, говорила, что полночь близко…
Расплетися, плетень, расплетися…
И жались молодые тела одно к другому неодолимо. Сладки были песни, любы были пляски, и весь шум этот, и хохот, и шутки, но еще слаще, всего слаще было на милой груди… И кружились головы в истоме блаженной, и горели сердца огнями хмельными, и вся жизнь казалась одним пожаром святым, чашей золотой, из которой волшвеной напиток бьет через край…
Заинька, беленькой… —
завела неутомимая Дубравка только для того, чтобы разорвать томительные, колдовские цепи, которые связали ее неспокойную, огневую душу с душой ее Ядрея, чтобы отдохнуть от плена их… И закружился хоровод многоцветный среди огней купальских:
Хожу я по хороводу,
Гляжу я, смотрю я по всему народу…
И как жарко, как радостно зазвенели молодые голоса, когда дошла песня до конца:
Нашел я, нашел я
Себе ладу милую!.. —
причудница, вдруг оборвав песню, схватила горячей рукой Ядрея за руку:
– Ну?!
Он сразу понял ее. Оба, держась за руки, понеслись к ближайшему пожару и широким прыжком махнули через золотой чертог огня. На мгновение их охватило полымем, дыхание пересеклось, глаза ослепли, но быстрые, крепкие ноги уже несли их росистым лугом дальше, к следующему костру… И они перелетели через него и опять понеслись дальше… А за ними уже спели другие пары. Это было одновременно и признание тайного перед всеми, и в то же время очищение огнем, святым сварожичем, для жизни новой…
Среди пожаров шел хохот неудержный, и вскрики, и визги, но Ядрей с Дубравкой, обнявшись, уходили берегом завороженной, полной жемчуга лунного Десны в страну неведомую, и близкую, и от всего страшно далекую.
– Лапушка… – блаженно стонал Ядрей. – Горносталечка моя белая…
Но она запечатала уста его горячей печатью: на что слова?!
Медовые запахи росных трав пьянили. Вверху, глубоко-глубоко, стада Велесовы по небесным лугам разбрелись. Слышались шепоты тайные, шорохи, всплески, вздохи… И за рекой, над лесами, как будто уже чуть светлеть начало…
– Лада моя…
– Ненаглядный…
И где-то под берегом, в заводи тихой, тяжко бултыхнулось что-то, и сочно захрустели травы буйные под осторожными шагами… Оба взметнулись и сквозь куст цветущей калины осторожно поглядели к воде. Легкий туман, предвестник рассвета, уже поднимался над лугом. И горячие губы Дубравки тихо, со смешком, шепнули ему в ухо: «Тише!.. Кто-то вроде нас Купалье празднует… Мы постращаем их…» И он услышал ее сдержанный смех, озорницы милой, и крепко прижал ее к себе. И вдруг она тихонько вскрикнула: прямо на них медленно шли из пахнущего медом тумана две светлые тени, и озирались, и склонялись к росному лугу, и опять медленно шли… Оба сразу узнали, что это дед Боровик с Богоданом, но им не хотелось так признать его: как было бы жутко и хорошо, если бы это был дед водяной или какой дух луговой незнамый!.. И Дубравка взвизгнула тихонько и бросилась к гулянкам. И Ядрей бросился за ней: он-то в самом деле побаивался встречи с вещим стариком из-за тайны своей несчастной…
Дед Боровик, заслышав их стремительный бег, остановился, прислушался и усмехнулся в свою белую бороду: так, бывало, и он проводил в старые годы эту вещую ночь светлого Ярилы. В белой холщовой сумке его было полно трав заветных, а в душе стояло светлое умиление пред несказанной красой жизни земной.
Дубравка у догорающих огней всполошила всех:
– Водяной, водяной лугами ходит, и с дитенком своим!..
И от жуткого, прерываемого смехом рассказа ее еще краше стала росистая, умирающая ночь. И Запава смотрела на нее страдающими глазами, и злился, как всегда, длинный Ляпа. А молодежь набрала уже еще сушняку, снова подняла золотые дворцы над лугом, снова полетели сквозь огненные, золотисто-красные космы молодые пары, и снова загремела плясовая:
Во лузех, во лузех
Еще во лузех, зеленыих лузех…
Выросла, выросла,
Вырастала трава шелковая…
Расцвели, расцвели,
Расцвели цветы лазоревые…
И уже метались в пляске бешеной пестрые пары…
Не отдай, не отдай,
Не отдай меня за старова замуж…
Старова, старова,
И я старова насмерть не люблю…
А за рекой белело… Звезды побледнели, побледнели пожары… Туман густел. А молодые голоса полыхали под заливистый молодецкий посвист и мерное плесканье в ладоши:
Ты отдай, ты отдай,
Ты отдай меня за ровню замуж…
Ровню я, ровню я,
Уж я ровню душой люблю…
С ровней я, с ровней я,
Уж я с ровней гулять пойду…
Уморились, замаялись и, горящие, опять на траву росную повалились…
– Ребята, а ведь светает!.. – крикнул кто-то.
И сразу по всем этим завороженным огневой ночью душам прошла полосой, как туман предутренний, тихая печаль: неужели уже конец?!
Еще немного – и среди догоравших костров-пожаров тихо, торжественно, со смехом на устах иногда, но с печалью в душе по лугу к реке потянулось шествие: четыре парня несли передом липовое корыто с разукрашенным в цветы последние Ярилом. Бог любви вместе с солнцем отжил свою жизнь, и это было погребение его. И все подошли к крутому обрыву над туманной Десной и помедлили: жаль было сердцам расстаться со светлым богом! Но неизбежное – неизбежно… И вот два парня взяли Ярилу за голову и за ноги, раскачали и – бросили в туман. Внизу, под берегом, послышался тихий всплеск воды, испуганно засвистали спавшие на отмели кулички носатые и – Ярилы не стало…
Молодежь сбежала к теплой, как парное молоко, воде – по ней шли от зари розовые отсветы, – и Дубравка первая бросила в реку свой привядший, растрепавшийся венок. За ней скорее полетел и венок Ядрея. Венки закружились, мелкие волны кругами, играя, от них пошли, но сейчас же венки соединились вместе и весело поплыли по течению. Дубравка радостно забила в ладоши, и закружилась, и засмеялась: будет, будет она за суженым своим, и счастлива будет их жизнь!.. Ядрей, точно заколдованный, не мог насмотреться на свою ладу огневую… И другие венки полетели в воду. И одни кружились, точно привязанные, на одном месте – это предвещало семейные ссоры; другой – то был венок Запавы-русалки – к берегу прибило, и затуманилась бедная Запава, а один даже неизвестно почему на дно пошел. И бросившая его беленькая, худенькая Званка лицо обеими руками закрыла: страшное это знамение!.. И подруги все бросились утешать ее:
– Это так что-нибудь… Ничего… Можно к деду Боровику сходить, он поможет… Он на все слово знает… Богам жаризну сотворит – и все ладно будет…
И скоро все, весело галдя, поднялись на туманный луг. Заря горела – вокруг было розово и радостно… И все стали умываться обильной, свежей росой – на очищенье, на здравие, на всякую радость в жизни…









































