Читать книгу "Бес, творящий мечту"
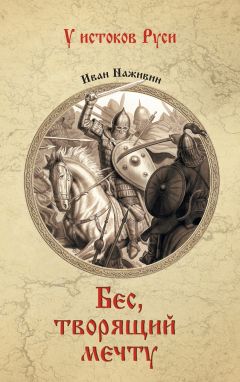
Автор книги: Иван Наживин
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Новая мета Великого Новгорода
Потихонечку да полегонечку перебрались повольники и на Волгу-матушку широкую, да глубокую, да рыбную… Тут дело пошло у них куда веселее: плыть приходилось уж заводу, а иногда ширь реки давала возможность подымать, кроме того, и паруса. Гоже было!.. Сожженные татарами городки и селения наводили на душу тоску, и не могли новгородцы втайне не радоваться, что до них поганые не дошли-таки. Но над великой рекой стоял уже немолчный стук топоров плотницких: городки отстраивались уже заново…
Прошли сожженный Ярославль. И он потихоньку, под стук топоров, вставал из пепла… Изредка из прибрежных лесов показывались свои поганые: справа – мурома, слева – черемиса. Слух о разгроме Руси татарами дошел и в их лесные дебри, они очень осмелели и иной раз, крича что-то грозное, пускали по ушкуям несколько стрел отравленных. Но стоило повольникам сделать только вид, что вот сейчас они пригребут к берегу и ударят, как поганые сразу исчезали в своих лесах…
Прошли Нижний. Справа началась обширная земля мордовская. Тут вражда поганых сказывалась еще заметнее. Когда на ночь становились станом на берегу и раскладывали пожары, приходилось уже иногда выставлять сторожевое охранение, а то иной раз подбирались поганые чащами лесными к огням поближе и посылали по повольникам свои стрелы отравленные…
Волга становилась все шире и шире, все краше и краше. Упирь, отдыхая после гребли, все на носу своего ушкуя сидел, глядел восторженными глазами в эту зеленую ширь, весеннюю, радостную и все про себя песни потихоньку мурлыкал заунывные. Вспоминалась тогда попадья его милая – и куды, куды она, бедная, только делась?! – и вспоминалась старая жизнь, и тянуло его назад… Но посмотрит он в синие дали эти и вдруг всей душой радостно ощутит, что жизнь – впереди. И снова грезятся ему какие-то подвиги богатырские, слава шумная, богачество великое – кто знает, что спрятано в далях для человека?!
Подошли наконец к изливу Камы, и все так и ахнули: экий простор, экая силища!.. И против камской воды грести было и вовсе трудно: вода так стеной и шла, чистая, да синяя, да холодная… А по берегам все леса темные, бесконечные… И так, в трудах, подошли к устью Вятки, что в Каму с полночи пала. Куды, казалось бы, зашли, а и тут слева все еще тянулись владения Господина Великого Новгорода. А справа земли болгар уже начались…
Около полсотни лет тому назад пришли в эти края также вот артелью повольники удалые и наткнулись на Вятке-реке на городок вотяцкий. Повольники взяли его на копье. Закрепились в нем и, так как тотчас же хлынула в него по их следам всякая вольница, то и дали ему прозвище Хлынов-городок. Хлыновский край очень быстро стал тем же, чем потом стал Тихий Дон на Руси: со всех концов Руси сбегались сюда те, кому дома тесно было, кому наскучила старая жизнь, кому хотелось воли отведать. Бежали сюда смерды, бежали ремесленники, бежали холопы, которым кабала осточертела. И в качестве попов – абы люди, а поп буде – орудовали у всей этой голоты всякие расстриги, а то и просто самозванцы: выстрежет себе плешь, окаянный, да и бормочет не зная что!..
Хлынов-городок был новгородской колонией, роем, отроившимся от старого улья. Разница была в том только, что князя себе хлыновцы не брали. Здесь всем вече верховодило: горланило, пило, сварилось, дралось и – истинное чудо Господне!.. – дело свое все же как-то делало: край потихоньку заселялся, устраивался, жизнь налаживалась, рубежи раздвигались. И, как и в Новгороде, и здесь чуть что вспыхивали толки: «Одни трудишася собирающее си в трудах их внидоша». Но, несмотря на все баламутство, дело все же потихоньку шло, и высоко носили голову хлыновские вечевики: мы-ста да вы-ста, а вольному городу Хлынову никто не указчик!..
Ватаге Хотя Зуболомича больно хотелось побывать в вольном Хлынове, но Хоть заартачился: нечего по наезженной колее ездить – надобно новые гостинцы пробивать!.. И ватага ударилась в верховья Камы, в край совсем еще дикий, лесами могутными, зверем всяким, рыбой, камнями самоцветными и золотом богатый. Но все же долго промежду себя ушкуйники толковали: завидки их брали на вольное житье хлыновцев…
– А у нас что за неволя?.. – возражали, которые постарше были да постепеннее. – Что князь-то сидит? Уж на что крут теперешний Александр Ярославич4848
Позднее стал известен как Александр Невский.
[Закрыть], а и ему указали новгородцы: на всей воле новгородской и на всех грамотах Ярославовых ты нам князь, управлять ты должен только по старине да по пошлине…4949
Пошлина – искони заведенный обычай.
[Закрыть] Князьям и палаты свои в Новгороде ставить не позволяется, а сиди на Городище! А до него от города-то два поприща… А чуть что, сейчас же и ему путь покажут…
– А тады на что он и нужен?..
– А для порядку. В случае рати князь первое дело… Наши отцы так, бывало, князьям и говаривали: камо, княже, очима позриши, тамо мы головами своими вержем… А рать кончилась – знай, сверчок, свой шесток!.. Вот, старики сказывают, захотел Святослав князь отнять у Твердислава посадничество. А вече сейчас же: а в чем вина Твердиславова? Без вины… – говорит князь. А Твердислав, не будь дурак, возьми да и подсыпь: рад-де что на мне нет вины, а вы-де, братья-новгородцы, вольны в посадниках и в князьях… И вече порешило: княже, ты нам крест целовал без вины мужа власти не решать. Тебе кланяемся, дескать, а посадник наш, и мы тебе его не выдадим… С тем князь и отъехал… А то было, князь Юрий Торжок наш уж занял и шлет нам гонца: «Я поил коней моих Тверцою, напою и Волховом!..» А вече все, как один человек: «Твой меч, а наши головы, княже…» И сейчас же на битву строиться начали. Князь одумался да и дал нам мир: поворачивай оглоблями назад, как говорится…
– Эй ты, Положи Шило, не зевай, а то на камень нанесет!.. – крикнул кто-то рулевому. – Развесил уши-то!..
Река становилась все ỳже да ỳже. Справа громоздились за облака лесистые горы. Вода шла с такой силой, что часто, в местах особенно узких, приходилось слезать на берег и тянуть ушкуи бечевой. Работа превращалась в какой-то бой с рекой. Но ушкуйники не только не унывали, но, наоборот, разгорались все больше и больше. Часто с берегов лесные жители, вотяки, делали знаки им, прося остановиться, показывали им меха дорогие, зуб рыбий, золото, но Хоть только отмахивался: потом, потом!..
Добились до того, что дальше идти рекой было уже совершенно невозможно: до того велика была тут быстрина. И, оставив ушкуи под надежной охраной, Хоть повел своих молодцев по горам. Сердце ликовало: какой простор, сколько зверя всякого, сколько птицы, сколько рыбы!.. И, наконец, ударил в землю своим подогом:
– Вот тут и поставим мы наш городок!..
Новгородцы уже хаживали и за Обь-реку, но городков так далеко никто еще не ставил. И на другой день уже звонко застучали в чашах лесных топоры: то новую мету клали новгородцы силе и славе Господина Великого Новгорода… В тот же день прислали послов поганые: земля наша, не ставьте городка… Послов напоили, послов одарили и – спровадили. А когда поганые вывалили из лесу большой толпой с оружием в руках, им такой отпор повольники дали, что те куда и броситься не знали…
И так вырос новый городок на лесной украине земли Новгородской, и очень скоро, видя, что незваных гостей ничем не выкуришь, явились лесные люди с мехами драгоценными, с костью мамонтовой, с камнями самоцветными. А им давали оружие – какое похуже, – бусы многоцветные, какие поярче. Торговлей верховодил Федька Умойся Грязью, такой ерник, такой срамослов, что и новгородцы плевались на его выходки, плевались и ржали…
Но мух ртом ловить было некогда, надо было и в обратный путь готовиться, чтобы до заморозков в Новгороде быть. В новом городке остались охотники. Хоть оставил им нераспроданные еще товары, а сам грузил ушкуи добром наторгованным – бобры какие, какие соболи, какие горностаи, куницы!.. – и съестным припасом. И, распростившись с оставшимися, новгородцы весело понеслись на своих ушкуях вниз – до будущего года… Пук, до всего дотошный, наладил гусли свои семиструнные и, чтобы подбодрить молодцев, ударил:
Он мастер наш Пук на гусли играть,
Игре играть и напевок напевать —
Про старые времена и про нынешни,
И про все времена доселюшные…
Упирь долго колебался: тут ли на приволье диком остаться, назад ли ехать? И неотвязная мысль о попадье своей милой победила: может, где он и найдет бедную?.. Пошел назад и Плоскиня. В одной из стычек с погаными стрела поранила его в плечо, и плечо все болело. Но – заметно было – еще больше болела о чем-то душа старого воина. Он стал очень молчалив, и часто на его обезображенном лице вдруг проступало выражение какого-то грустного покоя. Он точно к чему внутри себя прислушивался, к чему-то новому, и глубоко вздыхал потом и смотрел на зеленую пустыню вокруг новыми, точно умиленными глазами. Но никому не говорил старый вояка о том, что происходило в его сердце…
В Ярославле – он был весь новенький, светлый, веселый от свежих сосновых срубов – Упирь и Плоскиня распростились с повольниками. Хоть Зуболомич щедро одарил обоих за их труды и обходительно просил и напредки его не забывать: он хорошим людям завсегда рад… И оба по разоренному и спаленному краю – над городами и селениями все стоял тяжкий смрад от непогребенных еще тел – ходко пошли на Ростов Великий, а потом и на Володимир. Уцелевшие от разгрома князья суздальские всячески вызывали из лесных трущоб перепуганный народ, заставляли рыть скудельницы для честного погребения костей христианских и строить дома для живых – топорики тюкали повсюду споро и весело…
Топорики
И Володимир потихоньку вставал из пепла. Упирь первым делом к Миколе Мокрому направился. Томила не раз встававшая в голове его мысль: а что, ежели попадью его татары опозорили? И точно змейки маленькие, ядовитые жалили его в буйное сердце… Но он упрямо тряс головой и отгонял от себя страшное. Вокруг Миколы Мокрого все было еще в развалинах и пусто. Только на камне окаянном, в котором жил бес, творящий мечту, уныло сгорбившись, сидела какая-то бабеночка тоненькая, вся в лохмотьях жалких, и глядела в пылающую осенними огнями пойму. Заслыша тяжелые шаги, она обернулась и вдруг так и ахнула:
– Поп!..
Это была попадья. Но Упирю вдруг вспомнился монашек неладный из Юрьевского монастыря: а может, это опять он мечтой искушает?.. Он готовился уже дать стрекача, как попадья протянула с жалким плачем руки к нему, и сразу сердце его растопилось. Он, тоже плача, раскинул ей навстречу могучие лапы свои, чуть не задавил ее насмерть и не знал уж, как и назвать нежнее милую попадью свою. И вдруг вспомнил крик ее радостный, сумасшедший: поп!..
Поп он или нет? Как это теперь понимать надо?
И не знал он, что себе теперь ответить. Надо будет в Ростов сходить, к владыке, как он дело рассудит. И Упирь зло покосился на бесовский камень: он виноват во всем! Ежели не разжигал бы так в нем бес мечтание, может, ничего этого и не было бы. Может, нарочно потянул его бес на то, чтобы поп распопился…
И он, облапив за худенькие плечи попадью своей могучей лапой, отвел ее подальше от камня окаянного…
И стали они над пожарищем своим думать да гадать, как бы им поскорее гнездо свое поставить опять, а потом, ежели Господь благословит, и церковку Миколе Мокрому, угоднику Божию… Матушка вдруг спохватилась и, сняв с попа треух его меховой, ужаснулась: поп так свое гуменце запустил, что не найдешь, где оно и было!.. И в тот же день по добрым людям добыла она все, что для дела требуется, и сама, собственноручно, как по закону полагается, выстригла попу новое гуменце, может быть, еще лучше прежнего… И сразу сомнения Упиря улеглись: он – поп. Нечего и к ростовскому владыке таскаться… А что он согрешил маленько, так един Бог без греха, как говорится, а кроме того, разве одного его прельстил так бес?.. И он снова враждебно покосился на вещий камень… Но все-таки придется епитимью какую ни на есть отбыть: попоститься или поклонов побольше отбить, мало ли чего там можно…
И вот раз оба они с сердцем тугой переполненным – у попадьи и глаза были красные – взялись разбирать свое пожарище: может, что и уцелело? Теперь всякий гвоздь ведь дорог. И они с вымазанными сажей лицами потихоньку перебирали обгоревшие бревна, отбирая все, что годится хоть на дрова. Нашли секиру с ручкой отгоревшей, лопату никуда уже негодную, небольшую кучку кирпичей, столбиком сложенных, что тогда от постройки остались. И вдруг Упиря точно осенило: постой, а рукописание владыки? Ведь он как раз тут, под кирпичами, его в укладочке спрятал. Он разобрал кирпичи и, к величайшему удивлению своему, нашел и укладочку, и в ней рукописание о полке Игореве. Отволгло оно маленько, правда, но все цело и читать вполне можно. И обрадованный Упирь тут же присел на кучу обгорелых бревен и открыл драгоценное рукописание..
– Чего это ты, поп, нашел? – с удивлением спросила его попадья, вся в саже вымазанная, оборванная, жалкая. – Али книга какая святая?
– Да-да… – рассеянно отвечал Упирь, водя глазами по черным строчкам. – Воистину чудеса Господни!..
Вокруг, среди пожаров осени, весело тюкали в прозрачном воздухе топорики, с карканьем носились стаи ворон, мутно сияли над землей закопченные верхи Богородицы Златоверхой, а поп Упирь сидел и читал рукописание колдовское. «Уже нам своих милых лад ни мыслию смыслити, ни думою сдумати, ни очима сглядети…» Верно, верно: сколько сирот оставила за собой поганая татарва! Слезами исходит вся земля Русская… И вдруг волшебный ожег, точно удар сабли татарской, ударил в сердце:
«…они, бывало, без щитов, с одними ножами криком полки побеждали, гремя славой предков…»
Упирь даже затрясся: это вот так!.. И на глазах его затеплились слезы восторга…
А вот Ярославна рано плачет в Путивле, на заборале, – так, может, тут вот плакала о нем и звала его милая попадья его…
Отец Упирь – он себя теперь уже опять не мыслил иначе, как отцом Упирем, – читал, не мог оторваться и чувствовал, что волшебные слова точно вот сетью какой опутывают его сердце. Опять потянуло его к каким-то неведомым берегам, опять стало видеться ему небылое, опять сладко засосала в сердце тоска. Он встряхнулся, однако, покосился на бесовский камень посреди поляны и пробормотал:
– Врешь, нечистая сила: больше не проведешь!.. Я тебе не новгородский владыка…
Он хотел было, осерчав, и рукописание в огонь бросить – попадья в сторонке варила чего-то на обед в котелке поганеньком, – да что-то опять жалко стало. Правда, попы в ту пору, чтобы уберечь паству свою от искушения, такие поганьские книжки всегда сжигали, но у Упиря на эту просто рука не подымалась. И он сдунул рукописание старое в свой бездонный карман. Нет, только подумать, как человек сказать может: «Они, бывало, без щитов, с одними ножами, криком полки побеждали, гремя славой предков!..» И снова мороз восторга прохватил Упиря до самого дна его буйной души… «Гремя славой предков…», а?!
Попадья, отворачивая лицо от дыма в сторону, помешивала щепочкой в котелке, а поп снова взялся за разборку пожарища. К камню окаянному он стал спиной, чтобы не видеть это обиталище духа злого, сладко отравляющего человека мечтой… Упирь трудился, а душа его рассеянно блуждала по полям жизни. И вдруг опять маленькая змейка жарко укусила его в самое сердце: а что, если татары, в самом деле, опоганили его попадью?! Правда, она ему уже все рассказала, как она с немногими володимирцами пряталась от них по лесным трущобам, как голодала, как бедовала, но, может, она, его только жалеючи, не всю правду ему рассказала?.. И ему просто свет не мил становился. Упирь расправил свою могучую спину и, широко расставив свои черные лапы – чтобы иматия старого сажей не вымазать, – стоял и глядел на маленькую попадью свою, которая у огня все хлопотала. Личико у нее такое беленькое, умильное, жалкое, и сама вся такая маленькая да безобидная, ровно пичужка. Ну, ежели изверги даже ее и изобидели, нешто она в том виновата? И большая жалость к попадье своей поднялась в буйной душе Упиря, и подошел он к ней, крепко облапил ее лапищами своими черными и прижал к себе, точно от всего защищая.
– Да что ты, поп?.. – вся зарумянившись, тихонько отстранилась от него попадья. – В уме ты или нет? Окстись!.. Чай, кругом люди…
Но на бледном личике ее, сажей измазанном, была тихая улыбка – так, как лампадочка светится… И Упирь стоял, широко расставив лапы свои, и умильно смотрел на свою попадью…
А вокруг в чистом и звонком осеннем воздухе все тюкали да тюкали топорики, строя новый город, новую жизнь…
Судорога
По всей Суздальской земле весело и деловито тюкали топорики. И вдруг, в конце осени, заморозки уже начались, опять из-за лесов встал жуткий призрак: приполз невероятный слух, что татары на Русь опять двинулись! Все оцепенело от ужаса, заметалось и всей душой, жадно ждало, чтобы кто-нибудь скорее страшные слухи опроверг. Но их не только никто не опровергал, но, наоборот, с каждым днем ужас креп: да, татары идут опять!..
Все сразу было брошено, и по лицу земли Суздальской началось что-то невообразимое: и горожане, и селяки, захватив из уцелевшей рухляди первое, что под руку попалось, обезумев, бежали сами не зная куда… Многие в полном отчаянии бросались в уже ледяную воду. Многие закалывали себя – только бы не попасть в руки окаянных. В охваченных смертельным ужасом душах вставали уже потухавшие было картины страшного года: как бросали их со смехом в пламя, как, связав людей за волосы, почти голых, их вели снегами в полон, как надругались над молодыми женщинами и девушками на глазах их близких…
Нет, пусть уж лучше смерть, только не это!..
Татары на этот раз шли на Русь сразу в двух направлениях: одна рать, обозначая, как и раньше, путь свой днем столпами черного дыма, а ночью багровыми заревами, продвигалась в сторону Нижнего для покорения еще не разоренного мордовского края, а другая пошла на завоевание Юго-Западной Руси и уже стерла с лица земли Переславль и ураганом обрушилась на Чернигов. Один из передовых отрядов волшебным солнечным осенним утром вышел на берег Днепра под Киевом. Менгу, племянник великого хана Угэдэя, двоюродный брат Батыев, который вел этот отряд, невольно остановился: так прекрасен был со своими белыми стенами, с золотыми верхами соборов, среди ярких пожаров осени старый Киев над седым Днепром!.. В сиянии солнца, в легкой дымке утреннего тумана он казался каким-то маревом степным, волшебным сном, который вот-вот рассеется…
В Киеве княжил в ту пору великий князь Михаил Всеволодович Черниговский, человек сердца не очень твердого. Когда, по тревоге, он вышел на стены и увидал на том берегу конников татарских с их длинными пиками, на которых весело трепетали конские хвосты, он сразу почувствовал, как пал в нем дух. А через Днепр уже шли ладьи: то было посольство Менгу. Именем великого хана Менгу посылал киевлянам короткое требование: дай Киев. Но киевляне, понадеявшись на свои стены, полные злобы за поругание и разрушение всей Русской земли, в бешенстве бросились на поганых и изрубили собак в куски… Менгу, постояв некоторое время на берегу в напрасном ожидании своих послов, повернул обратно и исчез в степи: его силы были слишком малы, чтобы напасть на Киев. Но и князь Михаил, понявший, что это была только разведка, почел за благо своевременно бросить своих киевлян и удалиться к королю венгерскому. Киевская земля перешла во владение Данилы Романовича Галицкого, который и прислал сейчас же сюда своего воеводу Дмитра…
На севере тем временем татары быстро овладели всей землей Мордовской и снова вторглись в пределы земли Суздальской, взяли и уничтожили Гороховец, подаренный Андреем Боголюбским Богородице Златоверхой, и старый Муром на Оке. Дальше они не пошли: они знали, что впереди только развалины…
Суздальцы, ничего не зная о намерениях татар и ожидая появления поганых со дня на день, разбегались по лесным трущобам. Буланово, которое только начало было отстраиваться, при первых вестях о новом кровавом потопе снялось и снова ушло на берега Исехры, благо там остались налаженные уже землянки. Мещерцы – которые уцелели после кровавой ночи – тоже вернулись на свое пепелище. Они от татар опять не прятались, но держали себя хмуро, отдаленно. На новые выступления против русских поселей они не отваживались: кто знает, как там еще дело обернется? Урок, данный им Коловратом и Анкой Бешеной, они помнили хорошо…
В лесной глуши, над тихим озером осиротевшая Настенка, не девка, не мужняя жена, не вдова, истекала кровью сердца. Она не знала, жив ли ее желанный, убит ли, и целыми днями и ночами плакала или сидела где-нибудь в укромном уголке над озером и смотрела перед собой остановившимися глазами. Она вся исхудала, стала точно прозрачной, и баушка Марфа просто покоя себе не находила, глядя, как тает ее любимица. Ходила она старыми ногами своими на погост к Борис-Глебу, и к колдуну в Раменье, но ничто не помогало, и Настенка гасла, как догоравшая свеча воску ярого. И сама баушка знала верное средство от тоски сердечной – на богомолье куда-нибудь сходить, святыне поклониться, – но об этом теперь нечего было и думать: татары были, по слухам, везде…
И вдруг на озере поп от Миколы Мокрого, отец Упирь, объявился с попадьей своей. Упирь снова в великом борении находился: ему больно хотелось против татар народ подымать пойти. Попадье об этом не говорил он и слова, но на всякий случай решил заблаговременно в крепь ее спрятать с мужиками: все спокойнее сердцу будет…
Настенка так к нему и бросилась:
– Где же суженый мой?..
Окруженный мужиками, отец Упирь стал рассказывать, как решили они завести поганых в болота непроходимые, как после гибели Твери, Волока Ламского да Торжка и татары, и бродники на три отряда разделились, как повел Плоскиня с Коловратом главную силу татарскую на погибель. Но на этом все обрывалось: дальше Упирь не знал ничего, кроме отрывочных и противоречивых слухов. Может быть, Коловрат со своими бродниками отсиживается где-нибудь в земле Новгородской, выжидая случая ударить снова на татар: не такой это боярин, чтобы дело русское бросить…
– А сынок наш, Ондрейка, что, родимый? – спросил попа Стражка. – Чай, видал его там?..
– Как же, как же… – отвечал отец Упирь. – Сколько времени вместе шли… А потом он с боярином нашим отстал. Вернее всего, вместе где и отсиживаются, время свое выбирают…
Настенка ожила немножко: может быть, милый и жив! Может, он также тоскует о ней где-нибудь и рвется к ней. И мука мученическая была для нее сидеть так в глуши лесной – ей хотелось бросить все и лететь по следам его и самой все выследить, самой всех выспросить… И может быть, она так и сделала бы, если бы не думка: а вдруг он воротится сюда и будет искать ее здесь? И снова уходила она на берег озера тихого – его уже затянуло ледком, – и томилась, и звала, и плакала…
– Батюшка, родимый… – вся в слезах, приступила к Упирю баушка Степанида, мать Анки Бешеной. – А моя-то девка, моя доченька милая куда делась? Может, ты встречал ее где? Может, слыхал что?
Упирь знал все о судьбе Анки Бешеной, но осекся: как сказать старухе о таком грехе?
– Как не знать, баушка, как не знать!.. – отвечал он. – Дочка твоя вместе с другими бабами да девками в полон взята. Досталась она большому воеводе ихнему – пес его знает, как он там у них прозывается… Живет ничего, трудится… Тебе горевать, родимка, больно-то нечего: вот все образуется потихоньку, тогда можно будет и поискать ее. Промежду богатых людей всегда были милостивцы, которые раньше у поганых полон выкупали – за спасение души… Может, Господь даст, и на твое сиротское счастье что выйдет… Молись пока, баушка, проси Господа: Он не оставит… Гоже уж и то, что жива твоя дочка: сам, своими глазами, не раз ее видел…
Но ни слова не сказал он о судьбе Кондрата: об измене парня сообщил ему Плоскиня. Но чем кончил Кондрат, этого он и сам не знал. А баушка Степанида, крестясь, все плакала: «Слава Тебе, Господи… Микола и Лавра, богов лошадиных… Дай-то Господи, Пречистая, Заступница…»
И, усевшись среди мужиков, отец Упирь стал рассказывать землякам о боях кровопролитных и великом разорении земли Русской, и те жадно слушали. Говорил он, как буй-турами бились с поганью богатыри русские, как лаяли на походе лисицы на их червленые щиты, как деревья с тугой к земле преклонялися, как плакали жены витязей на заборалах городских. И так гоже выходило у него, так красно, что бабы все плакали…
– Ничего, не робей, ребята!.. – заключил он. – Было время на Руси, когда полки наши одним криком врагов побеждали, гремя славой предков… Ни хрена, выгребем!.. Три, как говорится, к носу, все пройдет…
И он, сам себя так утешив и укрепив, пошел рыть своей попадье испуганной землянку… А устроив ее, пошел лесами в Володимир поразведать, как там и что… И в скором времени принес он в лесные крепи слух: разгромив мордву и мордовскую украину земли Суздальской, татары снова в степи ушли… С радостными сердцами, прославляя Господа, суздальцы повылезли опять из трущоб своих, и снова по городам и селениям весело и деловито затюкали топоры плотников. Стражка взялся на Оленьей горе мельницу опять ставить – изба его была уже готова, – а баушка Марфа выжидала только весны, чтобы, ежели Господь приведет, пойти с Настенкой в Киев на поклонение святыне. Может, пообдует девку маленько ветерком степным, и полегчает…
И деловито, споро, весело тюкали топорики по всей земле Суздальской…









































