Текст книги "Бес, творящий мечту"
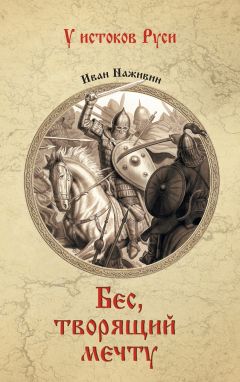
Автор книги: Иван Наживин
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 34 страниц)
Лакомство несчастное
Всласть намолившись, досыта налюбовавшись благолепием церковным, не раз и не два омыв грешные души слезами покаяния и умиления, богомольцы суздальские собрались в обратный путь. И вдруг баушка Марфа свалилась, заболела. Суздальцы ушли, а она с Настенкой да с бабушкой Степанидой оставались в Киеве до самой осени: очень уж баушка ослабела. Но все крепшие слухи о появлении в степях татар заставили и их присоединиться к одной запоздавшей партии богомольцев и покинуть Киев… И вот переправились они на тот берег Днепра, долго, прощаясь, с умилением глубоким любовались на Киев и, наконец, земно поклонившись матери городов русских, споро, опираясь на подожки, пошли на Чернигов-град.
И вдруг, не прошли они и двух ден, – Господи помилуй, да что это такое?! – впереди их показались всадники с длинными копьями, на которых мотались пучки конских волос. Сперва они подумали было, что это просто наваждение врага рода человеческого, но конники надвигались все ближе и ближе. И странники, обомлев, так и застыли в ужасе на обочине торной черниговской дороги, крестились и шептали вдруг посиневшими губами молитвы бессвязные… И больше всех обмерла баушка Марфа – из-за Настенки.
А татары надвинулись уже вплотную и, скаля на богомольцев зубы, окружили их плотным кольцом, и заспорили татары: на месте ли их тут перебить или взять в полон? И порешили: раз идут они, по-видимому, из Киева, то лучше всего отвести их к темнику для допроса. А там, как тот решит, – перебить всегда есть время…
Это были передовые разъезды правого крыла огромного «загона», которое вел Темрюк-хан. Главные силы шли с юго-востока прямо на Киев, а левое крыло, уже заворотив, подвигалось Днепром вверх. И снова наполнились просторы русские этим жутким топотом тысяч и тысяч конских ног, снова поднялись в осеннее небо черные столбы дыма и по ночам засветились багрово-мутные зарева, от которых замирала душа…
Двое из конников с длинными кнутами в руках погнали богомольцев навстречу темнику. И скоро перепуганные пленники заслышали впереди себя надвигающийся шум большой рати, подобный шуму великих вод. Проводники сбили их на обочину дороги. Темрюк, ехавший впереди своего сторожевого полка на белом коне, остановился перед толпой. Та с воем повалилась к ногам его коня: по богатому наряду всадника они поняли, что это один из их набольших. Темрюк, не глядя на них, спокойно выслушал донесение всадников: идут из Киева, – может быть, темник пожелает расспросить их о том, как там положение. Но Темрюк только слегка усмехнулся: на Киев шла вся сила татарская – о чем тут этих нищих допрашивать? И он коротко сказал:
– В обоз. Пусть доят кобылиц и делают всякие работы. А там разберем…
И маленькая кучка богомольцев сразу была поглощена надвигавшейся тучей татарской. Баушка, из всех сил творя молитвы, держалась за Настенку: она не могла не видеть, как пялит татарва свои раскосые глаза на ее красавицу… Вечером на берегу Десны татары стали станом. Задымились костры. Поднялась эта татарская вонь, от которых русских всегда мутило. Какие-то пожилые татары пришли к пленникам и с криками разбили их кого куда. Баушку Степаниду – она от ужаса сжалась вся в какой-то жалкий комочек – повели к роскошному шатру самого темника.
Не смея и глаз поднять, она переступила за завесу ковровую и увидала в полусумраке шатра на мягких коврах среди шелковых подушек молоденькую татарку в богатой одежде, которая кормила грудью младенчика. И вдруг татарка почти бросила ребенка на подушки, вскочила на ноги и с криком бросилась к ней:
– Матушка!..
– Аннушка… Господи… Доченька…
А татарка, бросившись ей на шею, уже осыпала ее сумасшедшими поцелуями. Полы палатки вдруг широко раскинулись, и вошел Темрюк. Удивленный, он остановился, но Анка бросила ему что-то по-татарски, и на лице витязя показалась на мгновение мягкая улыбка. Он кивнул и, бросив взгляд на своего сынишку, который таращил на коврах ручки и ножки, как какой-то смешной паук, прошел в другое отделение шатра.
Обе плакали и целовали одна другую исступленно. Но баушка Степанида томилась страшной неизвестностью.
– Аннушка, родимка… – едва выговорила она наконец. – Успокой ты прежде всего мою душеньку: веры-то, веры-то ты теперь какой?.. Неужели уж ты совсем обасурманилась?..
– Старой веры… как всегда… – опять бросилась к ней на шею Анка и прижалась к ней вся. – Они насчет веры никакого притеснения не делают: как хошь, так и верь… Да нет: ты лучше скажи мне, как ты сюда попала-то! Садись вот сюда, отдохни… Давай котомку-то…
И, все целуя старуху, она усадила ее середь ковров драгоценных и сейчас же принесла ей сына.
– Смотри какой… – с гордостью сказала она. – А?
– А крещеный? – боязливо спросила баушка Степанида, опасаясь прикасаться к младенцу.
Анка смутилась.
– Ну где же тут, в орде, крестить-то его? – сказала она, закрасневшись: это по ночам мучило и ее. – Вот приедем в Киев, спрошусь у Темрюка: может, позволит окрестить…
Она положила сына на подушки, крикнула что-то служанкам по-татарски – русских она постепенно отдалила от себя из-за их неугасимой ненависти – и снова бросилась целовать мать, которая все недоверчиво и брезгливо косилась на внучонка.
– С кем же это ты собралась в такую даль?..
– А с баушкой Марфой да с Настенкой… – отвечала старуха и встревожилась: – А ты бы, доченька, сказала там, чтобы вреды им какой не сделали твои поганые-то… Они, нехристи, человека крещеного хуже всякой скотины ставят… Настенка девка ладная, пригожая, – вели, касатка, чтобы не обижали там их…
Анка вскочила и ласково крикнула что-то в глубь большого шатра. Вошел Темрюк. Анка быстро стала лопотать ему что-то по-ихнему, а он, выслушав, спокойно кивнул ей, вышел, и сейчас же за стеной послышался его уверенно-повелительный голос: он приказывал что-то своим татарам…
– Но, Господи, как мы с тобой встретились-то!.. Чистое вот чудо!.. – все волновалась Анка, и глаза ее горели, как звезды. – Узнала я, что татары полон взяли, и велела привести ко мне старушку какую-нибудь, в няньки к сынку моему. И вдруг – баушку внуку нашла!.. А?
Но баушка только опасливо покосилась на барахтающегося в коврах внучонка: ох, не лежало ее сердце к татарчонку окаянному!
– А сама-то молишься ли когда? – боязливо спросила она опять дочь. – Али, может, и молитвы все наши перезабыла?
Анка действительно первое время молилась, а потом стала потихоньку отвыкать. Но, чтобы не огорчить старуху, она, вспыхнув, воскликнула:
– Знамо дело, молюсь!.. Какая ты чудная… Да ты постой, ты рассказывай мне про все поскорее… Как батюшка? Ондрейка вернулся ли с похода?.. А Буланово что?
Служанки ее хлопотали уже с угощением, когда татары подвели к шатру темника перепуганных баушку Марфу и Настенку и, приподняв ковер, впустили их в шатер. Анка так и взвилась вихрем радостным:
– Настенка!.. Баушка, родимая!..
И те остолбенели… Но, видя, что баушка Степанида сидит уже на коврах, сразу себе поверили и со смущенной улыбкой смотрели на раскрасневшуюся и блистательную в татарском наряде своем Анку. И вдруг Анка осеклась: исхудалое и печальное лицо любимой подруги напомнило ей о гибели Коловрата. И Настенка – она была очень чутка ко всему, что хотя бы отдаленно касалось ее милого, – сразу заметила ее смущение.
– Анка… – схватила она подругу за руки. – Скажи… Вот как перед Истинным: где он?
– А… разве ты… не знаешь?.. – пролепетала Анка, застигнутая врасплох.
– Ничего не ведаю… Скорее: что с ним? Где он?
– Но… Ах, Господи, и зачем я такая несчастная?! – заметалась Анка, вспомнив, что Коловрат убит был в бою ее Темрюком. – Но… его убили под… Новгородом… Ах…
Настенка, как подкошенная, без кровинки в лице, повалилась на пышные ковры. Обе старухи бросились к ней. Анка рыдала…
Тревожна была осенняя ночь. Настенка билась и мучилась, как насмерть раненная лебедушка, и только под утро, измученная, забылась на короткое время в тревожном сне. А чуть пробудившись, снова к Анке прильнула:
– Ну скажи… скажи: ты сама… своими глазами… видела, как его погубили?.. Сама?..
Анка сразу ухватилась.
– Нет… Ходили слухи… И, может быть, то был и не он… Чай, в бою-то всех разберешь: кто убит, кто не убит…
И Настенка заплакала опять, но в душе ее снова засветилась уж зорькой ясной робкая надежда… Анка – в стане шла уже суматоха выступления – бросилась к Темрюку и залопотала что-то. Он мягко улыбнулся ладе своей с высоты своего могучего роста – ей отказу не было ни в чем – и коротко сказал что-то страже.
– Татары отпустят и проводят их за стан, чтобы никто из наших не перенял их опять… – сказал он.
Анка осияла его своими теплыми, темными глазами, и бросилась к гостям, и осеклась опять. Сердце мучительно заболело, как ножом раненное.
– Вас всех татары отпустят… – пролепетала она баушке Марфе. – И проводят, чтобы обиды вам ни от кого не было… Только… только не корите уж вы меня, несчастную!.. – вдруг зарыдала она.
– Да неужели, доченька, ты меня покинешь теперь? – залилась вдруг слезами и баушка Степанида. – Ты попроси у твоего татарина-то: может, он и тебя отпустит?.. Чай, не может он себе бабы средь своих найти?..
Глаза Анки сразу вспыхнули прежним огнем.
– По их закону, у него было немало жен… – гордо проговорила она. – Но когда взял он меня в шатер свой, он отпустил их всех… Вот он у меня какой!.. Ты взгляни на его орду – взглядом не окинешь… Тысячи и тысячи под началом его, и кому он скажет: умри, тот пойдет и умрет… Вот как!.. А для меня нет у него отказу ни в чем… Матушка, касатка моя белокрылая, не зови ты меня с собой, не терзай сердечушка моего!.. – вдруг бросилась она опять вся в слезах к матери. – Теперь мне так, что словно в могилу лечь легче, а зная, не покину я его… Ох, уж это лакомство несчастное!..
– Да что он, околдовал, что ли, тебя, доченька ты моя, Аннушка?.. – плакала навзрыд старуха. – Какое такое это лакомство? Неужели же ты из-за него, татарина некрещеного, нас с отцом покинешь?.. Неужели это богачество его окаянное так полонило тебя?..
– Будь он в орде самый последний нищий, я также пошла бы за ним!.. – рыдая, едва говорила Анка. – И в огонь, и в воду, и куда он только хочет… неужели ты молодой николи не была?.. – вдруг крикнула она страстно и опять зарыдала. – Матушка, родимка, не терзай ты сердца моего, не уходи: останься с нами!.. А потом пошлем татар за отцом, и его приведут к нам… И будете вы оба со мной до конца в почете ото всех и в довольстве… И…
– Ой, нет, родимка! – испугалась баушка Степанида. – Да, чай, это можно?.. Там могилки родительские – как их покинуть? И там хоть Богу помолиться есть где… Нет, это ты не в путь, касатка…
И долго терзались так мать с дочерью, и, может быть, так и не оторвались бы они одна от другой, изошли бы слезами, ежели бы орда не собралась наконец в путь свой кровавый. Шатры были уже свернуты. Сторожевой полк уже выступил. Обозы выравнивались среди криков великих, ржания лошадей, рева верблюдов, скрипа телег. И хочешь не хочешь, а последнее решение принимать было надо. И Анка, рыдающая, истекающая кровью, на пышном возу своем, лежа ничком и кусая в бешенстве ковры драгоценные, поехала в одну сторону, а баушка Степанида, едва держась на ногах и ничего от слез не видя, пошла в другую…
И долго еще слышался в степной дали этот звук колес деревянных, похожий на прощальные крики улетающих лебедей…
Гибель матери городов русских
Киев пришел в смятение: стража со стен увидала за Днепром приближение несметной рати татарской, о появлении которой в степях киевляне знали уже от лазутчиков. Все, и стар и млад, высыпали на стены и оцепенели в ужасе. От ржания коней, мычания стад, рева страшных, никогда невиданных верблюдов, немолчного скрипа телег, криков татарвы, в городе не было слышно речи человеческой. Воевода князя Данилы, мужественный и толковый Дмитро, собрал киевлян на вече, которое сперва на Торгу было, потом, сто лет спустя, у Туровой божницы, а теперь собиралось всегда у Святой Софии. И город, как всегда в таких случаях бывает, разделился: «сиа страна собе, а сиа – собе». Одни кричали, что татары все равно никого не пощадят и потому лучше биться, а другие говорили, что лучше сдаться на милосердие победителя, ибо бороться все равно немыслимо. Жиды гомонили день и ночь в своей Жидовской улице: они хотели сдачи обязательно. Но Дмитро, объезжавший город на богато убранном коне, возбуждая киевлян к мужеству, сам, грозный, явился туда: галдеж разом прекратился, и жиды забились в тараканью щель. Многие жалели, что не явился сам князь Данила Романович для защиты матери городов русских, но он был у угров, бесплодно убеждая короля их Белу к совместному выступлению против поганых…
Татары с переправой не торопились – не то подхода всего «загона» поджидали, не то заморозков, ледостава. Киевляне же пока всячески крепили город, а по ночам смельчаки ввозили продовольствие. Но настроение жителей было подавленное, и в церквах киевских шли беспрерывные молебствия…
Но вот Днепр встал, лед окреп, и в одно мягкое зимнее розовое утро вдруг началась переправа татарских сил на правый берег. Часы и часы тянулась через Днепр эта широкая река конной татарвы, а потом их обозов и всяческого осадного снаряжения. И точно туча темная и грозная облегла Киев со всех сторон. Теперь не было уже ни проезда, ни выезда из города никому. И татарский смрад висел над городом и отравлял все…
Скоро Батый выдвинул против Ляшских ворот огромные тараны. Пороки бросали в оцепеневший в ужасе город огромные камни, которые крушили все. Пробовали татары кидать и зажигательные вещества, но снег, прикрывший все, не давал им возможности подпалить город. Зато тараны работали против стен без перерыва, день и ночь, и татары, то и дело меняя свои полки, старались взять защитников прежде всего утомлением, не давая им возможности не только выспаться, но и поесть.
И вот, наконец, часть стены с грохотом рухнула. Татары с торжествующим воем бросились в пролом с одной стороны, Дмитро со своими киевлянами – с другой, и началась среди разваленных стен бешеная сеча. Лом копейный, щитов скепание, лязг сабель, крики киевлян и визг и вой степняков, плативших бешеную цену за каждый шаг вперед, новые и новые заплески татарского моря в город, все это длилось до самой темноты: татарам не удалось проникнуть в город дальше, но и киевлянам не удалось вытеснить их из пролома. Татары расположились ночевать по опустевшим стенам, а защитники города, выставив сильные заслоны, всю ночь трудились над возведением новых стен вокруг Пречистой.
Как только забрезжило холодное и хмурое зимнее утро, снова татары бросились в пролом, точно воды потопа, и полезли на приступ нового города. Стены его разом облились кровью. Снег повсюду был красный и мокрый, и трудно было держаться на нем на ногах. Воевода Дмитро, а с ним рядом какой-то высокий старый и рябой монах бились в голове киевлян. Мирное население, чтобы укрыться от гибели, бросилось на камары церковные, но камары обвалились под их тяжестью со страшным грохотом, над местом гибели поднялась серая туча удушливой пыли, и воем исступленным приветствовали татары треск рушившихся камар. Они бились, падали, но в пролом вливались все новые и новые полки их, и не было им, казалось, конца…
И неизбежное наконец совершилось: мать городов русских была взята…
Начался грабеж. Потом запылал весь город. Что не горело, то татары в исступлении победы разрушали. Они находили гробницы прежде княживших в Киеве князей, выбрасывали останки их в снег и в исступлении топтали их черепа. Многие дни и ночи длилось дьявольское неистовство победителей над уничтоженным городом. Но времени терять было нельзя, и Батый приказал поход.
И, как буря, устремились опьяненные победой татары вперед. Один город за другим стирали они с лица земли. Старый Киев затих в развалинах. Среди обгорелых и разрушенных домов и церквей, среди страшного молчания вились тучами вороны, птицы войны, а по ночам грызлись и визжали над мерзлыми трупами набегавшие из лесов волки. И тут же бродили немногие уцелевшие люди, оборванные и голодные, и хохотали безумные, потерявшие разум от страха…
Неподалеку от разрушенной Десятинной церкви, выстроенной еще Володимиром Красное Солнышко, лежал на спине мертвый старик монах в черной мантии. Сломанный татарский прапорец воткнулся рядом с ним в красный снег и трепетанием своим отпугивал от мертвеца ворон и волков. Монах держал в застывшей правой руке сломанную секиру, всю в запекшейся крови. Рябое, с выбитыми передними зубами лицо его было обращено в низкое грустное серое небо, и был на нем глубокий, вызывающий умиление покой…
Настина радость
Суздальские богомольцы с великим трудом тащились зимними дорогами к далекому дому. Били их вьюги, морозили их морозы лютые, страдали они иной раз и от голода, и пугала их страхованиями всякими нежить, а они знай себе полегонечку шли, неся домой милость Господню. Баушки то и дело хворали – то одна свалится, то другая. И в этом было спасение Настенки: эти маленькие беды отвлекали ее от тяжких дум. Сердце ее кровоточило беспрерывно. От надежды она переходила к отчаянию, а от отчаяния к надежде. Но отчаяние все больше и больше побеждало: только чудом разве мог вернуться к ней ее милый!.. А баушка Марфа просто обмирала, когда украдкой глядела на это белое, без кровинки, лицо с голубыми, огромными теперь, глазами, которые, не моргая, глядели перед собой на снежную дорогу и в которых стоял холодный мрак…
И только весной, когда все уже зазеленело, подошли они к Володимиру. Они могли бы свернуть в Буланово и раньше, но обе баушки непременно хотели отслужить Пречистой молебен о спасении: одна – дочери своей бешеной, а другая – внучки любимой. Авось Матушка умилосердится над бедными и пошлет им спасение…
Новенький, с иголочки, Володимир шумел новой жизнью. Но топорики все еще тюкали по зеленым холмам его. До суздальцев дошли уже слухи, что татарская туча, спалив всю Южную Русь, свалилась за Карпаты, и у всех зацвела в сердце надежда: авось треклятые где-нибудь там голову сломят… На столе погибшего на Сити князя Георгия сидел теперь брат его Ярослав. Окруженный уцелевшими князьями и боярами земли Суздальской, он деятельно восстановлял разоренную татарами землю. И русские люди с сердцем погорячее стали потихоньку сговариваться один с другим, как бы отомстить поганым за унижение и разорение Русской земли. Совсем молоденький князь Андрей, сын Ярославов, уже собирал вкруг себя тайно людей…
Из Ростова Великого прибыл владыка Кирилл по каким-то делам. В городе по этому случаю было особенно оживленно. Было воскресенье, и владыка служил у Богородицы Златоверхой. Еще весь закопченный, собор был переполнен молящимися, оборванными, полуголодными, сбитыми с толку: жизнь только-только налаживалась. Но у владыки она, по-видимому, наладилась совсем. Более, чем когда-либо, он был самоуверен и грубо-горд. Истинный книжник, он презирал «народ земли». Отвратительна ему была некнижность народа, его поганьские, греховные нравы. И когда кончилась служба, он – по поводу кулачных боев между доброселами и красноселами, свидетелем которых ему случайно привелось быть, – выступил с суровым словом. Он старался говорить на том языке книжном, который народу был непонятен: этим он подчеркивал свою высокую образованность и отгораживался от смердов.
– Пока же уведехом в божественные праздники некакы позоры бесовские творити, – брызгая стонами, сурово говорил владыка, – со свистанием и с кличем и воплем сзывающе неки скаредные пьяница и бьются дрекольем до самые смерти и взимающе от убиваемых порты…
И владыка строго разъяснил володимирцам, что все это делается в укоризну святым Божиим праздникам и на досаждение Божиим церквам и самому Спасу нашему и заступнику, и напомнил, что бывший в Володимире церковный собор объявил таким бойцам проклятие в сим веке и в будущем, а если кто будет противиться собору, то от тех не принимать просфоры и кутьи, а когда помрут, то чтобы священники не отпевали их, не совершали по ним поминовения, и да не будут погребены на кладбище, а ежели который священник дерзнет нарушить сие, то да будет чужд сана…
И долго, сверкая очами и брызгая слюнями, грозил так владыка греховодникам-володимирцам за поганьские их увлечения… Они сокрушенно вздыхали и подобострастно смотрели на владыку: даст же вот Господь человеку такой дар слова!.. Но когда он кончил свои громы, все почувствовали себя облегченными и с удовольствием вышли на паперть. День был солнечный, полный радости, и ослепительно сверкала на солнце Клязьма.
Загнанный горожанами и даже духовенством за свое покушение на мечту, отец Упирь, печальный, стараясь быть поменьше, понезаметнее, слонялся среди праздничной толпы. И вдруг обветренный – он целые дни и ночи проводил на реке и пойменных озерах на рыбной ловле – лик его просиял радостью: навстречу ему шли с подожками, в свеженьких лапотках баушка Марфа, баушка Степанида и точно ничего не видящая красавица Настенка, которая так, казалось, недавно на короткое время заворожила и его. И баушки обрадовались знакомому батюшке.
– Бог милости прислал, батюшка!.. – низко поклонились они ему.
Придерживая рукав, отец Упирь истово благословил их всех. Он, видимо, хотел сказать Настенке что-то, но сдержал свой порыв. Поговорили о Киеве, о татарах, о том о сем, и вдруг отец Упирь тихонько толкнул баушку Марфу локтем в бок и показал ей глазами на Настенку. Баушка даже рот раскрыла: с преображенным, сияющим радостью безмерной лицом, крепко сжав руки на груди, Настенка смотрела на приближающихся от собора конников. Баушка подумала, что внучка ее рехнулась. И вдруг та, бросив подожок свой, рванула вперед, к всадникам, и припала лицом к колену одного из них, и стала исступленно целовать и сапоги его, и бархатный подклад, и коня, и полы.
– Милый… Солнышко мое…
Коловрат, исхудавший, возмужавший, весь вдруг просиял счастьем, в одно мгновение слетел с коня и на глазах всех, сдерживая слезы счастья, прижал к себе свою суженую-лапотницу.
– Настя… радость… Как истомился, как истосковался я по тебе!.. Я уж думал, что ты татарам в лапы попала… Милая!
Княжич Андрей и дружинники с улыбкой смотрели с коней на свидание молодого боярина с любой своей. В отдалении дивились горожане, как такой блестящий витязь целуется вдруг с простой девкой посередь улицы… Коловрат бросил поводья одному из отроков и, окруженный толпой, повел Настю в свой терем. Там еще тюкали топоры плотников. Баушки с отцом Упирем следовали за ними поодаль: смиловалась-таки Пречистая над девкой, услышала-таки молитвы старой баушки Марфы!..
– Да как же случилось все это? – не помня себя и ненасытно глядя на суженого своего, спрашивала Настя. – Анка Бешеная сказывала мне, что тебя убили татары…
– И убили… – смеялся Коловрат радостно. – А я вот взял да и воскрес; без любы моей и в раю у Господа быть не хочу!..
– Нет, нет, в самом деле говори…
– Меня ранили… – сказал он. – А как только татары отошли, на меня набрели пардусники, которые следили за татарами: тут, за лесом, совсем рядом, деревенька одна была. И долго я пролежал у них, хворал все от раны… Думал, что и не встану уж. А вот, видишь, встал и жив, и опять со мной лада моя ненаглядная…
Настенка думала, что она умрет от счастья…
И немного спустя володимирцы шумно «чинили кашу» на свадьбе молодого боярина Коловрата. Вся старая обряда была соблюдена во всей полноте. На девичнике девушки пели песню старинную:
Не бывать бы ветрам, да повеяли,
Не бывать бы боярам, да понаехали,
Травушку-муравушку притолочили,
Гусей, лебедей поразогнали,
Красных девушек поразослаш,
Красну Настю-душу в полон взяли.
Красну Ивановну в полон взяли.
Стала тужить-плакати Настя-душа,
Стала тужить-плакати Ивановна.
Стал унимать-разговаривати ее боярин молодой:
Не плачь, не тужи, свет Настя-душа,
Не плачь, не тужи, Ивановна:
Я тебя, Настя-душа, не силой брал,
Я ж тебя, Ивановна, не неволю.
Бил челом, кланялся твоему батюшке,
Бил челом, кланялся твоей матушке,
Снял шапку, снял шапку соболиную,
Распустил полы сорочинские,
Износил кафтан весь шелковый,
Все до тебя, свет Настя, доступаючи…
Настя горько плакала – как будто неволей, в самом деле, ее за немилого отдавали! И когда Коловрат, по обычаю, приступил и стал утешать ее, Настя обдала его синими чарами очей своих и тихонько, дрожащими губами вымолвила:
– Я… я от радости… я…
Булановцы и все окрестные посели отвешивали теперь Стражке поклоны ниже, чем самому попу.
– Ну, теперь ты, Иванко, выше облака ходячего жить будешь: тесть боярский!..
– Чего? – вполоборота спрашивал Стражка. – Не мели пустого: всяк сверчок знай свой шесток. По нынешним временам оно мужиком-то, пожалуй, и безопаснее… Ежели, к примеру, поганые опять нагрянут, я собрал свое лопотьишко да на Исехру, ходом, – достань-ка там меня!.. А боярину-то моему надевай саблю на бок да иди бейся с чертями…
И мужики только головами покачивали:
– Ай да Иванко!.. Этот тебе всякое дело рассудит…
Но Стражка не любил лала зря разводить5353
Лала, лалы (не склон.) – пустословие, болтовня. Разводить лала (лалы) – пустословить.
[Закрыть]. Озабоченно нахмурившись, он спешил на свой ветряк жернова ставить, пока время, а то, не успеешь и оглянуться, покосы приспеют, а там жатва – тут чесать язык-то неколи…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































