Читать книгу "Бес, творящий мечту"
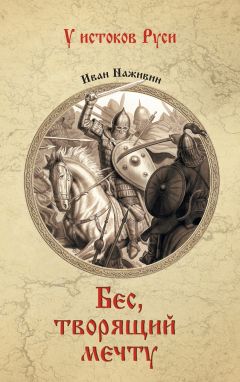
Автор книги: Иван Наживин
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Батюшки-просветители
В ту пору жизнь русская разделилась на два русла: один поток шел Владимиро-Суздальской землей, которая на севере все больше и больше верха забирала, и другой ключ русский горячо забил на юге, в земле Галицкой. Там народом правил Данила Романович, князь-работник, князь-заботник, страдальник за землю Русскую, каким в прошлом был Мономах. Пуще всего старался он заселить свое княжество погуще, для чего не брезговал не только ормлянами, но даже и жидами. Впрочем, жидов было немало в ту пору и в Киеве, где они имели даже особую улицу и, видимо, были, как всегда и везде, горячо любимы населением: по смерти Святополка в 1113 году киевляне первым делом бросились грабить и бить жидов.
Старый Киев стал к этому времени свою былую славу утрачивать. И если теперь чем и был он славен, то только святынями своими, которые тянули к нему православных со всех концов Русской земли. Поклониться им приходили даже со славянского Поморья, которое под железным натиском немцев все более и более затихало и – умирало. Адам Бременский называл в XI веке славный славянский Волин на Поморье величайшим из городов европейских и знаменитейшим торговым местом. Но – славный Волин уже умирал. Увядал и Киев…
Но архипастыри цвели самым махровым цветом. Русь представлялась грекам весьма важной и по соображениям как политическим, так и церковным: патриархи собирали с нее богатую «воитию», а правители рассчитывали на помощь воинскую. Но все же патриархи, роскошествуя и превозносясь, как и подобает истинным наместникам Христа, посылали ко всем митрополитам свои грамоты с восковой печатью, и только к русским одним – со свинцовой, что было, понятно, многими номерами ниже, и в степенных каталогах константинопольского патриарха русские митрополиты стояли на 61-м месте только, а потом и еще были понижены на целых девять мест. И это все несмотря даже на то, что на Руси в домонгольский период из 23 митрополитов 17 были греки, трое были происхождения неизвестного и только трое русских. Греков-архипастырей принято изображать носителями какого-то просвещения эллинского, но это только подлость с неблагочестивой целью: архипастыри были большей частью заняты «воитием» и другими подобными делами, а совсем не просвещением. Они не давали себе труда даже учиться русскому языку. А Иоанн III, как и другие, был «муж не книжен и умом прост и просторек». Сказать, чтобы просветителей этих на Руси очень любили, никак нельзя. Так, рассказывая об одном вероломном поступке епископа-грека, простодушный летописец поясняет: «Бяше бо родом гречин». А народ говорил: «Торопчанина обманет цыган, цыгана – жид, жида – грек, а грека – только черт», «грек скажет правду только раз в год», «грек за злато себе очи вылупит», «рак не рыба, а грек не человек»…
Первые пятьдесят лет после крещения митрополиты киевские жили не в Киеве, а в Переяславле на Днепре, но потом перебрались они в Киев, в хоромы высокие, и жили там так, что не всякий князь мог угнаться за ними. Поддерживая славу эллинской образованности, святые отцы и столпы церкви, уставя брады своя, решали вопросы самые высокие, до которых черному народу, быдлу, было все-таки не подняться. Отцы тонко следили за политикой не только в русских княжествах, занимавших все более и более необозримые пространства, но и у латины, и у греков, и всюду. Сколько споров, сколько кипения вызвало, например, в Киеве среди людей княжных отпадение Рима от истинной Божией церкви в эту их ересь непозволительную!.. А когда император Мануил Комнин объявил свое учение, что вочеловечившийся Бог в произвольном принесении себя в жертву был вместе и приноситель, и приносимый, как горячо сочувствовали иерархи Русской церкви Константинопольскому синоду, который противился признать императорское учение!.. Император требовал, чтобы все признали обретенную им истину, а кто сомневался, тот терял место и шел в ссылку. И для всенародного сведения повелел император начертать учение свое на каменной доске в Святой Софии. Русские отцы с напряженным вниманием следили издали за духовным творчеством этого непрошеного преобразователя. Для обращающегося из магометанства в христианство существовала, например, такая формула: «Богу Магометову – анафема!» Император справедливо нашел, что это богохульство, ибо Магомет признавал единого Бога. Собранный по этому случаю синод возразил коронованному философу, что Бог Магометов – ложный. Тогда император собрал другой синод в Скутари и через своего секретаря потребовал, чтобы анафема с Магометова Бога была немедленно снята. Отцы упорствовали. Тогда секретарь именем императора пригрозил, что все дело будет представлено им на рассмотрение другого собора под представительством папы. Отцы страшились папы паче черта, и потому после долгих прений была принята новая формула: Магомету с его учением и со всеми его последователями – анафема!
И все это на верхах киевских переживалось с чрезвычайной страстностью. И то какой-нибудь книголюбец, роясь в рукописаниях греческих, отыщет лжемудрствования Оригена о том, что несообразно с беспредельным милосердием Божиим вечное мучение грешников в аду. И спорят отцы об этом суемудрии долго и учено, со ссылками на Священное Писание. И какой-нибудь из святителей, гладя тщательно расчесанную бороду свою, с лукавыми огоньками в глазах напоследок речет:
– Поелику суесловы учат, что Господь в неизреченном милосердии своем помилует, в конце концов, всех нас, грешных, то… зачем же праведникам и стараться быть праведниками перед лицом Его?!
И усмехнутся отцы в брады своя…
А то другой муж некий, стар денми и книжен вельми, вдруг выдвинет перед святителями вопрос: достоит или не достоит именовать Господа Доброумом-хитрецом или просто Всехитрецом, как он в одном рукописании сие обрел?.. И судят глубоко, и рядят, а потом, после трудов праведных, идут трапезовать и по случаю дня постного вкушают от осетров саженных, и от икры, что во рту тает, и от янтарных стерлядей. И запивают отцы и милостивцы всю снедь сию душеполезную медами стоялыми да винами заморскими…
Когда княжье безобразило, предавало, и убивало один другого, и выкалывало один другому глаза, и разоряло страну свою, отцы мудро помалкивали, ибо церковь и в Византии уживалась со всяким порядком и беспорядком и всегда проповедовала покорность всякой власти, даже неправедной. Она всегда утверждала, что мы живем не для здешнего мира, но для будущего. Она не есть устроительница земного счастья, но путеводительница к вечному блаженству. Мы на земле гости, странники, говорили отцы, а отечество наше – за гробом. Совсем от руководства делами земными она, однако, не устранялась, – «ибо, как тело наше управляется пятью чувствами, так и тело Христово, церковь верных, управляется пятью патриаршими престолами», глубоко учил патриарх Антиохийский Петр в первой половине XI века, – но, как уже сказано, она занималась главным образом приготовлением душ для царства небесного. А для этого, понятно, прежде всего нужно было решить такие, например, вопросы: можно ли вечером умыться, а утром, не умывшись, начать службу? Можно ли есть кровь рыбью? Можно ли есть белку? Едною просфурою достоит ли служити?.. Последний вопрос отцы решали, подумавши, так: «Аже будет далече, яко в селе, и негде будет взяти другое просфуры, то достоит, аже будет близ торг, где купити, то не достоит, аже ли какое иде не будет по нужи, достоит». А там выносят они мудрое постановление, что во избежание соблазна мужчины причащались бы у середнего алтарного входа, а женщины – у левого, что против жертвенника. Избу после родов женщины они по зрелом размышлении повелевали считать оскверненной в первые три дня настолько, что отцы духовные не могли даже входить в нее, а что по истечении трех дней ее надо всю вымыть, и батюшка должен – за некоторое вознаграждение – освятить ее. Но снова вставал вопрос недоуменный: ежели роженице плохо, то как же в таком случае причастить ее? И отцы решали: тогда надобно – дабы батюшка не осквернил чистоту свою о ее скверну – вынести умирающую в другую избу…
И ежегодно в соборное воскресенье – первое воскресенье Великого поста – попики для приобщения всей этой премудрости съезжались к архипастырям своим: «Приспевшу собору всегодищному, многолетствовахом пастырю и учителю своему, в понедельник же слышахом из уст его учение и некая исправления от законных дел, после же даде всем благословение и прощение и отидохом восвояси». А попики просвещение сие распространяли, конечно, по стадам своим бессловесным, и так свет Христов и осиявал все более и более недавно столь еще дикую Русь…
И в то время как в палатах митрополичьих и епископских шло обсуждение и углубление всех этих вопросов недоуменных и именем Духа Святого, повелевшего батюшкам взять и решать все, выносились головоломнейшие решения, внизу, по стогнам киевским, монахи, зевая, водили богомольцев со всех концов Руси от одной святыни к другой и рассказывали им о всяких чудесах, которыми ознаменовал Господь град сей святой – ничто не пленяло и не восхищало так простые сердца эти, как именно чудеса!.. Монашество на Руси тоже крепло все более и более. Писатель XII века Евстафий, рассказывая о монашестве того времени, говорит, что в монахах было развито суеверие, лицемерие, обманы. Монастыри, соперничая, вымышляли чудеса, создавали разные вещи, которым приписывали мнимую святость, и тем привлекали суеверную толпу. В монастыри набивались ленивцы, тунеядцы, безнравственные люди, прятавшиеся от закона. Невежество среди них было ужасающее. Человек с образованием, поступавший в монастырь, навлекал на себя зависть, клеветы и гонения. На Западе монашеские ордена разнились один от другого родом своей деятельности – о деятельности этой можно, конечно, иметь разные мнения, – на Востоке же способами самоумерщвления. Одни отшельники назывались пещерниками, потому что жили в пещерах, другие в дуплах, и потому назывались дендритами, столпники спасали свою душу на столпах, некоторые ходили для этого нагими, другие – лежали на земле, третьи всегда молчали, четвертые давали обет никогда не мыть ног и назывались поэтому нечистоногими (антиптоподес), некоторые жили в нечистоте, многие терзали себя веригами… Но больше всего было тупиц ко всему равнодушных, пьяниц, развратников, чревоугодников и лентяев, с отвращением отбывавших натуральную повинность по спасению душ и просвещению коснеющих во мраке народов.
– Преподобный отец наш Феодосей, – сдерживая зевоту, раздиравшую его, тянул перед заранее умиленными суздальцами жирный, полусонный, неопрятный монах с обильной перхотью по плечам. – Преподобный отец наш Феодосей ходил всегда в одежде странника нищего. Но князья и великие бояре не гнушались тем, а были завсегда гостями иноков. И вот раз князь Изяслав, обедая в трапезной нашей, весьма хвалил еду нашу. «Вот мои повара, – говорил он, – никак не могут так вкусно приготовить»… «А это потому, – ответствовал ему преподобный, – что у нас в обители все с молитвой делается, а твои люди готовят все со ссорой да враждой…» Вот оно так!.. – откровенно зевнул он до слез: до того осточертело ему повторять все это тысячи раз. – Наше место чудесами на всю, может, вселенную прославлено… – продолжал он, делая усилия, чтобы хоть как-нибудь разнообразить для себя убийственную серость этих наизусть выученных рассказов. – У святых отшельников, – вдруг скакнул он, – живущих в тишине, вдали от мира, бывает жестокая борьба с нечистыми духами, которые мешают им в их благочестивых занятиях. Сам преподобный Феодосей не раз рассказывал, как вдруг иногда подымался в пещере его непереносный шум, как бы от многих колесниц. Кони бросались ему в лицо. Земля тряслась под колесами. Гора от трясения великого обрушивается ему на голову. Но преподобный стоит твердо на молитве, поет псалмы, и все пропадает. В другой раз слышатся ему сопели и гусли, органы и бубны, и сладкие голоса сии приближаются к самому уху. Преподобный крепится, творит молитву, и все громозвучие сие пропадает. Раз начал он класть земные поклоны, и вдруг черный пес стал перед ним и не дает ему поклониться до земли. Преподобный хотел ударить его жезлом – он исчез. Ужасть напала на преподобного, и стал он читать «Да воскреснет Бог и расточатся врази его» – и все: враг расточился…
Богомольцы слушали, боясь проронить хотя бы слово одно, и души их переполнялись благодатным елеем духовным.
– Раз князь Изяслав опозднился в обители нашей, – тянул монах, выбирая из сокровищницы памяти своей новое происшествие чудесное, – и по случаю непогоды должен был остаться у нас переночевать. Игумен велел приготовить ему ужин, а ключарь говорит, что меду в обители больше нет. «Да нет ли хоть мало?» – вопросил его преподобный. «Ничего нету, – говорит ключарь, – я и бочку опрокинул». «Посмотри истее», – сказал Феодосей. «Говорю тебе, святой отец, что ничего нету». И сказал тогда преподобный: «Иди же по глаголу моему во имя Господа и обрашеши все на потребу». Ключарь пришел в медушу и видит бочку, полную меду! Он со страхом возвратился к игумену и рассказал все. И сказал преподобный: «Молчи, подавай князю и братии – это благословение Божие»…
Зевая, монах вел суздальцев в Печерскую церковь и начинал рассказывать им о тех чудесах, которыми переполнена была история храма сего.
– Вот когда начали мастера выкладывать алтарь мусиею5252
Мусия – мозаика.
[Закрыть], – говорил он, рассеянно глядя на хорошенькую Настенку, – образ Божьей Матери просветился сам собой паче солнца. Все предстоявшие, не могуще зрети, пали ниц. Опомнившись, они взглянули, и вдруг из уст Богородицы вылетел белый голубь, полетел к Спасову образу и там скрылся. Предстоявшие озирались кругом. И се, голубь, вылетел из уст Спасителя и начал носиться по всей церкви, садясь кому на голову, кому на плечо и, наконец, скрылся за местной богородичной иконой. Приставили лестницу, чтобы поймать его, но не нашли, а он вдруг вылетел сам и поднялся вверх. Все закричали: ловите, ловите его!.. Но голубь влетел в уста Спасовы и паки осиял всех предстоявших свет паче солнца и все пали ниц, прославляя Господа… Какая церковь в Ветхом или в Новом Завете ознаменовалась такими чудесами?! – вдруг оживился он. – Пройдите все книги сии и нигде не найдете вы подобных чудес… По небесному гласу, поясом Господа нашего Иисуса Христа, сына Божия, была измерена высота церкви, длина и ширина ее. Богородица дала злато на построение ее. Иногда на месте ее построения являлся огненный столп, а иногда облако, а иногда радуга-дуга. Часто являлась над церковью икона, носимая ангелами. Многажды церковь была видима прежде ее построения, а когда построили ее, то свыше было послано ей благословение…
Священный ужас леденил паломников: а они посмели в липовых лапотках своих войти в такое место!.. Многие плакали. А это подмывало монаха на дальнейшее…
– И сколько чудес было совершено святой иконой сей, присланной в обитель самой Богородицей!.. – восклицал он, не сводя глаз с Настенки. – Вот было у нас в Киеве два человека от великих града, Иоанн и Сергий, которые перед иконой сей вступили в духовное братство. Спустя много лет Иоанн, готовясь умереть, вручил Сергию на хранение деньги для своего пятилетнего сына в наследство. Достигнувши пятнадцати лет, юноша сей захотел получить свои деньги обратно, но Сергий во всем заперся и не хотел отдавать. Тогда порешили призвать икону Божьей Матери в свидетельницы, и она обличила и жестоко наказала Сергия и вместе удвоила находившиеся у него на хранении деньги… А то некий Судислав Геуевич обещал раз пожертвовать две гривны золота и венец на икону сию и – забыл. И се по днях некиих спящу ему в полудне, явилась икона сия и напомнила ему об обещании его, и он должен был принести дар свой…
Но ничто не волновало так странников, не умиляло, не поднимало сердца их горе, как пещеры, в которых покоились святые мощи угодников Божиих. Господи-батюшка, и чего-чего тут только не было!..
– Это вот покоится святой Григорий-чудотворец, которого князь, разгневавшись, бросил в Днепр… – зевая, бубнил монах, тыкая рукой в сторону какого-то тючка, над которым тихо теплилась свечечка восковая. – И се: святой с веревкой и камнем на шее очутился в келии своей… Вот это святой Иоанн-затворник, который провел тридцать лет в затворе, борясь со статью плотской… – покосился он на Настенку. – И за то получил он от Господа дар исцелять ее у других. И многие, припадавшие к мощам его святым, получили тут исцеление. Это вот Прохор-лебедник, который вкушал только хлеб из лебеды. Во время голода, случившегося раз в стране сей, он питал хлебами своими неимущих, и хлеба сии казались им лучше пшеничных. А тут вот покоится Максим-печерник, который копал пещеры для умирающих. За это он сподобился дара чудотворения, так что голоса его слушались даже мертвые. Тут – многострадальный Пимен. Родившись и выросши в болезнях, возжелал он постричься в монахи. Но родители, надеясь на его выздоровление, не дозволяли. Приведенный им для исцеления в нашу лавру, он в одну ночь был пострижен ангелами и, пролежав много лет в болезни, сотворил многие и великие чудеса… А ты…
– …Симона Гулимана, лентяя преподобного… – в низком поклоне тихонько уронил проходивший мимо с другой партией богомольцев монашек с востренькими глазками.
Оба усмехнулись. Проводнику суздальцев стало невмочь. Таких богомольцев он звал «плотвой», ничего не стоящей рыбой. Он любил красную рыбу, осетров, как говорил он: торговых людей богатых, боярынь, княгинь… И, выведя своих богомольцев из пещер наверх, он, едва держась на ногах от утомления душевного, едва ворочая языком, рассказывал им о прошлом земли сей.
– И стал прозвутерь рассказывать им о трех отроках в пеши… Но невегласы смеялись. Ежели, говорят, все то верно, то брось Евангелие твое на наших глазах в огонь, и ежели уцелеет оно, мы приступим к новому богу… Разложили великий огонь, и прозвутерь возвел глаза и руки свои к небу и бросил свиток в огонь, и он оказался цел. И будучи поражены величием чуда сего, варвары без колебания устремились скорее креститься и, очищенные умом, прославили Спасителя нашего, которому слава и держава ныне и присно, – говорил он, протягивая руку за плодоношением, – и во веки веков, аминь…
Правнук мономаха
А в то время как баушка Марфа и другие богомольцы земель Суздальской, Рязанской, Черниговской, Новгородской, Полоцкой и других умилялись, били поклоны, там святым маслом мазались, там водичку святую испивали, там на тьму египетскую в склянице с ужасом дивились, и всюду с великим душевным умилением раздавали монахам подарки свои скромные, трудовые, Плоскиня, бывший атаман бродников, стоял пред стареньким попиком у аналоя и в полусумраке церкви смиренно обнажал пред тихим старцем душу свою.
– Великий грешник я, отче… – стукнув себя в грудь, говорил старый воин. – И не знаю, сможет ли Господь простить столь великого злодея…
– Господь милосердый может простить все… – тихо, с глубокой верой проговорил попик. – Говори. Он слушает тебя…
– Слыхал ли ты, отче, что у князя Андрея Боголюбского сын был, Юрий, младший?..
– Не помню, старче… – отвечал белый старичок. – Я от дела мира прожил в стороне всю жизнь…
– Так вот, когда убили князя Андрея Боголюбского его бояре, и насмеялись над телом его, выбросивши его нагим в огород зеленный, на престол суздальский вступил брат его Всеволод, которого народ – может, помнишь – Большим Гнездом звал: больно уж велика была у него семья. И повел князь Всеволод дело так, чтобы уделов у себя в земле Суздальской больше не давать никому: он, как и князь Андрей Боголюбский, понимал, что размирье княжья убивает Русскую землю, и хотел, чтобы над нею одна голова была. И так твердо вел он это дело, что даже Юрию, сыну князя Андрея, не дал он в земле отца его ни единого городка: живи как хочешь. А был тот парень молодой, горячий, собою красивый и с горя, да и просто от безделия стал он вести жизнь распутную: пил, блудил и всячески грешил перед людьми и перед Господом. И так стало ему у себя на родине тяжко, что решил он все бросить и бежать к половцам: его баушка, жена князя Юрия Долгорукого, половчанка была… И кочевал он с половцами по степям туда и сюда, и иногда вместе с ними бурей на Русь налетал, на ту Русь, в которой для него, сына Андрея Боголюбского, не оказалось места… Тут вдруг приехал к нему из Грузии в степь сватом от бояр грузинских купец их один именитый. Ударили по рукам, князь Юрий поехал в Грузию, женился на царице их молодой, Тамаре, и вместе с ней – они крепко слюбились – стали они править народом грузинским. В боях князь Юрий был всегда в первых рядах, и имя русское не посрамил ни единого разу. Но дальше – больше, стал князь Юрий тосковать по Руси раздольной, по Володимиру на Клязьме светлой, на берегах которой он провел все детство свое, по лесам темным, в которые он еще мальчиком выезжал со своим отцом тенета заметывать и творить ловы. Все тут опротивело ему, от туги глаза на свет Божий не глядели бы, и даже прекрасная Тамара не могла утешить тоски его. И пуще всего, как ржа железо, точила его сердце обида великая: как, как ему, сыну Андрея Боголюбского, не оказалось на Руси места?! Горько это было, и злоба помутила ум его. Снова стал он пить и гулять с веселыми дружками своими так, что жена его милая глаз никогда не осушала. И бояре ее да святые отцы, сговорившись, выслали его за рубежи царства грузинского, к грекам. Тамара слышать о том не хотела, и вот, с ее согласия, тайно воротился он в Грузию, поднял против злодеев-захватчиков восстание, но его сломили, и он вынужден был бежать, покинуть навсегда жену свою любимую, пред которой он так нагрешил… Он долго шатался у греков, был потом в плену у ляхов, у угров, – всего и не перескажешь! Имя свое высокое он от всех скрывал – на что оно было ему теперь? Обида жгучая не покидала сердца его: раз ему не дали места на Руси, он сам, своей рукой возьмет его!.. И вот бежал он от угров на Русь и стал во главе повольников, бродников, которые сбирались со всей Руси, с бору да с сосенки, которым, как и ему, не было места на Руси. И холопы тут были, и попы-расстриги, и смерды – чего хочешь… И вот вдруг надвинулись на степи половецкие из-за Волги татары. Князь Юрий, атаман бродников, открылся воеводам татарским и поставил им условие: ежели они помогут ему воротить достояние отцовское, ежели займет он через них на Руси положение ему подобающее, то вот его меч им на помощь. И не только честолюбие одно толкнуло князя Юрия на дело такое, отче, нет: ему, как и отцу, хотелось единой главы для Руси. Княжье не понимало этой думки Боголюбского и губило Русь, а с нею и себя… Татары согласились, и впервые с враждебной ему Русью князь встретился на берегах Калки. Княжье – хотя были они все родичи его – не признали его: он постарел и болезнь оспа совсем изуродовала обличье его. И тут, после победы, татары впервые обманули его: он поклялся за них на кресте, что они отпустят невредимым киевского князя Мстислава с дружиной и воями его, а татарва порубила их всех… Но делать было уже нечего. Татары отошли в степи, а с ними потянулись и бродники, которым все одно деваться было некуда. А потом, некоторое время спустя, снова тучей надвинулись они на Русь. На этот раз пошли они ратью на самое главное из княжений, на землю Суздальскую. И князь Юрий, уже старик, но все с той же обидой, с той же думкой тайной пошел с ними на землю отца своего. И не только Володимир, но всю землю Суздальскую пустили поганые дымом. И когда князь Юрий увидел впервые свое Боголюбово, в котором он ребенком бегал, в развалинах, он точно проснулся: нельзя такой ценой платить за обиду свою, нельзя через поганых собирать Русь к одним рукам! Он ошибся. Он понял, что надо поправиться. Правда, и до него водили князья на землю Русскую неверных, чтобы мстить за обиды свои, но у князя Юрия на такое дело не хватило сердца… И вот задумал он со своими бродниками вину свою перед землей отцов искупить и – погубить татарву… Батый направился на Великий Новгород, и вот тут-то, по пути, в болотах и дебрях непроходимых, и захотел князь утопить по весне татар. Но дело не вышло: судьба спасла поганых. И князь Юрий, бросив их, пошел с ушкуйниками новгородскими на грани земли Новгородской, чтобы крепить там власть Великого Новгорода, чтобы расплодить землю Русскую еще и еще… Но – годы брали свое, и там, среди лесов дремучих, открыл ему, старику, Господь, что время уже кончать все дела свои земные и готовить душу к ответу перед Господом…
Взволнованный рябой старик в новых белых лапотках замолчал.
– Так это ты князь Юрий? – спросил тоже взволнованный священник.
– Да, я князь Юрий, сын князя Андрея Боголюбского, внук Юрия Долгорукого, правнук Мономаха…
– Неисповедимы пути Господни, – глубоко вздохнул старик. – Зачем же ты пришел ко мне, княже?
– Хочу я образ ангельский принять, отче, ежели ты найдешь меня, грешника, достойным его… – потупившись, сдерживая волнение, отвечал князь.
– Нет такого грешника, которого не простил бы Господь, – повторил с глубокой верой попик. – Ежели он принесет Ему покаяние. Кайся, княже…
Князь Юрий заговорил. И обезображенное лицо его становилось все мягче и мягче, все светлее. И когда священник покрыл его епитрахилью и прочел над ним молитву установленную, все лицо старика бродяги покрылось слезами благодатными.
– Я поговорю с игуменом, княже… – сказал попик. – Когда хотел бы ты принять образ ангельский?
– Хоть сегодня, отче. Пора…
– Я поговорю с игуменом… – повторил священник. – А теперь помолись тут в одиночестве, чтобы Господь укрепил тебя на трудном пути твоем, а я пойду… А помолившись, и ты к отцу игумену приходи.
И когда вскоре в храме Пресвятые Богородицы в Печерском монастыре начался под скорбные звуки хора волнующий обряд пострижения, князь Юрий, стоя один посреди храма, потрясенный этим прощанием со всей жизнью своей, неудержимо вспоминал эту, уже сгоревшую жизнь…
Вспоминались ему золотые дни детства его: и суровый дед, на крови Москву основавший, и любимая баушка-баловница, половчанка, с ее смешным русским языком, и суровый отец, князь Андрей, и милая, кроткая мать, дочь убитого дедом боярина Кучки, которая, испуганная горячим нравом сына любимого, все, бывало, повторяла ему: дашь сердцу волю, попадешь в неволю… И тихое, зеленое Боголюбово вспомнилось над Клязьмой светлой, и те страшные дни мятежа, когда труп отца его валялся голый на огороде, и все издевались над ним… И вспомнились ему бескрайние степи половецкие, в которых он кочевал со степняками, и ярые набеги на Русь, отвергшую его… И вспоминалась – и ярко так, нежно – Тамара милая и первое время любви их горячей в старом, темном замке, над буйным Тереком, на скале, и эти прекрасные горы с их грозными обвалами, и полет орлов в небе утреннем, и нежный лепет влюбленной красавицы… И вспоминались и последующие годы, когда буйная кровь Долгоруких, с одной стороны, и половцев, степных орлов, – с другой, бросала его по свету белому из одного конца в другой. Пророчество матери милой исполнилось: сердце привело-таки его в неволю страшную. И только стариком уже, на пороге смерти, дал ему Господь сбросить с себя эти страшные цепи…
И он, смиренный, стоял пред сияющим алтарем Господним, и печальные звуки рыдали над его седой склоненной головой…
Баушка Марфа, баушка Степанида, Настенка, вся потухшая, – и здесь не нашла она следа милого своего! – и много другого черного народа и вящих людей глядели сверху, с полатей, на пострижение бродника-князя, и по лицам многих текли слезы умиления.
– А мы-то, мы-то, грешники!.. – вздыхали они. – Матушка, Пречистая, спаси и помилуй нас…









































