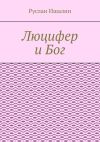Текст книги "Люцифер. Том 1"

Автор книги: Карл Френцель
Жанр: Приключения: прочее, Приключения
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 15 страниц)
Глава IV
– Кому это нужно видеть меня в такую пору! – проговорила с досадой маркиза Гондревилль. – Видно, эта фрейлейн не получила никакого воспитания или меня принимает за горничную.
Маркиза только что села за стол со своей дочерью и принялась за утренний шоколад, когда вошел слуга с докладом, что какая-то фрейлейн желает говорить с нею. Маркиза всегда впадала в раздражительное состояние духа, когда мешали ее утреннему завтраку, а тут еще примешалось то соображение, что она не так одета, чтобы принять девушку бюргерского сословия. Объясняя французскую революцию ослаблением этикета и приличий, Леопольдина не желала распространять в Вене дурной образ мыслей своим появлением в домашнем туалете перед людьми, стоявшими ниже ее по своему общественному положению. Вдобавок ее мучили и другие заботы. Необходимо было все приготовить к званому вечеру, который был назначен в этот же день, тем более что в числе других гостей ожидали одного из эрцгерцогов.
– Я прикажу отказать этой девушке, – сказала маркиза. – Беда не велика, пусть придет в другой раз. Это, вероятно, дочь какого-нибудь отставного чиновника с просьбой о вспомоществовании.
– Разве она не сказала своей фамилии? – спросила Антуанетта.
– Как же, ваше сиятельство, – ответил слуга. – Она назвала себя Армгарт.
Маркиза поставила свою чашку на стол. Она была так удивлена, что у нее едва не вырвалось весьма нелестное восклицание для неожиданной посетительницы, но Антуанетта успела вовремя остановить ее. Она бросила на мать многозначительный взгляд и сказала слуге:
– Проводите фрейлейн Армгарт в мою комнату. Маркиза занята, а я готова принять ее.
Слуга удалился.
– Как! Ты хочешь принять ее! – воскликнула маркиза, багровея от гнева. – Разве можешь ты иметь дело с подобной тварью! Как смеет она войти в наш дом!
– Не забудьте, что это дом графа. Если она прямо обращается к нам, то это лучшее доказательство, что ваше подозрение не имеет никакого основания.
– Может быть, она заранее сговорилась с ним, и наша роль будет самая незавидная.
– Мы узнаем это через несколько минут, – сказала Антуанетта, поднимаясь со своего места.
Для молодой графини было своего рода торжеством, что девушка, к которой дядя ее чувствовал такую очевидную привязанность, является к ней в виде просительницы. Она сама хотела сделать первый шаг к знакомству, отчасти из любопытства и главным образом из ревности, но теперь счастливая случайность избавляла ее от поступка, который был тяжелой жертвой для ее самолюбия.
Если бы Магдалена была спокойнее духом и глаза ее не были затуманены слезами, то она, вероятно, была бы неприятно поражена тем взглядом, который бросила на нее молодая графиня, входя в комнату. Отзыв Цамбелли о красоте дочери секретаря возбудил зависть Антуанетты, которая не выносила похвал чужой красоте, тем более что шевалье осмелился сравнивать их.
«Я красивее ее», – подумала графиня, вглядываясь в миловидные, но далеко не правильные черты посетительницы; и лицо ее опять приняло то идеальное выражение спокойствия, которым так восхитился Эгберт при первой встрече с нею.
Она придвинула кресло своей гостье и, заметив, что глаза ее полны слез, спросила о причине ее горя. Простой и правдивый рассказ молодой девушки глубоко тронул Антуанетту, так что незаметно для нее самой холодный и официальный тон, с которым она приняла ее, перешел в ласковый и задушевный.
Магдалена пришла к ним просить их заступничества у графа. Отец ее не возвращался домой со вчерашнего вечера, и до них дошли самые дурные вести. Одно из двух: или его заключили в тюрьму за какое-то преступление, или он решился на самоубийство. Час тому назад у них в доме сделан обыск; чиновники забрали все его бумаги и опечатали кабинет.
– Матушка сама хотела обратиться к графу, – добавила Магдалена. – Он всегда был милостив к нам, но от горя и беспокойства она слегла в постель. Это придало мне смелости обратиться к вам и к маркизе в надежде, что вы не откажете передать нашу просьбу графу.
– Я сейчас пошлю за дядей, – ответила с живостью Антуанетта, которая чувствовала теперь искреннее расположение к своей мнимой сопернице и от всего сердца готова была помочь ей.
Она взялась за звонок, чтобы позвать слугу, но в этот момент граф неожиданно вошел в комнату.
Антуанетта изменилась в лице. В ней опять заговорила ревность. «Он пришел к ней, а не к тебе», – подумала она. Это подозрение еще больше усилилось, когда Антуанетта увидела нежный и озабоченный взгляд, который граф бросил на Магдалену.
– Что с тобой, что с вами, фрейлейн Армгарт? – сказал он, подходя к ней. – Не случилось ли чего особенного? – Затем, обратившись к своей племяннице, он добавил: – Я очень благодарен тебе, Антуанетта, что ты ласково приняла это бедное дитя. Ты сделала мне этим большое одолжение…
Граф говорил торопливо, взволнованным голосом и, слушая рассказ Магдалены, закрыл на секунду лицо обеими руками.
– Печальное известие, – сказал он, ходя взад и вперед по комнате, причем лицо его опять приняло обычное выражение спокойствия и уверенности. – Но не пугайтесь и не унывайте, моя дорогая фрейлейн. Я убежден, что Армгарт не совершил никакого преступления и что власти принимают более серьезные и строгие меры, чем следует… Также нет никакого основания предполагать, чтобы отец ваш решился на самоубийство, он слишком благоразумный человек. Ну а что делает Геймвальд, где он?
– Вы знаете его, граф, – ответила, краснея, Магдалена. – Он принял в нас самое живое участие, все время присутствовал при обыске вместо матери и теперь пошел искать отца.
– Да, это странствующий рыцарь в полном смысле этого слова, – сказал граф. – Ты недаром прозвала его так, Антуанетта.
Слова эти наполнили ужасом сердце Магдалены. Она с невольным испугом взглянула на молодую графиню. «Эгберт знаком с этой блестящей красавицей и нравится ей, – подумала с отчаянием молодая девушка. – Разве ты можешь сравниться с нею!..»
– Что с вами? – спросил граф, взяв ее за руку. – Отчего так побледнели? Вы не должны терять голову, мое милое дитя. Рано или поздно каждого из нас постигают бури. Я сейчас поеду к министру и узнаю, в чем обвиняют вашего отца. Скажите, пожалуйста, вы не замечали в нем никакой перемены в последнее время?
Магдалена не могла припомнить ни одного определенного факта, кроме того, что отец казался ей измученным от усиленной работы. При этом она вспомнила посещение Цамбелли и заметила, что разговор с ним сильнее взволновал отца, нежели можно было ожидать.
Антуанетта быстро отвернулась к окну при этих словах, а граф воскликнул с досадой:
– Жаль, что я раньше не знал этого. Я не подозревал, что он был у вас. Где вмешается этот проклятый итальянец, там не жди добра!
Сказав это, граф тотчас же раскаялся в своей горячности, заметив испуг Магдалены.
– Идите домой, милое дитя мое, – сказал он ей ласковым голосом. – Не плачьте. Может быть, Геймвальд принесет вам хорошие известия. Передайте ему, что я надеюсь увидеть его сегодня вечером у нас. – При этом граф Вольфсегг со смущением взглянул на свою племянницу, как будто хотел просить ее о чем-то и не решался.
Антуанетта невольно улыбнулась, угадав его желание.
– Оставьте нас вдвоем, дядя, – сказала она. – Вы только пугаете фрейлейн Армгарт своими вопросами. Пусть она успокоится, и я сама провожу ее домой в нашей карете.
– Ты ангел, – ответил ей граф и, обратившись к Магдалене, добавил: – Вы видите, ей невозможно сопротивляться. До свидания. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы выручить Армгарта из беды.
Антуанетта, взяв на свое попечение молодую девушку и задавшись целью утешить ее, помимо своей воли преследовала другую затаенную цель. Она надеялась из дружеского разговора со своей сверстницей узнать ее отношение к графу и Цамбелли и разрешить таким образом мучившие ее вопросы. Она сознательно не стремилась к этому, не прибегала к искусственно льстивым речам, чтобы опутать незлобивую девушку и заслужить ее доверие. Все сделалось как бы само собою. Магдалена в простоте душевной откровенно рассказала молодой графине свое недолгое прошлое и открыла ей все помыслы своего сердца. Оно было так же чисто и прозрачно, как горный источник, в котором отражается голубое небо и солнце. Проницательный взгляд Антуанетты увидел на дне его только одно изображение – это образ белокурого Эгберта.
Проводив Магдалену и возвращаясь одна в карете, молодая графиня улыбалась, припоминая свои недавние сомнения. «Как это мне раньше не пришло в голову? – спрашивала она себя. – Магдалена должна была полюбить его, живя с ним в одном доме и видясь ежедневно… Если она боится, что ее рыцарь влюбится в меня, то я сегодня же вечером скажу ему, что взяла Магдалену под мое покровительство и что он не должен подавать ей повода к огорчению».
Относительно графа Антуанетта также окончательно успокоилась. Она была теперь уверена, что между ним и Магдаленой не было и тени нежных отношений, и, скорее, можно было предполагать, что он покровительствует ее сближению с Эгбертом. Но для Антуанетты оставалась загадкой причина дружбы графа с Армгартами. Она даже задала себе вопрос: не был ли когда-нибудь ее дядя в связи с женой Армгарта, но тотчас же отказалась от этой мысли. Если бы это было в действительности, то граф, вероятно, не выказывал бы так явно своего расположения, и супруги Армгарт не жили бы так дружно! «Отчего это мы так склонны, – спрашивала себя Антуанетта, – отыскивать дурной повод в действиях, которых мы не можем себе объяснить? Граф вознаграждает дочь за верную службу отца; он заботился об ее воспитании и, привязавшись к ней, восхищается ее красотой и миловидностью. Он благородный и великодушный человек, а мы настолько злы и мелочны, что приписываем ему разные слабости и судим о его нравственной высоте по жалким свойствам других людей».
Антуанетта была счастлива одной мыслью, что человек, которого она уважала больше всего на свете, стоит вне подозрений. В порыве увлечения она готова была отказаться от честолюбивых мечтаний, чтобы остаться около него и покорно служить ему. В том же настроении духа вышла она к многочисленному обществу, которое собралось в этот вечер в их доме. Она хотела сказать Цамбелли: «Ты ошибся, я могу довольствоваться скромною участью, которая выпала мне на долю, и ничто не влечет меня в тот блестящий и обманчивый мир, который ты рисовал мне такими яркими красками».
Но шевалье не был в числе гостей. В другое время отсутствие незначительного дворянина, вероятно, прошло бы незамеченным в этом избранном обществе, где были представители стольких знатных фамилий австрийского дворянства, военного и дипломатического мира и такое множество красивых женщин. Но теперь большинство присутствующих нетерпеливо ожидало появления Цамбелли, и взгляды пожилых мужчин обращались на створчатые двери всякий раз, когда они открывались для нового гостя. Таким вниманием Цамбелли был обязан тому обстоятельству, что внезапное исчезновение Армгарта и обыск в гостинице «Kugel» одинаково интересовали всех, и многим было известно, что секретарь французского посольства Лепик и Цамбелли были усердными посетителями гостиницы.
Граф проходил между группами гостей, знакомя их друг с другом, раскланивался с одними, заговаривал с другими.
– А что наше пари, Пухгейм? – сказал он барону. – Шевалье не появляется.
Барон хотел задержать его в надежде получить от него какие-нибудь новые сведения, но Вольфсегг был уже на другом конце залы.
– Не сообщил ли вам граф чего-нибудь важного? – спросил барона стоявший возле него господин.
– Нет, он только сказал, что нашему голубятнику грозит опасность.
– Какие у вас странные сравнения, Пухгейм. Уж не Австрию вы величаете таким образом?
– Разумеется, и теперь в голубятнике большой переполох, потому что над ним носится орел…
Появление эрцгерцога Максимилиана сразу прекратило все разговоры, так что в залах на несколько минут водворилось мертвое молчание. Но вслед за тем заиграла музыка и все общество радостно приветствовало почетного гостя, который в это время пользовался большой популярностью в Австрии. Это был брат императрицы Марии-Луизы, дочери моденского эрцгерцога Фердинанда, который не менее сестры своей ненавидел Францию и, открыто придерживаясь партии войны, был воодушевлен желанием заслужить те же лавры, что и его родственник Карл, победитель при Моро.
То же воинственное настроение охватило тогда всю Австрию, и никогда еще партия войны не была так сильна, как в это время. Император, все его семейство, двор и войско не могли забыть постыдного поражения при Маренго и Ульме; дворянство ненавидело революционную Францию и Бонапарта, порождение той же революции; народ проклинал гнет и владычество французов. Всех более или менее воодушевляло сознание своей немецкой национальности и мечта об образовании такого же могущественного австрийского государства, как в былые времена. Для правительственных лиц вопрос заключался в перевесе власти в Германии; для народа желательно было его объединение с другими немецкими племенами.
Напряженное состояние умов сказывалось даже в настроении праздничной толпы, наполнявшей великолепные залы графа Вольфсегга, и в разговорах, которые преимущественно вращались около политики.
Эгберт был новичком в этом обществе и не разделял его интересов; для него существовала только внешняя сторона этой жизни, которая производила на него чарующее впечатление. Роскошная обстановка аристократического вечера была для него таким непривычным зрелищем, что он не мог прийти в себя от восторга. Огромная зала сияла сотнями свечей, которые казались еще многочисленнее, отражаясь в зеркалах и в хрустале люстр; ярко блестела богатая позолота на стенах и на пестром расписном потолке. В углах залы были устроены беседки из дорогих растений; цветы скрывали музыкантов, играющих на эстраде, придавая зале вид какого-то волшебного сада. Звуки музыки, постепенно замирая, перешли в тихую, чуть слышную мелодию, которая, не мешая разговорам, гармонично аккомпанировала им, как пение Ариэля.
Много дурного приписывала молва австрийскому дворянству и высшему венскому обществу; немало обвинений против них слышал Эгберт от своего покойного отца, который горячо восставал против праздного существования, где конечной целью являлось одно наслаждение. Но это предубеждение тотчас же исчезло, когда Эгберт очутился в высшей сфере – как иронически называл Гуго высший свет, – который и во сне не представлялся мечтательному юноше таким прекрасным, каким он нашел его в этот вечер. Он не в состоянии был критически относиться к этому привлекательному миру, где все отуманивало его и действовало на его воображение. Опьянение было слишком сильно; какая-то невидимая рука влекла его вперед. Но куда? Он не в состоянии был дать себе в этом отчет, и в этой неопределенности была своего рода поэзия. С другой стороны, он испытывал некоторое удовольствие, что и здесь избранное общество отнеслось к нему, простому, малоизвестному бюргеру, с той же любезностью, которая поразила его при первом его появлении в замке графа Вольфсегга. Он видел, что мужчины теснились около него, внимательно выслушивая каждое слово, что дамы дружелюбно улыбались ему; но ему и в голову не приходило, что всем этим он обязан хозяину дома, который счел нужным сообщить своим гостям, что Эгберта Геймвальда вчера призывал министр и беседовал с ним до полуночи. Таким образом, неожиданно для него самого Эгберт превратился в важного политического деятеля; одни смотрели на него, как на лицо, пользующееся доверием министра, с которым следует познакомиться на всякий случай; для других он представлял интерес как человек, имеющий подробные сведения о таинственных происшествиях прошлой ночи и от которого можно будет узнать много любопытного.
Почет, которым пользовался Эгберт у гостей графа Вольфсегга, отозвался до известной степени и на его друге Гуго. Макс Ауерсперг не расставался с ним и представил его своим молодым друзьям, как одного из самых известных артистов Северной Германии, ученика и соперника великого Иффланда. Все это было сказано таким уверенным тоном, что Гуго не мог дать себе отчета: должен ли он сам считать за дурака своего покровителя или тот обходится с ним как с дураком. Но последнее оказалось несправедливым, потому что Ауерсперг, видимо, гордился им и, прогуливаясь с ним по зале, имел такой довольный вид, как будто бы вел под руку какую-нибудь красавицу. Гуго пустился было с ним в философские рассуждения, но скоро должен был перейти на более легкую тему разговора, потому что молодой аристократ не отличался ни быстрым пониманием, ни особенным богатством научных сведений.
Между тем Эгберт, воспользовавшись удобной минутой, когда все общество устремилось навстречу эрцгерцогу, прошел в соседние комнаты. Здесь было пусто. Игроки бросили свои карты, чтобы насладиться лицезрением высокопоставленной особы. Молчаливо стояли по углам кресла и диваны при кротком освещении ламп, как будто нарочно приготовленные для любителей уединения или для нежных объяснений. Чуть слышно доносились звуки музыки. Эгберт не мог понять, что заставляло всех этих людей выказывать такое раболепное поклонение эрцгерцогу, который был так далек от того идеала, который он составил себе о государственном муже и полководце, забывая, что в данном случае окружающее его общество было поставлено в совершенно исключительные условия. В качестве бюргера он никогда не приближался ни к одному из великих мира сего и не испытал того неизбежного обаяния, которое они оказывают на людей, близко стоящих к ним. Как верноподданный, Эгберт чувствовал уважение к одному императору, и только один Бонапарт казался ему достойным поклонения.
Но все эти размышления недолго занимали Эгберта, и более приятные мысли сменили их. Он сел на одно из кресел и машинально следил за женскими фигурами, которые медленно двигались взад и вперед по зале. На этом расстоянии они казались особенно эффектными и воздушными в своих легких нарядах при ярком свете. Тихая музыка еще более увеличивала очарование волшебной картины. Эгберту казалось, что он видит сон.
– Вот куда вы удалились, господин Геймвальд, – сказала ему Антуанетта, садясь возле него. – Посмотрели бы вы на своего приятеля. Пока вы сидели тут, он уже успел сдружиться с кузеном Максом и с молодыми офицерами и вступить с ними в братство по оружию. Между Пруссией и Австрией заключен союз.
– Он будет нарушен, когда представитель Пруссии поступит на сцену, – ответил Эгберт, смущенный неожиданным появлением молодой графини.
– Желала бы я знать причину вашего бегства, – сказала Антуанетта. – Неужели вы так соскучились в нашем обществе?
– Я смотрел на него издали, и это доставило мне своего рода наслаждение.
– Позвольте вам заметить, господин Геймвальд, что это весьма странный и эгоистический способ наслаждения. Общество имеет на вас известные права, а вы удаляетесь от него. Если люди будут служить друг для друга только предметом для наблюдения или насмешек, то совместная жизнь сделается невозможною. Неужели вы не признаете, что каждый из нас должен служить обществу своим умом и знаниями?
– Несомненно, но я не думаю, чтобы моя беседа могла принести какую бы то ни было пользу.
– Вы забываете, что унижение паче гордости, господин Геймвальд. Я читала когда-то об одном греческом философе, который говорил, что хотя и существуют боги, но они сидят сложа руки и только посмеиваются, глядя на мир и людские страдания. Вы своего рода олимпиец, если не совсем, то в значительной степени.
– Из ваших слов выходит, графиня, что я еще не вполне достиг олимпийского спокойствия, а перед этим вы доказывали мне, что я не гожусь для жизни в обществе. Если я одинаково отстал от неба и земли, то, следовательно, я обретаюсь в промежуточном пространстве. Может быть, вы и правы. Мною часто овладевает какое-то странное чувство отчужденности и полного одиночества. Я не раз задавал себе вопрос: сколько людей стремятся к той же цели, что и ты, находятся с тобой, по-видимому, в таких близких отношениях, а между тем как далек ты от них и они от тебя.
– Да, те люди, которые не представляют для нас никакого интереса или равнодушно относятся к нам, но не друзья наши. Я настолько тщеславна, что решаюсь причислять себя и моего дядю к числу ваших друзей.
– Граф Вольфсегг вряд ли имеет более горячего почитателя и преданного ученика, чем я, если только мне дозволено будет выразиться таким образом. Но кто из нас может сказать, что вполне знает другого человека и читает в его душе, как в своей собственной? Неужели я осмелюсь думать, что знаю вашего дядю и вполне понял его? Не будет ли это таким же самообольщением, как лепет ребенка, который воображает, что он говорит, потому что чувствует потребность общаться. А при таких условиях возможна ли дружба в том смысле, как мы понимаем ее? Наконец, между мною и графом Вольфсеггом, а также и вами, графиня, существует целая пропасть – разница нашего общественного положения…
– Я назову вам другое лицо, где нет этой пропасти, как вы ее называете, и которое безгранично предано вам, как я имела случай убедиться в этом… Неужели вы не считаете фрейлейн Армгарт в числе своих друзей!
– Вы были так добры, графиня, к этой бедной девушке, – ответил Эгберт, краснея и с видимым желанием переменить разговор.
Антуанетта тотчас же заметила это и поспешила вывести из затруднения своего собеседника.
– Да, я имела удовольствие познакомиться с нею сегодня утром, – сказала она. – Надеюсь, вы принесли ей хорошие известия об ее отце?
Эгберт был в нерешимости. Он не хотел лгать и в то же время не считал себя вправе выдать чужую тайну.
– Извините меня, – сказала Антуанетта, поняв причину его молчания. – Я задала нелепый вопрос.
– Я могу только сказать вам, что Армгарт жив, – ответил поспешно Эгберт, так как в дверях показалась величественная фигура графа Вольфсегга. Он искал Антуанетту и, увидев ее, подозвал к себе.
Эгберт последовал за ними в залу, куда за минуту перед тем вошел граф Филипп Стадион. Это был человек лет сорока, аристократической наружности и с самыми изящными манерами. В профиль он представлял поразительное сходство с императором Иосифом II; у него были те же очертания лица, тот же блеск голубых глаз и красивый, смело очерченный лоб. Обойдя залу и поравнявшись с Эгбертом, граф с улыбкой подал ему руку и сказал:
– Позвольте еще раз поблагодарить вас, господин Геймвальд; ваши догадки оказались совершенно справедливыми. Благодаря вам нам удалось вовремя принять меры и все уладить.
– Неужели? – спросил с сомнением Вольфсегг, взяв под руку графа Стадиона и отходя с ним к стенной нише, где на порфировой подставке стоял мраморный бюст Иосифа II, освещенный канделябрами.
– Все сделано, насколько возможно было поправить ошибку, – ответил граф Стадион. – По обыкновению, полиция появилась слишком поздно. Эти господа говорят, что Цамбелли ускользнул каким-то чудом, а я полагаю – по их небрежности. Мы, вероятно, ничего бы не узнали, если бы надворный советник Браулик не обратил внимания на продолжительный разговор вашего protege с секретарем французского посольства и не догадался привести ко мне молодого человека.
– Как вы нашли Эгберта, ваше высокопревосходительство?
– Совершенно так, как вы мне его описали. Это крайне увлекающийся и откровенный юноша. Только он показался мне гораздо рассудительнее и проницательнее, нежели я ожидал. Лепик под влиянием хмеля немного проболтался, приняв Геймвальда за глуповатого матушкиного сынка. Геймвальд понял из его слов, что проигрался не один Лепик и что кто-то из наших оказался изменником. Он подозревает, что Цамбелли сообщена важная тайна.
– Пойман ли шевалье?
– Пока нет. Вероятно, он выехал сегодня рано утром из Вены и ускакал в Париж.
– В Париж?
– Да, я убежден в этом. Оттуда Цамбелли отправится в Бургос или Мадрид к Наполеону. Бумага, которая в его руках, настолько важна, что он, разумеется, употребит все усилия, чтобы передать ее в руки самому императору.
– Следовательно, все наши планы опять разрушены! – сказал Вольфсегг.
Граф Стадион нахмурил брови.
– Я не придаю этому особого значения. Через несколько дней Наполеон все равно узнал бы об этом. Вся Австрия и Германия наводнены его шпионами. Я лично верю в фанатизм. Теперь дело идет о свободе Европы или всемирном владычестве единичной личности. В такой борьбе какой-нибудь частный случай не имеет никакого значения. Кстати, я вам еще не сообщил, какая именно бумага попала в руки Цамбелли. Это шифрованное письмо к Вессенбергу, нашему посланнику при прусском дворе, в котором я сообщал ему о наших приготовлениях к войне, союзе с Англией и убеждал его склонить Пруссию на нашу сторону, так как в марте будущего года мы намерены выступить в поход.
– Это будут мартовские Иды! На этот раз мы увидим не падение цесаря, а смерть Брута.
– Трудно знать заранее будущее. Во всяком случае, Германия будет всегда тем же пугалом для Наполеона, каким был Прометей для Юпитера. Он мог победить нас, пока мы действовали врозь, но теперь правительство, дворянство и народ соединились воедино ввиду общей опасности. Но вы опечалены и в дурном расположении духа, это потому, что придаете этому случаю больше значения, чем бы следовало.
– Не обращайте на это внимания, ваше высокопревосходительство. К несчастью, я слишком скоро поддаюсь первому впечатлению! Это письмо, вероятно, было в руках Армгарта?
– Да, он должен был списать его, но вместо одной он снял две копии. Одна из них в руках Цамбелли, и он отправился с нею к Наполеону в надежде, что наша полиция не успеет его арестовать в пределах Австрии. На всякий случай я отправил сегодня ночью курьера к Меттерниху с известием о случившемся. Ему придется заявить, что депеша подложная. Разумеется, этим дела не поправишь, но для нас нет иного выхода. Все зависит от того положения, в котором это известие застанет Наполеона. Если ему не удалось побить англичан и подавить восстание в Испании, тогда…
– Не имеете ли вы каких-нибудь новых известий из Испании?
– Нет, до нас дошли только слухи, что Бонапарт перешел испанскую границу в первых числах этого месяца и направился к Бургосу. Но что нам за дело до всего этого! Мы защищаем наше отечество, свободу и честь Германии. Мы уже не можем отступить назад. В Австрии еще довольно людей и лошадей; достаточно одного мановения мощной руки, чтобы из земли выросли вооруженные легионы!
– Мощной руки! – повторил многозначительно Вольфсегг. – Но разве можно ожидать чего-либо подобного от императора Франца? Он всегда готов вести войну, но с условием, что останется победителем. Он не вынесет крупных неудач: мы знаем это по Аустерлицу. Теперь он находится под влиянием окружающих его лиц – императрицы, вас, ваше высокопревосходительство, эрцгерцога Максимилиана с его жаждой воинской славы – вы все влечете его за собой. Но долго ли это может продолжаться? До первого проигранного сражения. Он скажет со своей добродушной улыбкой свою обычную фразу: «Ну, ну, мы все устроим», – и помимо вас заключит мир во что бы то ни стало.
– Мы постараемся так обставить дело, чтобы он не мог этого сделать и чтобы его собственная честь удержала его от подобного мира.
– Честь! – повторил Вольфсегг с презрительной улыбкой.
– Вы несправедливы к императору Францу и не можете простить ему, что он наполовину разрушил то, что сделано его великим предшественником, – сказал граф Стадион, указывая на бюст Иосифа II. – Ночные птицы, как Тугут и Кобенцель, изгнаны; для Австрии наступает заря нового дня. Наше государство чисто немецкое; оно не будет принадлежать ни славянам, ни венгерцам. Если отдельные провинции во власти разных племен, то все-таки ими управляет рука немца, и немецкий народ некогда покорил их. Я ни минуты не сомневаюсь в будущем Австрии. Смотрите, как изменилась Вена в последнее время! Из праздного города, утопающего в роскоши, она превратилась в воинственный Илион; всюду слышатся удары молотов, работают кузницы, все вооружаются…
– Вот, кажется, вошел генерал Андраши, – сказал Вольфсегг.
– Да, это он. Маркиза разговаривает с ним. Молодежь принялась за танцы. Пусть веселятся! Одно другому не мешает! Я убежден, что стоит нашим войскам показаться в Баварии и Саксонии, и наступит конец этой постыдной комедии, или так называемому Рейнскому союзу. История не представляет ничего подобного! Немецкие князья настолько унизились, что принимают короны из рук Наполеона! Чем смоют они это пятно со своих гербов? Теперь потерпим до весны. Когда растает лед на Дунае, с гор потекут потоки в долины, тогда мартовский ветер охватит и Северную Германию В Пруссии также началось брожение; ее лучшие мужи: Шилль, Гнейзенау, Блюхер, Шарнгорст – ожидают нашего сигнала, а пока Меттерних будет упражняться в дипломатическом искусстве и угощать французов всевозможными обещаниями.
– Но они скоро перестанут верить им! – ответил Вольфсегг.
– Как хороша ваша племянница, – заметил неожиданно Стадион. – Какая грация и аристократическая легкость движений! Она танцует с Геймвальдом. Вы не находите, граф, что она слишком дружелюбно обращается с молодым бюргером?
– Они познакомились у меня в замке…
– Я хочу послать письмо Меттерниху, в котором думаю подробно описать наше положение и сообщить план действий. Разумеется, это письмо должен передать верный человек, который не возбудил бы подозрений французской полиции. Мне пришел в голову Геймвальд. Что вы думаете об этом, граф?
– Какое странное совпадение! Я сам думал послать с ним письмо в Париж по делу моей сестры. Эгберт богат и независим. Почему бы ему не съездить туда для своего удовольствия и образования и кстати передать наши два письма? К тому же он так восхищается Наполеоном.
– Наполеоном! – повторил с удивлением граф Стадион.
– Да, он, подобно многим немцам, представляет себе Бонапарта каким-то сказочным богатырем. И немудрено! Мы поклоняемся чужому величию, потому что большей частью нас окружают жалкие и ничтожные личности. Во всяком случае, для нас с вами это обстоятельство представляет свои выгоды, потому что оно избавит Эгберта от всяких подозрений со стороны Фуше.
– Не возьмете ли вы на себя труд переговорить об этом с молодым человеком?
– С удовольствием. Я завтра же поговорю с ним.
– Благодарю вас, мой милый граф. Не смею задерживать вас долее. Вернитесь к своим гостям, а я должен отправиться домой, чтобы покончить некоторые спешные дела, – сказал Стадион, дружески пожимая руку хозяину дома.
Граф Вольфсегг, проводив министра и возвратясь в залу, с удовольствием заметил, что его отсутствие не помешало общему веселью. Он видел кругом себя сияющие и оживленные лица, слышал шумный говор и смех. Танцы почти не прекращались, и даже Макс Ауерсперг, вечно занятый разговорами о политике, превратился неожиданно в неутомимого танцора.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.