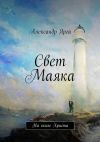Текст книги "Прощание с Литинститутом"

Автор книги: Лев Альтмарк
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 25 страниц)
– Какие бабы? О чём вы?! – неожиданно фыркает из своего уголка Наркис, отпивая из стаканчика апельсиновый сок и смешно при этом оттопыривая мизинчик. – Как вам не стыдно говорить такое в присутствии женщин?
Эдик опасливо косится на неё и разводит руками, мол, ничего не поделаешь – сама смотри, с каким контингентом приходится работать.
– Так ведь женщин среди нас негусто, – зачем-то вставляю свои глупые пять копеек, – одни… эти самые…
Видно, алкоголь начал действовать, но мне расслабляться никак нельзя. Нужно ещё публику развозить по домам. Как, впрочем, и Мишке с Эдиком.
А Мишка тем временем одиноко сидит на камне, отвернувшись ото всех и устремив страдальческий взор на долину, расстилающуюся за холмами, молча жуёт своё мясо и закусывает помидором, грызя его, как яблоко. Наверняка в его мозгу всё ещё вертятся мысли о негодяе-шефе, предложившем купить «мерседес» взамен старенького «рено», о нерадостной перспективе выплаты очередного взноса и грабительского процента, от чего долг банку почему-то не уменьшается, а только растёт.
– Слушай, дорогой, – раздаётся у меня над ухом хрипловатый голос изрядно подпившего Мишеля, – у тебя, говорят, записей полно, и ты даже на радио их крутишь?
– Кто говорит?
– Ребята сказали. – Мишель хитро хихикает и хлопает меня по плечу. – Ты бы записал что-нибудь старому другу…
Интересно получается, прикидываю я, никогда мы с ним близко не общались, а он меня уже в друзья записал. Впрочем, у кавказской публики всё быстро делается – и в друзья запишут, и во враги определят, и похвалят пять раз на дню, и проклянут столько же раз. Короче, полный контакт, от которого частенько бывает не по себе.
– Раз уж мы старые друзья, – криво усмехаюсь, – то, так и быть, запишу. Что бы ты хотел?
– Ну, не знаю, – мнётся Мишель, – что-нибудь на свой вкус.
– Я, например, «Битлс» люблю…
– Да ну их, этих битлов! – машет он руками. – Не люблю я этот трамтарарам!
– Тогда что-нибудь из кавказской музыки? Есть у меня пара подборок…
– Не надо! У меня всё есть без твоих подборок!
– Так уж и всё?
– Естественно! – Мишель разводит руками и тянется за новой рюмкой. – Запиши-ка ты мне что-нибудь блатное, из этого, как его, шансона…
– Что, например?
– Откуда я знаю? Ты же специалист, ты и выбери! – Он на мгновенье задумывается, потом сообщает: – Вот я тебе сейчас напою песню, которая мне нравится. Таких запиши побольше…
– Ой, только здесь петь не надо! – не на шутку беспокоюсь я. – А то тебя публика неправильно поймёт. Давай сделаем так. Я тебе запишу чего-нибудь новенького, чего ты ещё не слышал…
– Я слышал всё!
– Ну, тогда я пас…
– Ладно. Пиши что-нибудь новое. Только учти, если мне не понравится, я на тебя обижусь.
– Начинай обижаться уже сейчас, авансом!
До Мишеля доходит, что он ляпнул что-то не то, и сразу же лезет обниматься:
– Брось, мы же друзья! А между друзьями всё может быть, да? – Он лезет в карман за сигаретами и суёт мне пачку. – На, закуривай! Ты же видишь, мне для друга ничего не жалко. Даже две сигареты можешь взять…
Продолжать беседу с Мишелем не хочется, и я начинаю с надеждой озираться – может, кто-нибудь вклинится в наш разговор, и я смогу перевести на него стрелки, а сам исчезну.
И вдруг я обращаю внимание на странную вещь. Все мы вроде бы сидим вокруг клеёнки – нашего импровизированного стола, друг с другом знакомы не первый день, не раз ругались и мирились, и… всё равно кажется, что мы не вместе, а каждый сидит по отдельности, поодиночке, не вписываясь в компанию. Да и компании-то никакой нет, когда каждый сам по себе…
Отчего так? Не понимаю. Ясное дело, что все устали, у каждого заботы и обязанности не только по работе, но и дома, и жизнь не позволяет расслабляться ни на минуту. Но чтобы не уметь и даже не стремиться отвлечься хотя бы на короткое время от надоевшей бытовухи и побыть таким, каким хотелось бы побывать в мечтах… Вряд ли кто-то сумеет это внятно объяснить не только мне, но и самому себе.
А я чем не лучше других? Возомнил себя сторонним наблюдателем, а сам-то? Каким бы я хотел себя видеть? Сильным, смелым, мужественно режущим правду-матку… Фу, какой штамп! Рэмбо лакированный, эдакий хрестоматийный идеал настоящего мужика… Нет, таким мне никогда не стать и, по правде говоря, скучновато было бы существовать в эдакой целлулоидной оболочке. Не моего размера пиджачок… Да и друзей это не прибавило бы, так что толку от этого имиджа…
С наступлением темноты отправляемся домой. Фары машин выхватывают из мрака петляющую разделительную полосу на дороге и мелькающие среди холмов огоньки спящих еврейских поселений и арабских деревень. На мгновение мелькает рыжеватый бок косули или какого-то другого крупного животного, перебегающего дорогу. Но это видим только мы – Эдик, Мишка и я, все же остальные устало вырубились, едва расселись по машинам. А мы лениво крутим баранки, обмениваемся по переговорным устройствам бородатыми остротами и надоевшими анекдотами, но не с целью рассмешить друг друга, а чтобы не задремать самим…
Вот и закончился праздник. Закончилось веселье. Завтра снова наступят осточертевшие серые будни. А сегодняшний день – сильно ли он отличался от них?
Напоследок неожиданно вспоминаю: а ведь никто из нас сегодня так и не удосужился спросить у Эдика, сколько лет ему стукнуло?
3. СЫН
Сегодня не работаю, потому что взял отгул, и мы с сыном едем в Тель-Авив на экзамен по музыке. Сыну почти восемнадцать, и вместе с аттестатом о среднем образовании он получит аттестат об окончании консерватории по классу классической гитары. Если, конечно, сдаст сегодняшний экзамен.
Мы едем по приморскому шоссе, и настроение у него отчего-то на редкость сумрачное. Гитара в чехле и пакет с бутербродами, заботливо приготовленными женой, лежат на заднем сидении, и сын непроизвольно косится назад, будто от плохого или хорошего сегодняшнего отношения к нам этих предметов зависит его успешное будущее.
Музыкой он занимается с пяти лет, но сперва осваивал фортепиано, потом заявил, что хочет стать гитаристом и разбираться в рок-музыке не хуже своего родителя. Мне это, естественно, понравилось: всё-таки я увидел, что являюсь для него каким-никаким авторитетом. Какому же отцу не льстит, если сын хочет стать похожим на него? Правда, гитара навсегда осталась для меня тайной за семью печатями, и более или менее сносно играть на ней я так и не научился, но сын, сам того не подозревая, пошёл дальше меня в музыке, и это здорово. Преемственность, так сказать, поколений. Аж, невольная слеза накатывалась на родительские глаза…
Сразу после того, как мы с женой перевели его на гитару, он принялся с недетским упорством слушать записи из моей фонотеки, а уж их-то у меня скопилось видимо-невидимо. Сперва я подсовывал ему то, что считал необходимым для осваивания азов рока, и он всё с интересом проглатывал, частенько обсуждал со мной, спорил и иногда не соглашался с моим мнением. Мне это льстило ещё больше, ведь здорово, когда твоя кровинушка имеет благодаря тебе то, о чём ты в своё время и мечтать не мог, а главное, у меня теперь появлялся единомышленник, которому можно доверять и который тебя поддерживает.
Однако прошло какое-то время, и я стал замечать, что диски, выложенные стопкой на его столе, остаются непрослушанными, а из его комнаты всё чаще доносится музыка, которой я не знаю, а он её разыскал и скачал из Интернета. Когда же я попросил познакомить меня с тем, что он слушает, то с великим изумлением услышал, что такую музыку воспринять не смогу, потому что она совсем не похожа на то старьё, из которого состоит моя коллекция.
Это было неожиданно. Выходило, что сын за короткое время освоил то, что я собирал по крупицам и любовно пестовал всю свою жизнь, а затем пошёл дальше, без сожаления оставив меня на моём, с его точки зрения, допотопном уровне.
О, времена, о, нравы… Классический случай, когда яйцо курицу учит, но в глубине души я чувствовал, что здесь что-то не срабатывает, хотя и не лишено здравого смысла. Сын, как я уже успел заметить, был вовсе не таким простачком, который со своей невысокой колокольни стал бы судить о том, чего не понимает. Если он что-то утверждает так уверенно и категорично, значит, в этом есть какое-то зерно. Не такой уж он восторженный и увлекающийся юнец, каковым был я в его годы, а его прозорливости и точности оценок можно просто позавидовать.
Наверняка и мне стоит обязательно прослушать эти записи, решил я, и во мраке ночи, аки вор, принялся в наушниках их прослушивать. Честно признаться, ничего сверхъестественного я не обнаружил, хотя, конечно, было в этой музыке и много любопытного.
Отчего же всё-таки такая резкая реакция сына на мою просьбу?
И вдруг мне открылась простая истина, для кого-то ясная и очевидная, а для меня до последнего времени непонятая. Дело даже не в музыке – старой или новой, дело в другом. Я-то наивно полагал, что в нашем тандеме отец-сын я буду всегда лидером, который задаёт тон и является бесспорным законодателем музыкальных вкусов. А выходило, что сына такое положение дел больше не устраивает. Это не открытый протест с выяснением отношений, руганью и битьём посуды. Это нечто иное, более действенное и неотвратимое. Если при открытом противоборстве возможно как-то примириться и отыскать компромисс, то здесь уже нет – всё однозначно и бесповоротно. Я, как отцепленный вагон, оставался на заброшенном полустанке, он же стремительно набирал ход по рельсам, которые я когда-то старательно прокладывал для него. Печально поглядываю ему вслед и чувствую, что, наверное, ещё мог бы какое-то время двигаться с ним вместе, только нет уже больше того юношеского задора и сил, чтобы не отставать. Да и нужно ли это? Наверняка у моего сына с его юношеским максимализмом нет ни желания, ни интереса тащить за собой такую замшелую и неповоротливую рухлядь, как меня…
Я его понимаю. Разве сам не был таким в его возрасте?
…Сейчас по дороге в Тель-Авив пытаюсь разговорить его и вывести из мрачного состояния. На экзамен нужно являться бодрым, в хорошем настроении, всем своим видом показывая, что преодолеть этот рубеж для тебя пара пустяков. Только такая уверенность заставит экзаменаторов понять, что тебе по плечу рубежи и повыше этого испытания. Ведь всё, даже эти экзамены, необходимы лишь для того, чтобы самому себе – не кому-то, а себе! – доказать: предстоящий успех неминуем, и это лишь начало.
Только как это объяснить? Бубнить прописные истины, которые сын будет слушать и не слышать? Какие отыскать слова, чтобы дошли до него? А он сидит мрачный рядом со мной, без интереса глядит в окно и отделывается краткими «да» или «нет». На лице у него ни кровинки, а потные ладони постоянно трёт о штанины и только морщится, когда я переключаю каналы приёмника, чтобы найти какую-нибудь приятную музыку. Ничто ему сейчас не нравится, даже классика, которую он открыл для себя без всякого моего нажима и слушает теперь постоянно.
– Выключи, папа, – просит он, – лучше ехать в тишине.
– Ты себя плохо чувствуешь? – хватаюсь за соломинку.
– Нет, – вздыхает он и честно признаётся, – просто волнуюсь.
Может, снова начать твердить о том, что на экзамен нужно приходить бодрым и жизнерадостным? Нет, это уже перебор. От подобных уговоров самого скоро начнёт тошнить.
Въезжаем в шумный и беспокойный Тель-Авив в полной тишине. Когда со мной в машине коллеги по работе, всегда кто-то о чём-то рассказывает. Можно слушать или не слушать, но такой гробовой тишины никогда не бывает. Даже непривычно.
Ещё полчаса раскатываем по городу, разыскивая улицу, на которой находится консерватория, и сын немного оживает – помогает расспрашивать прохожих, высовывается из окна и жестом указывает направление. Я с облегчением вздыхаю: наконец хандра закончилась, если он принимает такое деятельное участие в наших блужданиях по незнакомым улицам.
Но едва подъезжаем к стоянке, он неожиданно говорит мне:
– Ты, папа, не ходи со мной, посиди в машине. Я уж один дальше… Ладно?
– Родного отца стесняешься? – усмехаюсь невесело. – Думаешь, моего иврита не хватит, чтобы объяснить, кто я такой и что мне нужно, если спросят?
– Дело не в иврите. Просто не хочу. – Он выходит из машины и расправляет затекшие плечи. – Так ты не пойдёшь?..
Смотрю, как он, бережно придерживая чёрный гитарный футляр, идёт по дорожке к зданию консерватории и перед тем, как скрыться в дверях, мельком оглядывается в мою сторону. Конечно, я сделаю так, как он просил. Разве я могу его обмануть?
Включаю приёмник и отыскиваю радиостанцию с классической музыкой, потом прикуриваю сигарету и тупо разглядываю угол здания. На душе тоскливо и гадко, будто я попал в дурацкую ситуацию на работе, когда по твоей вине кому-то намылят шею. Хоть волком от тоски вой.
В чём причина? Ведь раньше такого никогда не было. Я умел управлять своим настроением и даже в самых неприятных ситуациях мог сказать себе: хватит кукситься, плюнь и разотри, а лучше всего радуйся, что не произошло хуже. И получалось. А вот сегодня не получается.
Сын? Может, и сын… Возраст? Неужели пора подводить итоги и прикидывать, сколько ещё неиспользованных возможностей осталось у тебя в запасе?
Чепуха! Человеку всегда столько лет, на сколько он себя ощущает. И это не расхожая мантра для молодящихся старичков, уверенных, что им ещё хватит спермы для заключительных кавалерийских атак. Я часто встречаю людей, выглядящих старше меня, а на самом деле они почти всегда моложе. Дело не в какой-то генетической предрасположенности к старению. Сравнивая их пессимизм и отношение к жизни, преждевременную, а чаще всего выдуманную усталость, недоверие и подозрительность к окружающим – и свой восторженный инфантилизм, неиссякаемым потоком бьющий из меня, всегда вспоминаю грубоватый, но, наверное, единственно правильный диагноз, поставленный женой: детство у тебя, муженёк, до сих пор в заднице играет! И хоть я каждый раз бурно протестую, в душе-то знаю: она права – кому как не ей известна вся моя подноготная?
А сын? Он совсем другой. Сравниваю себя с ним и всё ясней вижу, что мы расходимся всё дальше и дальше. Пока он был в младенческом возрасте, мне удавалось находить в нём очень много собственных чёрточек, а сейчас этого объединяющего остаётся всё меньше, и всё больше я вижу различий. Его основательность и скрупулёзность, въедливость и аккуратность – это то, чего у меня не было ни раньше, ни сейчас. Наверное, это сегодня особенно важно, жизнь заставляет быть таким и никаким другим. Этому можно только позавидовать. Но это не моё. Остаётся утешаться тем, что имеющееся у меня, может, и не заменит всех этих необходимых качеств, но позволит хотя бы держаться на плаву в нынешних непростых условиях.
Старею, наверное, если стал задумываться о подобных вещах…
Защитный панцирь, который мы надеваем на себя в попытке уберечься от агрессивного внешнего мира, у каждого свой. У одного – это ответная агрессия, у другого – едкая ирония и нигилизм, у третьего – броня неприступности и полная закрытость. Каждый находит свой способ существования. Плохо тому, кто продолжает жить с открытой душой и не перестаёт видеть вокруг себя только светлое и положительное. Эта защита больше не срабатывает…
Вот и мой сын строит свой панцирь, всё реже открывая себя настоящего даже нам, своим самым близким людям. Мы для него в какой-то степени испытательный полигон. Но ведь я отлично знаю, какой он в душе! Иначе что же я тогда отец ему?..
Но только ли панцирь необходим для существования в этом мире? Стены строить несложно, гораздо больней и невыносимей потом остаться внутри них в одиночестве. Поначалу к тебе не смогут найти дорогу друзья, а потом к тебе пропадает интерес вообще у всех. Это страшней всего. Ты, такой хороший и талантливый, добрый и готовый открыть своё сердце любому, кто к тебе потянется, – и вдруг совершенно никому не нужен!
Вспоминаю вчерашний пикник и чувствую, как какая-то мутная пелена спадает с глаз. Теперь мне становится более понятным то, что происходило с каждым из нас, его участников. Как бы мы ни шутили друг над другом, панибратски похлопывая по плечу и переплетая руки в брудершафте, всё равно каждый из нас до конца не осознавал своего одиночества. Этакое мнимое единство, когда сидишь плечом к плечу, ничего не меняет. Отвлекись на миг от застолья – и тут же начинаешь ощущать затылком, как за спиной замерла вечность. Ты в ней всегда одинок и беззащитен, как бы ни цеплялся за чьи-то руки. В какую бы личину записного остряка и компанейского парня ни рядился и какой бы водкой ни заливал своё отчаяние, ты слаб и ничего не можешь противопоставить этому суровому закону природы…
Ужасное изобретение человека – песочные часы. Каждый раз, когда я смотрю, как песчинки сыплются непрерывным потоком, чтобы мелькнуть на мгновенье и потом исчезнуть среди миллионов себе подобных, меня пронзает дрожь. Мы бьёмся, страдаем, пытаемся создать искусственный мир вокруг себя – а для чего? Чтобы оставить след потомкам? И что в результате? Песчинки прессуются в камни, из камней складываются горы, а горы… постепенно перетекают в вечность. Жизни наши – те же песчинки, из которых складывается вечность! Всё, что мы делаем, ничтожно перед ней. Песчинка остаётся песчинкой, даже сверкнув на миг. И следа от неё не останется…
Рано или поздно мы это осознаём, но не опускаем руки, упорно считая, что именно нам удастся что-то изменить, поменять естественный ход вещей. А ведь ничего по-прежнему не меняется. Поколения до нас и поколения после нас делали, делают и будут делать это. С рабской покорностью и обречённостью, но – с надеждой. Нет выхода, но нет и безысходности, пока мы живы…
Чтобы окончательно не впасть в жестокую меланхолию от своих домотканых философствований, вылезаю из машины и иду разыскивать ларёк, чтобы купить пачку сигарет взамен закончившейся, а заодно развеяться. Хоть бы кто-то сейчас позвонил мне, пусть тот же Эдик со своими дурацкими компьютерными проблемами! Лучше уж трепаться о всяких глупостях, как мы это делаем на работе, когда в одиночку сидеть невмоготу, лишь бы не оставаться один на один со своими мрачными мыслями. А я сейчас – разве не один?!
Но никто не звонит. Каждый, небось, сидит сейчас в своей ракушке и так же, как я, раздумывает о смысле жизни. Или о вечности и своём одиночестве. Или даже о песчинках в песочных часах. А может, заливает отчаяние водкой, чтобы ни о чём не думать…
Ах, как горек почему-то дым от сигареты из новой пачки. И к тому же глаза разъедает. Тру их пальцами, тру, а пальцы – мокрые…
4. ПРОБЛЕМЫ
Стоит человеку прицепить на пояс кобуру с пистолетом или повесить на плечо автомат, как у него сразу возникает обманчивое впечатление защищённости и мнимой безопасности. Я даже не говорю о том, что каждому хочется побыть хоть какое-то время крутым ковбоем из американского вестерна. Кажется, возникнет прямая угроза твоей жизни, и ты в считанные секунды сможешь передёрнуть затвор и выстрелить в того, кто тебе угрожает. Никто, конечно, не принимает всерьёз киношные боевики, где стрелок показывает чудеса меткости, и каждая выпущенная пуля непременно находит свою цель. Каждый знает, что обыкновенному нормальному человеку стрельба по живой мишени едва ли доставляет истинное удовольствие. Маньяки и сумасшедшие не в счёт. Таких, хвала аллаху, немного, и оружие в их руки почти не попадает. В наших же руках оно чаще всего служит бутафорией, этаким символом стража, который, согласно Торе, «не дремлет и не спит». Потому и опасаться оружия не стоит.
Если говорить честно, нам, приехавшим сюда не так давно, коренные израильтяне всегда кажутся несколько трусоватыми и склонными к панике. Попробуйте, например, с автоматом через плечо, да ещё с невынутым из него рожком зайти в любой супермаркет. Сразу поднимется крик, и все начнут показывать на вас пальцем. И это после того, как вас уже проверил охранник на входе, имевший возможность убедиться, что если вы и имеете к арабским террористам какое-то отношение, то только тем, что у вас наличествует две руки, две ноги и голова. Правда, мысли в головах различаются резко. В государственное учреждение вас не пустят вовсе – мало ли что у вас в мыслях, даже не смотря на декларируемое нормальное содержимое черепной коробки.
Коренные израильтяне смотрят на нас, репатриантов, несколько свысока, мол, ни черта вы, понаехавшие, не смыслите в наших ближневосточных реалиях, пороха не нюхали, а об арабах вообще не имеете никакого представления. Для них мы прямолинейные и не склонные к компромиссу, каковыми, наверное, и в самом деле являемся. Аборигены уже имели возможность не единожды убедиться, что за чужие спины мы не прячемся, а наши прямолинейность и бескомпромиссность играют всем только на руку – при случае нас удобно использовать в качестве стены, за которую можно укрыться. «Русским», им не привыкать, они выносливые.
Достаточно нейтральное слово «фраер», почерпнутое из лексикона вымерших почти век назад одесских уркаганов, в современном иврите приобрело совершенно иное значение. Фраерами здесь называют тех, кто позволяет себя обманывать и не даёт наглецу должного отпора. То есть, чаще так зовут нашего брата-репатрианта. В то же время здешняя публика отлично понимает, что быть фраерами нас до поры до времени вынуждает ситуация, в которую мы попадаем, не зная языка, местных клановых устоев и не обладая чисто левантийскими качествами – крикливостью, умением вырывать из зубов своё и чужое, выставлять ближнего в невыгодном свете, уважать человека только за наличие денег, но никак не за порядочность. Но мы – к счастью или несчастью – быстро обучаемся, приобретаем навыки общения и изворотливости, ибо в Израиле, как нигде, наверное, актуальна русская поговорка: с волками жить, по-волчьи выть. Учимся выть и так выучиваемся – настоящие волки завидуют…
Но не всё так печально и беспросветно. На низовом уровне, куда попадаешь сразу после приезда в страну, это верно. Каждый проходит азы, ломающие его прежние представления о миропорядке. Упрямую и тупую восточную природу, дипломатично называемую ментальностью, не переиначишь, как ни старайся. Да и не нужно ничего ломать – пускай она остаётся тем, кто с ней родился, сроднился и не может существовать в иных координатах. Впитанное с молоком матери искореняется только с кровью.
Проходит время, – период адаптации и привыкания, – и каждый из нас поднимается на свой реальный уровень. Высокий или нет – не важно, но на свой. Порой и сам не знаешь, на что ты способен в этой жизни и какие скелеты скрываются в твоём шкафу. Местная публика это чувствует, и ей это, естественно, не нравится. Начинается бряцанье копьями раздутых амбиций и дубинками застарелых обид, но ничего сделать уже невозможно. Джинна в бутылке не удержать.
Не то, чтобы наши новые уровни для них недосягаемы, просто для этого нужно прикладывать усилия, а это многим не по силам и… лень. Левантийская, как здесь любят говорить, ментальность. Никуда от неё не денешься. Одно дело, когда она генетическом уровне, совсем другое, когда приобретается и становится второй натурой. Мы и здесь многим даём фору.
Некоторым из наших это не по нраву. Просто не хочется людям, за чьими плечами иная культура и иное мировоззрение, вливаться в общую массу, среди которой существовать проще и комфортней. Масса не отвергает его, потому что уверена в своей мощи и непоколебимости. Она просто перестаёт его замечать. В итоге человек остаётся белой вороной. Ему до конца жизни суждено всему удивляться, наступать на одни и те же грабли, тосковать о покинутой прежней родине и с горечью понимать, что от этой – новой и такой неласковой – никуда не деться. Ты уже сроднился с ней, и назад пути нет…
Это я твёрдо знаю, потому что сам из того же отряда пернатых. Хоть и трудно порой мириться с окружающим миром, но я не стремлюсь что-то в себе изменить. Втайне даже горжусь этим…
Сегодняшний день у меня начался с конфликта с начальством. Подобные баталии происходят регулярно и, как правило, ни к каким печальным последствиям не приводят. Но всё равно неприятно. Кого разделывают под орех в подобных спорах, и кто виноват, уточнять не стоит – и так ясно, даже если никакой моей вины нет. Просто произошла нестыковка, когда мне загодя позвонили из конторы и отправили в одно место, потом перезвонил шеф и отправил в другое, где в настоящее время образовался прорыв. Пропустив мимо ушей мои слова о том, что я, в общем-то, уже ангажирован на сегодня и одновременно в двух местах быть не могу, Меир рявкнул, чтобы я делал то, что он велит, и тут же бросил трубку.
Приказы начальства не обсуждаются, по-солдатски рассудил я, и спокойно завалился спать. Тем более, я сильно устал после вчерашней поездки с сыном на экзамен. Кстати, экзамен он сдал, но результат будет известен позднее.
Утро началось с новых телефонных звонков. Предполагаемый скандал начал набирать обороты. Сперва мне позвонили из конторы и вкрадчиво поинтересовались, почему я не там, куда меня послали, следом позвонил шеф, с пол-оборота взявший верхнюю ноту, дескать, почему я вчера утаил от него информацию. Робких оправданий в том, что слушать меня он вчера не захотел, шеф опять же не воспринял и разразился совсем уже площадной бранью. Мол, я уже не первый раз поступаю так, как выгодно одному лишь мне, а его, моего кормильца, постоянно выставляю дураком.
Я молча слушал его по-восточному цветастую ругань и тоскливо раздумывал о том, что при таком раскладе и такой дремучей организации работы, когда постоянно приходится затыкать очередные бреши, а вся вина перекладывается на простых исполнителей, и дураком никого выставлять не надо. Всё и без того ясно. Тут ты хоть пропеллером вертись, но пока не наведёшь порядка в собственной берлоге, ничего путного не выйдет. Постоянно будут авралы.
Меир, судя по всему, порядка навести не мог и не хотел. Для начала необходимо измениться самому, а это претит его натуре. Наорать, поскандалить, оскорбить попавшую под раздачу жертву, а через минуту великодушно простить, ласково похлопать по плечу и назвать «мотеком» – таков стиль его работы. Так работали его деды и отцы, так будут работать его дети и внуки. Эдакий отходчивый помещик-самодур двадцать первого века. Кнут и пряник в самых экстремальных своих проявлениях. Скотовладелец, одновременно секущий хворостиной и подкармливающий травкой бедных бурёнок, дающих молоко. И это не диагноз временного заболевания, это образ существования.
Исчерпав поток брани и, видимо, решив, что цель достигнута, а я очередной раз унижен и уничтожен, Меир более спокойным тоном сообщает, и раздражения в его голосе больше нет:
– Ладно, езжай туда, куда я тебя отправил…
Инцидент исчерпан. Я не оправдываюсь и не пытаюсь объяснить, что никакой моей вины в чужой накладке нет. Это лишне. Никогда он не признается в неправоте, а только будет орать ещё три дополнительные минуты. Лучше дать ему выговориться до конца, не вслушиваясь в смысл. Через час же, если ему что-то понадобится, я снова превращусь в «сладкого» и «члена его семьи», короче, наступит вселенская тишь да благодать. Никаких воспоминаний о недавней буре.
Но я уже заметил одну странную закономерность: если день начинается с неприятности, то потом до самого вечера всё будет идти наперекосяк. И это наблюдение, увы, оправдывается почти на сто процентов.
Где-то на середине пути, уже на территориях, дорога перегорожена, и с обеих сторон в пробке томятся десятки машин – наших и арабских. Дело в том, что кто-то обнаружил на проезжей части брошенную сумку – «хефец хашуд» – предмет, который может представлять опасность. Прикасаться к нему нельзя, поэтому тотчас вызвали полицию и сапёров, а те всё перегородили и теперь ждут, пока привезут робота, который обезвредит опасную находку. И хоть машина с роботом подъехала почти сразу, и робот, управляемый дистанционно, подхватил сумку своими клешнями, сунул её под бронированный колпак, где тотчас взорвал, не выясняя, что внутри, время стремительно уходит, и попасть на работу к нужному часу я, конечно же, не успеваю.
– Где тебя черти носят? – раздражённо интересуется по переговорному устройству Эдик. Видно, он уже в курсе моего конфликта с начальством, поэтому особо со мной не церемонится. Хоть мы и друзья, но его любовь к начальству превыше дружбы. Приобретённый израильский менталитет…
Пробую объяснить ситуацию на дороге, но недаром он лицо, приближенное к кормушке, посему никаких объяснений слушать не желает. Впереди паровоза, то есть шефа, конечно, не бежит, но и отставать не желает.
– Все люди как люди, – заводится он, и в его голосе слышны знакомые интонации Меира, – успели проскочить до этой пакости, а тебе вечно везёт. Раньше из дома выезжать надо и ехать быстрее, не глазеть на ворон по сторонам!
И тут моему терпению приходит конец.
– Да пошёл ты! – взрываюсь. – Ещё он меня будет отчитывать! Хватит мне Меира на сегодня! Иди докладывай своему хозяину, какой я негодяй, он пускай и доругивает, а ты на меня голос не повышай!
– Между прочим, – идёт на попятную Эдик, – он не только мой хозяин, но и твой – сам ему и докладывай. А меня местное начальство задолбило вопросами: где охранник, почему его на месте нет? Я, между прочим, работаю в другой деревне и никак не могу твою задницу даже на время прикрыть!
– Куда тебе! – всё ещё не успокаиваюсь. – Ты озабочен прикрытием только собственной!.. И учти, у нас уже есть один отец народов, кормилец и благодетель, второго не надо…
– Чего ты на меня взъелся?! – удивляется Эдик. – Я тебе по-дружески, а ты…
– Ладно, замяли! Вон, дорогу уже освободили, можно ехать. На ходу не разговариваю…
С Эдиком мы ругаемся постоянно, не брезгуя обширным арсеналом виртуозных русских выражений, но до глобальных взаимных обид пока не доходит. Как талантливый ученик, он быстро усвоил манеру шефа мгновенно переходить от нормального тона к истошным крикам, а потом опять к ласковому сюсюканью. В некоторых случаях это срабатывает, но только не со мной.
Хоть на перепалку с Эдиком обращать внимание не стоит, но настроение, испорченное утром, портится ещё больше. Закон бутерброда, падающего маслом вниз, неизменен, как каждый фундаментальный закон мироздания: если уж конфликты начались с утра, то не прекратятся до самого вечера. Что-то неприятное ещё случиться просто обязано.
И оно случается. Едва въезжаю в своё поселение, на всех парах подкатываю к садику, в котором сегодня работаю, меня подзывает к себе старшая воспитательница и менторским тоном, каковым, наверное, общается со своими бессловесными нянечками, сообщает неприятную новость. На её бескровных устах ехидная улыбочка, а глаза из-под толстых стёкол очков мечут тихие молнии:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.