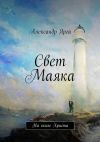Текст книги "Прощание с Литинститутом"

Автор книги: Лев Альтмарк
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 25 (всего у книги 25 страниц)
Мы здесь лежим уже третий день, а хоть бы одна сука с работы пришла проведать! Хозяин, правда, звонил мне, но именно тогда, когда я разговаривать не мог, и с ним общалась моя жена. Помимо банальных вопросов и пожеланий скорейшего выздоровления она от него ничего не услышала. Швили и Диме вообще никто не звонил, хотя их телефоны тоже функционируют без перебоев. Если бы от них что-то потребовалось по работе, то не постеснялись бы беспокоить и среди ночи.
– Может, покушать принести? – участвует в нашем разговоре Швили. – Это я мигом организую. Здесь на кухне один грузин работает, которого я знаю, – он мигом сделает всё, что попрошу. Даже шашлык! Только скажи.
– Не надо, – отвечает Дима, – я не голоден.
– Там, в соседний блок солдат привезли, которые накануне получили ранения на территориях, – делюсь последними больничными сплетнями. – Мужики из нашего отделения уже ходили на них смотреть. Я бы и сам пошёл, да нога не даёт… Хотя к ним никого пока не пускают.
– С ними всё будет хорошо, – уверенно заявляет Дима.
– Откуда ты знаешь? – удивляется Швили.
– Знаю. Они пострадали за правое дело, и спаситель не допустит, чтобы они не выздоровели.
Уклоняться в клерикальные аспекты исцеления пострадавших солдат мне не хочется. Более того, это кощунственно. Лучше перевести разговор на нейтральные темы, хоть на те же воспоминания из личной жизни. Больничная обстановка располагает к этакому слезливому самоедству.
– Вот, помню, был со мной эпизод ещё до приезда в Израиль… – начинаю мучительно вспоминать что-нибудь достопримечательное, однако в голову ничего не лезет. Всякие забавные истории, как правило, вспоминаются вовсе не тогда, когда их следовало бы рассказывать, а гораздо позже, когда они уже не к месту. Оттого частенько и попадаю впросак.
– Оставь, – мотает забинтованной головой Дима, – то, что я сказал, то сказал. И не надо ничего прибавлять. Солдаты будут живы и здоровы – что ещё? А с работы, значит, никто так и не приходил…
– Этих шакалов интересует лишь одно, – недовольно ворчит Швили, – чтобы мы поскорее выходили на службу ишачить на них! На всё остальное им плевать – есть ли у тебя в холодильнике жратва или нет, как ты себя чувствуешь… Главное для них – чтобы ты вкалывал!
– Не заводись, – обрываю его, – всё будет хорошо. Это тебе и Дима скажет.
– Ну да, будет жратва! – не успокаивается Швили. – Мамой клянусь, пока последняя царапина на моей лысине не зарастёт, я даже пальцем не пошевелю… Пускай сами работают!
– Только свистнут, сразу побежишь, – смеюсь невесело, – даже в этой весёлой распашонке с зайчиками!
– Хватит грызться, – говорит Дима и строго глядит на нас взглядом мудрого баптистского проповедника-американца с экрана телевизора. – С нами всё будет хорошо. Вылечимся, отдохнём и продолжим работать на прежних своих местах.
– Ты уверен? – всё ещё обиженно бурчит Швили.
– Уверен, – твёрдо отвечает Дима. – А почему уверен, не спрашивай.
В своих постоянных чёрных очках он раньше выглядел грозным и неприступным, как инквизитор Савонарола, но сегодня очков на нём нет, и глаза его на удивление бесцветные и по-стариковски прозрачные, хотя ему едва перевалило за тридцать.
– Странная штука получается, – неожиданно приходит мне в голову, – взять, к примеру, нас и тех же самых солдат, что привезли сегодня. И мы, и они пострадали на службе, по сути дела, из-за одних и тех же ублюдков. Правда, нас подло сбросили в кювет, а в них открыто стреляли. Но что это меняет? Могло быть наоборот. Однако к солдатам полное уважение – о них и в газетах напишут, их телевидение снимать приедет, народ к ним рвётся проведать. А мы? Кому мы нафиг нужны?!
– Славы захотел? – наконец, начинает улыбаться Швили. – Захотел увидеть себя по телевизору? Могу уверить, дорогой, что, если бы наше дело получило огласку, шеф всеми силами постарался бы её замять. Это не в его интересах. Шакалом последним буду, если это не так!
– Это ещё почему?! – в один голос спрашиваем мы с Димой.
Ицик нетерпеливо бодает воздух головой и разъясняет:
– Если рассказывать о нас по ящику и писать в газетах, то так или иначе всплывёт название фирмы, да? Пару-тройку раз повторят, и это тотчас западёт в уши какому-нибудь шакалу из налоговой инспекции или проверяющему пострашней. А у тех только одна мысль: что это за фирма охранная, в которой работники невинно страдают? Наверняка в ней есть и какие-то другие грешки. Давайте проверим её по полной программе, непременно что-нибудь всплывёт противозаконное…
– Шефа и так проверяют регулярно, – перебиваю его, – сто пудов, что проверяют!
– Проверять-то проверяют, – умудрённым жизнью сатиром усмехается Швили, – но, скорее всего, формально. Много ли шума наделает отлов какой-то неизвестной охранной конторы, которых по стране десятки? А тут название фирмы прогремит, и все про неё будут знать. Вывести её на чистую воду – да это дело чести каждого налогового шакала. На таких вещах и делают карьеры! Как вам не понятно?!
– Теперь понятно, – снова в один голос соглашаемся мы с Димой.
Некоторое время сидим молча и перевариваем безрадостные перспективы, нарисованные бывшим разорившимся владельцем таксистского бизнеса, а ныне весьма преуспевающим лузером, так хорошо прочувствовавшим психологию налоговых инспекторов. Потом я, дабы подвести итог разговору, задумчиво изрекаю:
– Выходит, нам ничего при любом раскладе не светит, братцы. Как ни упирайся и сколько врагов ни перестреляй из своего казённого маузера, конец один – безымянный холмик на погосте, единственными посетителями которого будут окрестные собаки, прибегающие помочиться на наши могильные плиты…
– Не богохульствуй! – обрывает меня Дима. – Если хочешь выдать какую-нибудь глупую остроту, то прежде задумайся, во что она тебе может вылиться!
– И в самом деле, – тотчас переходит на его сторону матёрый атеист Ицик, – не надо о могилах… И без них не по себе!
Тут в Димин отсек грозным броненосцем вплывает востроносая медсестра, с которой у меня с самого начала не сложились отношения, и разгоняет нас по своим закуткам. Диме необходимо принимать таблетки и менять капельницу, а это дело интимное, не терпящее посторонних.
Ну, и фиг с вами! Пойду к себе, займусь излюбленным занятием – убийством времени. Только в охране хотя бы знаешь, когда всё закончится, чтобы ты мог вернуться к более привычному для себя активному образу жизни, а тут в больнице, если тебе и озвучат какой-то срок, то только перед самой выпиской. Никакой определённости.
Впору и в самом деле задуматься о бесцельном прожигании своей драгоценной жизни, когда отсиживаешь время в охране или лежишь на больничной койке. Хотя это прожигание и не такое уж бесцельное – от того и от другого наверняка есть немалая польза. Положительный результат – это когда твой день в охране прошёл без происшествий, а больничный день хоть на какую-то йоту уменьшил твои или чьи-то страдания. А значит, не всё так безнадёжно.
Но… не хочу об этом размышлять, а то чего доброго стану совсем положительным и до тошноты правильным, как сахарный петушок на палочке. Чутьё мне подсказывает, что подобному типу людей нельзя доверять до конца. Что-то в их поведении противоестественное. В каждом из нас живёт чертовщинка, и мы её скрываем ото всех и даже порой от себя до поры до времени. Насколько хватает умения и хитрости. Воспитание, культура – это одно, это наша кожа и панцирь, а чертовщинка – она где-то глубоко под ними, и чем сильнее стараешься её скрыть, тем сильнее она рвётся наружу, дикая и необузданная. Лишь дав ей вырваться, мы становимся настоящими, такими, какими можем быть в самые экстремальные м моменты жизни. В ней наша суть.
Моё стремление хохмить и ёрничать по поводу и без повода – это не поза, не желание показать кому-то свою эрудицию или заткнуть собеседника за пояс. Иногда это происходит помимо желания. Вероятно, в юношеском возрасте, когда необходимо самоутверждаться, это имело какое-то значение, а сейчас я более или менее уже понимаю, на что способен и выше чего мне не прыгнуть, то есть необходимость в доказательствах отпала. Когда мне становится совсем плохо, терзаю себя вопросами: кто ты на самом деле? На что способен? И маленький, слабый и застенчивый человечек внутри меня смущённо просит: оставь, не отнимай у себя последнюю защиту от окружающего, не лишай возможности смеяться, потому что нет у нас с тобой сил на что-то иное… Я и не собираюсь ничего менять в жизни: кожа моя и панцирь – этот не очень весёлый юмор, ведь и в самом деле нет у меня ничего иного, чем я могу хоть как-то прикрыться, кроме этой горькой чертовщинки…
В тумбочке у кровати неожиданно взрывается истошным звонком молчавший всё это время мобильник. Вздрагиваю, но быстро протягиваю к нему руку. Неужели лёд тронулся?
– Здорово! – слышу в трубке голос Эдика. – Ну, как ты?
– Вспомнили, наконец-то! Вот радость-то! – обиженно отвечаю ему. – Всего лишь на третий день – скорости у вас космические…
– Ничего подобного, – огрызается Эдик. – Когда вас привезли сюда, наших человек пять после работы сразу к вам отправились. Прямо с оружием через центральный вход больницы попёрли, местную охрану переполошили в пух и прах. Они тут, бедняги, решили, что пьяная матросня снова идёт брать Зимний да случайно направление перепутала… К вам никого тогда не пустили, потому что все вы в реанимации находились. Кроме Швили, которому реанимация ни в каком состоянии не поможет. Он нам про вас и рассказал… Неужели ты об этом не знаешь?
– Нет. Да я его и не расспрашивал. А сам он, как партизан, лишней информации никогда не выдаст… Неужели вы всё-таки приходили? Не врёшь?
– Ну, вот ещё! Я тебе врал когда-нибудь?
– А шеф?
– Чего не было, того не было, шеф не приезжал. – Эдик притворно вздыхает, будто ему страшно неловко за Меира, и тут же бодрым тоном продолжает: – Меня ребята задолбили вопросами, был ли я у вас…
– Могли бы и сами позвонить. Да и ты мог бы.
– А что, у вас телефоны всё время под рукой?
– Нет, – честно признаюсь, – мой чаще отдыхает в тумбочке. Да и соседи по палате просят, чтобы не беспокоил их звонками.
– То-то и оно! – успокаивается Эдик и продолжает допрос: – Ну, и как ты себя чувствуешь?
– Нормально. Нога в гипсе – куда она оттуда денется? Голова поначалу побаливала, но теперь уже ничего не чувствую…
– Ты и раньше головой многого не чувствовал, – со знанием дела продолжает язвить Эдик, но в ученики по этой части я бы его не взял, – судя по некоторым твоим высказываниям.
– Значит, я почти в полной боевой готовности! – Мне не хочется долго беседовать о своих болячках, и я переключаюсь: – У Швили тоже всё в порядке. Он меньше всех пострадал, только вот по голове получил сильнее меня.
– Ну, это у него не самый жизненно важный орган! – продолжает острить Эдик. – Он и без него раньше прекрасно обходился. А что с Димой?
– Диму поломало покрепче. Думаю, мы с Ициком скоро на волю выйдем, а Дима ещё попарится на здешних нарах.
– Надо к нему действительно подойти, томик Библии подогнать, а то в больнице такую книгу вряд ли найдёшь.
– И то верно… Что в конторе нового?
– Всё по-прежнему. Сперва тяжеловато было без вас, но шеф быстро организовал трёх временных бойцов на ваши места.
– А подвозка?
– Приходится мне стараться в два раза больше. За себя и за того парня, то есть тебя. За одну зарплату. Шеф и слушать не хочет ни о каких доплатах. А тот парень, то есть ты, закопался в казённые простыни – спит, сколько влезет, лопает больничные котлетки строго по расписанию и в ус не дует, что его друзья истекают солёным потом на работе…
– Хочешь, местами поменяемся?
– Ну уж нет, оставь эти маленькие удовольствия себе, а мы потерпим неудобства… Кстати, шеф интересовался, когда вас ждать?
– Как только, так сразу… Только как мне быть с машиной, безлошадному?
Эдик раскатисто хохочет, понимая мои опасения, и великодушно раскрывает карты генерального штаба:
– Шеф высочайшим указом повелел, что, когда ты вернёшься, на время возьмёт для тебя машину из проката, и ты будешь, как прежде, продолжать развозить народ по точкам. А потом ты всё равно себе что-нибудь купишь. Шеф тебе даже ссуду даст под очень выгодный процент… Ещё вопросы?
Сообщение Эдика удовлетворяет меня на двести процентов, потому что моя бедная и несчастная машинка, кормившая своего хозяина последние годы, наверняка пылится сейчас где-нибудь на свалке, и некому её, бесхозную, пожалеть, напоить бензином, протереть стёкла тряпкой, погладить измятый капот… Ну, да ничего, свой срок она отходила уже давно, пора и на вечный покой. У всех нас конец почти одинаковый – что у машин, что у людей. Никто не бессмертен, только места, куда нас относят, называются по-разному, однако суть от этого не меняется.
Напоследок хочется сказать Эдику что-то приятное:
– Как твой компьютер? Извини, брат, не смог тебе помочь, сам знаешь, по какой причине. Хотя… если хочешь, подгребай с ним сюда, здесь спокойно, никто над душой не стоит, времени сколько угодно. Сядем где-нибудь в уголке, покумекаем над ним…
– Какой компьютер, о чём ты?! – ворчит Эдик беззлобно. – Я уже и забыл, как он выглядит! Отпахал свои часы, да ещё людей развёз в две смены, а потом только и остаётся в койку трупом рухнуть. И так каждый день. Даже в выходной отоспаться не удаётся…
– Крепись, брат, скоро приду тебе на помощь, – искренне заверяю его.
– Только не обмани, ладно? – смеётся Эдик. – Ну, хорошо, я побежал по делам… Передавай привет Ицику и Димычу.
После разговора с Эдиком настроение повышается. Не хочется хандрить и думать о нехорошем. В принципе, ничего нового от нашего бригадира я не узнал, но сам факт того, что я не позабыт и не позаброшен, подбодрил мою исстрадавшуюся в одиночестве душу. И хоть поначалу я зарекался даже не вспоминать о работе, лёжа на больничной койке, но разве такое возможно?
Ковыляю в коридор, где наверняка курит с мужиками Швили, однако там его нет. Покрутившись немного и высмолив сигарету про запас, возвращаюсь к своей до чёртиков опостылевшей кровати и заваливаюсь на боковую.
Первый раз за всё время, что нахожусь в больнице, засыпаю мгновенно и сплю до самого утра крепко, без сновидений. Немного же, оказывается, нужно человеку, чтобы почувствовать себя чуть уверенней в этой дурацкой неустроенной жизни – всего лишь чьё-то доброе слово…
10. ДУРАК НА ХОЛМЕ
Я не раз убеждался на собственном опыте, что чаще всего человеку вспоминается из прошлого не самое хорошее и не самое плохое, а то, что произвело на него самое яркое впечатление. Иногда это эпохальное событие, а иногда совсем незначительный эпизод, не замеченный никем, кроме него самого, но всколыхнувший что-то сокровенное и кольнувший в сердце, запомнившийся в крохотных деталях и занявший самый интимный уголок души. Трудно это объяснить не то что постороннему, а иногда даже самому себе…
Я живу в этой стране уже четверть века, но большую часть жизни прожил всё-таки в России. Однако мне совершенно не хочется превращаться в Ивана, не помнящего родства. Много раз я встречал людей, клянущих свою прежнюю родину за неустроенность и невнимание к их крохотной персоне, вспоминающих какие-то мелкие бытовые неурядицы и обиды, поливающих всё, что было там, удивительно одинаковыми газетными штампами. Положение вечно обиженных устраивает этих людей настолько, что ничего, по большому счёту, менять им уже не хочется. В итоге новой родины они не обретают нигде, куда бы ни подались. Этой публике везде плохо… Я не из их числа.
А кстати, что же всё-таки такое Родина? Долгие дни, которые я просиживал в своей охране на окраине какого-нибудь поселения и глядел на расстилающиеся вокруг дикие холмы и долины, я задавал себе вопрос: это ли моя Родина? Что меня с ней связывает? Есть ли между нами кровная связь или это что-то надуманное? Почему я до сих пор не перестаю ежедневно вспоминать Россию с болью и… любовью? И почему там, в России, я никогда не задавал себе подобного вопроса, а здесь – всё чаще и чаще?
И вдруг мне пришла в голову одна странная мысль. Когда ты живёшь на какой-то земле, и она была, есть и будет с тобой, но ты не волнуешься, что можешь лишиться её однажды, это – как бы сказать точнее? – не совсем твоя Родина. У тебя не возникло чувство хозяина этой земли. И лишь тогда, когда тебя беспокоит её судьба, ты опасаешься, что ей, как твоему ребёнку, может стать плохо и больно, а ты не сумеешь вовремя помочь и защитить её, тогда-то и начинаешь понимать, что никакого другого уголка земли тебе больше не надо – именно это твоя настоящая и единственная Родина, без которой ты уже не проживёшь и никуда от неё не денешься.
Всю жизнь мы что-то ищем и что-то выбираем. Не ошибочен ли наш сегодняшний выбор? Когда я уезжал в Израиль, уже не было препятствий для отъезда. Отправляйся куда хочешь, лишь бы тебя приняли. А если бы… из Израиля погнали куда-то дальше? Что бы было тогда? Превратился бы в пресловутого Ивана, не помнящего родства, которому везде плохо и везде хорошо, путешествующего в поисках пристанища из страны в страну? До сих пор не могу ответить…
Этот высокий холм вдали от поселений и деревень я заприметил давно. Сколько раз проезжал по дороге и с интересом разглядывал его. Как похож он на гриб-боровик с плоской каменистой вершиной и едва намечающейся ножкой, напрочь лишённый зелени и кустарников, сплошь обступивших его у беловатого основания. Мне казалось, что если я заберусь на него, то сумею увидеть нечто такое, что приоткроет для меня покров мучающей меня тайны. Чем-то непонятным этот холм манил меня. На его вершине я смог бы, наверное, понять, почему эта страна, в которой мы не родились и не воспитывались, но которая, даже не став мачехой, милостиво, хоть и не совсем гостеприимно приняла нас, всё же оказалась ближе всех остальных стран, с которыми мы так и не можем до конца порвать связи. Лишь тут я получу ответы на мучающие меня вопросы…
Впервые после моего выхода из больницы мы едем с Эдиком на работу. Машины у меня ещё нет, но в этом пока нет прямой необходимости. Недельки полторы, сказал шеф, ты, мотек, поработай, как все, а потом будет тебе машина из проката – не супер, конечно, но и не такая развалюха, как та, что была у тебя прежде.
Я уже передвигаюсь довольно бодро. Первое время, пока нога была в гипсе, я выписывал кренделя на костылях, но гипс, наконец, сняли, и я сразу перешёл на палочку. Теперь она у меня с собой, но я на неё почти не опираюсь. Она нужна скорее для уверенности.
Кроме меня и Эдика, в машине ещё три человека: Ицик Швили, Хорхе-Говядина и рыжий абориген Ашер. Остальных везёт бедняга Мишка, обложенный банковскими долгами, как серый волк флажками.
В дороге мы почти не разговариваем. Основная тема, интересующая народ, – наша авария – уже неоднократно изложена в разных вариациях Ициком, который вышел на работу раньше меня на неделю. Религиозный фанатик Дима всё ещё лечится, хоть уже и дома. Так что вопросами меня почти не терзают, максимум, я принимаю чьи-то притворные соболезнования по поводу утраченного автомобиля.
Привычно что-то бубнит Хорхе-Говядина, перемалывая косточки отсутствующему Рахамиму, но его никто не слушает. Сидящий по правую руку от него Ицик Швили тоскливо смотрит в окно, прикидывая, наверное, что, получив сегодня ото всех стандартный отказ в займе ста шекелей, вынужден будет идти к цветочнице вечером без букета. Абориген Ашер слева от Хорхе слегка покачивается, закатив глаза в дрёме, но сидит строго вертикально, как солдат на посту, каковым и должен быть настоящий охранник. Неизвестно, снится ли ему что-то во время кратковременной спячки, но вывести его из этого благословенного состояния может только внезапный визит начальства. Даже по приезду на место он вскинет на плечо свой тощий рюкзак, переберётся сомнамбулой в будку и приступит к работе, но всё это будет происходить на автопилоте.
Я сижу рядом с Эдиком спереди, и мне немного не по себе. Необычная пустота каким-то тяжёлым чугунным шаром перекатывается в груди, и я почти чувствую, как она подбирается к горлу. Мне сразу становится трудно дышать, как некогда в больнице, а на лбу и шее выступают крупные капли пота. Когда шар перекатывается вниз, могу вздохнуть и даже промокнуть бумажной салфеткой лоб. Но через минуту всё повторяется.
– Тебе плохо? – косится Эдик. – От чистого горного воздуха отвык?
– Нет… – Не знаю, что ответить, и только виновато улыбаюсь.
Наконец, в утреннем тумане из-за гряды холмов показывается мой холм, похожий на боровик.
– Видишь холм? – и сам не знаю, почему принимаюсь объяснять Эдику, указывая вперёд пальцем. – Что-то в нём необычное. Он и на другие не очень-то похож.
– Такой же, как все, – пожимает плечами Эдик, – только немного повыше. Ветром его обтесало.
– Не знаю, не знаю… И всё равно он какой-то особенный.
Эдик минуту молчит, потом лукаво улыбается:
– Нет, братан, всё-таки ты ещё не до конца вылечился. Удары головой бесследно не проходят!
К его удивлению, вызов обменяться остротами я не принимаю.
– Слушай, – неожиданно рождается у меня бредовое желание, – давай остановимся на пять минут, и я сбегаю, попробую подняться на его вершину?
– С больной-то ногой?
– Ничего, я попробую.
– А что наша публика на это скажет? Они твоих порывов не поймут.
– Растолкуй им, что мне поплохело, и я хочу подышать свежим воздухом.
– А ты, как горный баран, у них на глазах поскачешь на вершину? Спасай тебя потом! Оно тебе надо?!
Замолкаю и отворачиваюсь. Некоторое время мы едем в полной тишине, и даже Хорхе-Говядина замолкает, но вдруг Эдик резко тормозит.
– Была-не была! Плевал я на них! – Он толкает меня кулаком в бок и тихо прибавляет: – Вместе на холм полезем. Мне тоже интересно, что ты там высмотрел… Помнишь битловскую песню «Дурак на холме»? Так это про нас – про тебя и про меня…
Не отвечая на удивлённый ропот попутчиков, мы вылезаем из машины и, перескакивая с камня на камень, мчимся к холму. Я сразу отстаю от Эдика, потому что палочка, прихваченная с собой, уже не помогает, а только мешает передвигаться.
У самого подножия холма крупных камней меньше, и идти становится легче. Эдик не оглядывается, но я слышу, как он тяжело дышит. Видно, тоже устал не меньше меня.
– Давай минутку передохнём, – кричу ему в спину.
– Некогда, времени мало, – сдавленно хрипит он и уже начинает карабкаться вверх, придерживаясь руками за валуны.
На мгновенье мне становится страшно, будто этим неожиданным и спонтанным подъёмом на холм я отрезаю что-то прошлое, без чего раньше не мог обходиться, а сумею ли теперь – ещё вопрос. Этот холм стал для меня каким-то странным рубежом, о котором я и не подозревал прежде.
– Вперёд! – командует Эдик и оборачивается, чтобы протянуть мне руку, но вдруг наклоняется и что-то хватает с ветки пыльного низко стелящегося кустарника. – Смотри, кого я нашёл!
На его ладони маленький хамелеончик, цепко обхвативший лапками и длинным тонким хвостом запястье Эдика.
– Зачем он тебе? Отпусти животное! – задыхаясь, говорю ему.
– Нет, – голос Эдика неожиданно срывается, – он такой… красивый. Я его с собой возьму, он у меня будет дома жить.
– Как хочешь… – Гляжу вверх: до плоской лысой вершины холма остаётся совсем немного.
Чуть передохнув, поднимаюсь дальше. Слышу, как сзади пыхтит Эдик, прижимая к груди свою драгоценную ношу. Он что-то шепчет хамелеону, даже не глядя по сторонам, и это меня удивляет ещё больше: чтобы нашего братка, всегда изображающего из себя крутого перца, не подвластного никаким эмоциям, вдруг пробило на нежные чувства к ничтожной зверюшке, каковых здесь полным-полно, – нет, что-то в этом мире определённо начало меняться…
…Может быть, сейчас в самый раз поставить точку моему рассказу? А что – хорошая концовка для любого повествования, не претендующего на эпохальность. На вершине холма, утопающего в лучах утреннего солнца, стоит маленький человечек, прижимающий к груди брата своего меньшего, и по щекам этого человечка катятся счастливые слёзы, символизирующие бесконечное единение человека и природы, человека и его новообретённой родины, человека и космоса… Счастливый конец – хэппи-энд – поцелуй в диафрагму и титры с фамилиями исполнителями ролей…
Фигушки! Не получится у меня такой благостной концовки. И причин тому много. Во-первых, не люблю пафоса – слишком много в нём соплей и сахара, а подобные смеси вредят моему пищеварению. Во-вторых, какое уж тут утреннее солнце в пять утра, да ещё в плотном тумане? Если оно и в самом деле вышло бы в этот неурочный час, я бы уже сгорел, как головешка, а приятная прохлада, до окончания которой нужно успеть убраться отсюда, так кратковременна и недолговечна. В-третьих, никакого единения ни с чем у нас с Эдиком не происходит. Он не сводит любовного взгляда со своего неожиданно появившегося питомца, наверняка раздумывая, чем хамелеона кормить, а я… я просто стою и смотрю по сторонам. Никаких мыслей в голове, только ветерок, навстречу которому то и дело поворачиваю лицо. У Эдика единение с хамелеоном, у меня – с ветром…
И всё равно в этом, наверное, есть немного пафоса, пускай и не того, который сопровождается раскатами литавров и трубным рёвом духового оркестра. Аккомпанемент нашему маленькому самодельному пафосу – любимая битловская песенка «Дурак на холме». И счастливых слёз в наших глазах нет, разве что слезинки, которые выдувает прохладный ветер…
Вот ты какая, оказывается, страна Израиль! Только отсюда, с этого холма, я сумел разглядеть тебя. Хоть и не вижу за нагромождением холмов скрывающиеся в тумане Иудейские горы со святым городом Иерусалимом, а с противоположной стороны тонущий в горячем мареве испарений морской средиземноморский берег, но я сейчас в самом сердце этой страны, а сердце не принято выставлять напоказ. Оно должно быть прикрыто бронёй грудной клетки – этих сухих каменистых пустынь…
Внизу на дороге белая машинка, и около неё переминаются с ноги на ногу мои друзья, такие разные и непохожие, порой вредные и занудливые, не всегда меня понимающие и не прощающие ошибок. Мне с ними плохо и хорошо, я с ними ругаюсь и мирюсь, но никуда мне от них не деться, и других товарищей уже не найти…
Эдик осторожно дёргает меня за рукав свободной рукой:
– Пойдём, нас ждут. Хватит сопли распускать…
Я и сам не заметил, что лицо у меня мокрое. Что-то я раскис, как кисейная барышня. Не хотел – и не смог сдержаться.
– Это я вспотел… – Зачем-то вру и послушно спускаюсь следом за Эдиком.
А за спиной уже и в самом деле встаёт солнце, заливая плоскую вершину «боровика» своим горячим вязким светом…
* * *
Предупреждали старые люди: не показывай на себе… Иными словами, любое сказанное слово и даже мысль так или иначе материализуются. Тем более – то, что тобой написано…
В конце апреля 2010 года рукопись этой повести была практически закончена, оставалось прописать лишь некоторые наиболее натуралистические детали. И тут вмешалось провидение и словно провело меня по страницам моего же сочинения: приблизительно при тех же обстоятельствах я попал в автокатастрофу, а потом в больницу. Всё, что пытался придумать, самым роковым образом воплотилось в реальность. Вот тебе и натуралистические детали…
Лишний раз убеждаюсь, что «не спит страж Израиля». Пристальное око бессонно следит за нами – око ангела-хранителя или, если хотите, судьи каждого нашего поступка, слова, мысли…
Следит за нами – охранниками. Охранниками, по своей сути…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.