Текст книги "Отрицательные линии: Стихотворения и поэмы"
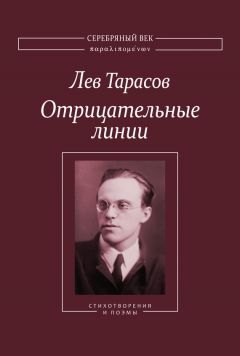
Автор книги: Лев Тарасов
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 22 страниц)
Резво скачет царь Давид,
Праведный перед ковчегом.
Гомонит, бубнит, гугнит.
Семенит и мчится бегом.
Каменные плиты спины
Гнут под мерною стопой,
Живописные долины
Прогибаются дугой.
Всколебалися озёра,
Небо ходит ходуном,
Солнце прыгает, узоры
Чертит на пути дневном,
А зелёные леса
Свои чешут волоса.
По кустам щебечут птицы,
Им вольготно, как в раю,
Волоокие девицы
Обнажают стать свою,
Стройные, как башни
Топчутся на пашне.
Всё подвластно царской воле,
В пурпур облачён Давид,
А на жертвенном престоле
Агнец праведный лежит.
Там крылами огневыми
Над пророком веет дух,
Царь Давид в огне и дыме
Напрягает взгляд и слух.
На заклание готова
Агнца трепетная плоть,
Воплотилось в жертве слово.
И сказал с небес Господь:
В знак, пока не оскудела
По родам земным любовь,
Ешьте моё тело,
Пейте мою кровь!
1972
Любовь
Как женственна, восторженна любовь,
То чуть наивна, то полна решенья,
В ней всё порыв, восторг, воображенье –
И каждое мгновенье – встреча вновь.
Возвышенна любовь: прозрачны и вольны
Её страстей глубинные потоки,
Она ломает льды и приближает сроки
Для вечно торжествующей весны.
Любовь восторженна и женственна, года
Хранит ненарушимо постоянство,
Ей не страшны ни время, ни пространство,
Над ними властвует она всегда.
1972 май
СюртукНоктюрн
Сюртук, уснув, поник полами
Ночная тишь…
Его пустыми рукавами
Проходит мышь.
Сюртук обрёл покой желанный…
Ночная тишь…
Из рукава назад в карманы
Проходит мышь.
Сюртук всю ночь охвачен снами
Немая тишь…
Как дух, пустыми рукавами
Проходит мышь.
1972?
«Когда бы мог от тесноты телесной…»
Когда бы мог от тесноты телесной
Уйти в нематерьальные просторы –
И там искали бы повсюду взоры
Твой облик нежный в широте небесной.
Когда бы мог, преодолев преграды,
Я мир действительный приблизить тесно,
В нём воплотилось бы, что было неизбежно,
Сошлись и встретились бы наши взгляды.
Так полон мир любви противоречий,
Несоответствий, непрерывных сдвигов,
Хоть весь от бесконечности до мигов
Он обжитой, земной и человечный.
1972 май
«Не рыдай мене, Мати, в слезах…»
Не рыдай мене, Мати, в слезах
Не заламывай рук над трупом.
Плоть, подобна ломким скорлупам,
Распадается тленом прах,
Отраженье померкло в глазах.
Кто прошёл свой путь по уступам,
Осуждён по земным поступкам,
О нём память живёт в делах.
Ничего изменить мы не в праве,
Пока небо, море и твердь
Не вернут тела от забвенья.
Я восстану из мертвых в славе,
Вечен дух, осудивший смерть,
Наступает срок воскрешенья.
1972 декабрь
«За день, который промелькнул, как счастье…»
За день, который промелькнул, как счастье,
За то, что вместе обрели мы в нём,
Не разделённое во времени согласье –
Благодарю тебя, я полон светлым днём.
Он будет помниться, как откровенье,
Залог большой любви, и как предел…
О, как бы я на вечное служенье
Одной тебе свой век отдать хотел…
Мне дорого правдивое упрямство,
Отдать тебе мою любовь я рад,
Один хочу твоё составить счастье.
1972–1973 (?)
«Моя любовь к тебе полна…»
Моя любовь к тебе полна
Живого чувства, восхищенья,
И правда в ней воплощена
Сердечного расположенья,
В ней всё прозрачно, как намёк,
Отрадны отзвуки былого,
Любовь и в старости восторг,
И сердце праздновать готово.
Моя любовь к тебе нежна,
Прошла сквозь годы испытаний.
Неомраченная нужна.
Мне всё дороже и желанней…
1972
МнемосинаВ.М.
Когда мне досталась в удел
Поэзия – боже правый, –
Я вовсе того не хотел.
Но что мог поделать? Демон поэзии
Вселяется свыше… Пылающий уголь,
Вложенный в грудь, испепеляет…
Его нельзя угасить.
Помню, рассудок здравый
Остерегал от грядущей
Неумолимой беды.
Но я не внял голосу смысла,
Вступил на путь лишений.
В юности так мы упрямы,
Надеемся на свои силы.
Священный огонь пожирает
Нутро Поэта. Над ним
Дух небесный витает.
Точно чёрная головня
Чадит Поэт, ничтожный
Среди детей мира. Время
Топчет его, прочит на выброс,
А люди – клянут за смрад и угар.
Но приходит Мнемосина
И девять её дочерей,
И они раздувают пламя.
Вспыхнет вещий Поэт. Ослепит
Жаром. Разгорится у всех на виду.
И побегут от него люди,
Испытывая малодушный страх.
Они боятся ответственности.
Поэты опасны как пламя,
Готовое переброситься
И поглотить безумием.
1971 ноябрь
Запуталась, как птенец в силке, Евтерпа,
Беззащитный, малый ребёнок.
Смерть подолгу сидела у неё в головах,
Отгоняя назойливые страхи.
Уродливые Грайи, сёстры Горгон,
Играли с девочкой, передавали по кругу
Свой клык единственный и въедливое око.
– Погляди, – говорили они, – как мы точим зуб,
Как наводим сглаз, как плетём сплетни!..
Евтерпа смеялась, и била в ладони.
Жестокие, склочные волны, в момент затишья,
Бормотали спросонок: – Ты теперь сирота, Евтерпа,
Сирота на голой, опустошённой земле!
Твоя мать – Мнемосина – убита осколком бомбы.
Лишённые памяти, мы не ведаем что творим.
Но Евтерпа вступает в тот возраст,
Когда все девушки становятся прекрасны
И, стройная, проходит по минному полю,
Продолжая окопные, детские игры.
Она обряжает в последний путь трупы,
Выдирает колючие иглы из кровоточащих и смрадных ран,
Играет на флейте, поёт песни.
Живые солдаты, как зелёные кузнечики,
В сырых шинелях, лишённые памяти,
Считают увечья, походы, награды
И ставят жизнь на карту, которая бита.
Как же терпит земля, что разворочена,
Разрыта, скручена, спутана колючей проволокою –
Это месиво окровавленных тел?
И не прикроет безобразия свежей травкой?
Евтерпа прорастает цветущим деревцем,
Заламывает голые руки и тянется к солнцу.
А по беглым и лёгким облачкам легко и пристойно
Ступает людская память, бессмертная Мнемосина.
1971–1972 декабрь-январ.
Евтерпа:
Скажи, какое хобби у хиппи?
Поэт:
Не знаю. Но полагаю, – юность!
Радость бунта! А ещё:
Цветок в петлице и жизнь на юру!
Гримасы столицы вселили уверенность,
Что равно устарели и Маркс и Маркузе.
Так чем не хобби – томик Катулла!
Евтерпа:
А, правда, что хиппи, как Будды,
Сидят на скрещенных ногах?
Поэт:
Не знаю. Любые причуды
Возможны. Стремленье к нирване,
Даже, если вовсе исключить наркотики,
Гибельный признак распада.
Но хиппи не Будды. Нет! Нет!
Евтерпа:
Но, может, они младенцы христианского мира,
Рабы и блудницы, Христы и Марии
Двадцатого века?
Поэт:
Не знаю. Скорее – ореховая скорлупа,
Сердитое молодое поколение,
Юноши и девицы, непомнящие родства,
Живущие на чужие средства. Агнцы
Уготованные для грядущей бойни.
Евтерпа:
Да! Да! Хипёночек, малый ребёночек,
Слезу золотую обронит…
Ни папы, ни мамы – одни
Водородные бомбы.
1971 ноябрь
Где эта музыка сфер,
О которой твердил Пифагор?
Где учебники, питающие воображение
Призраками рода, призраками пещеры?
Где мудрецы под кущами деревьев,
Привыкшие вещать истину? –
Они толкутся по стогнам рынка,
Выходят на театральные подмостки.
Этакие замысловатые лицедеи!
Вхожу ли в старинные храмы
Где чадна копоть лампад?
Веду ли счёт утраченным годам –
Не нахожу нигде я соответствий.
Разум бедный, ты расколот
И на гибель обречён.
На поре несоответствий
На тебя обрушен молот.
Торжество молотобойца –
То восторг дионисийский,
Хмель и виноградная лоза.
Когда мудрецы и поэты
Утратили чувство веры,
Они стояли вокруг сомненья,
Полагая, что путём отбора
Выведут отменные плоды.
Так поступали они во имя прогресса,
Устанавливая общие законы
По которым будет эволюционировать человечество,
Пока не достигнет совершенства ОМЕГИ.
Она говорит: – Погляди, как юн
И прекрасен мученик Себастьян.
Его тело напряжено как струна,
Ждёт прикосновения смычка.
До того он чист и благоухан,
Плоть и кровь – точно причастие.
У меня же вошло в привычку,
Полагаю от порочной святости,
Заглядывать в старые альбомы,
И безо всякой предвзятости,
Обожать обнажённое тело.
Трезвый гуманизм Ренессанса!
В непорочное тело Себастьяна
Впилися острые стрелы.
Раны католика душисты,
На позорном столбе умирает юноша.
Его расстреляли фашисты.
В том утвердила меня обедня Мессиана,
И я верю вещему бреду.
А ещё мне нравятся ташисты,
Но это – страсти по Фрейду.
Что за интеллектуальная беседа,
Сотканная из реминисценций,
Непредвиденное отступление от православия,
От исконно русского славянофильства?
Многое даётся по вере,
А к чему-то мы приходим по смыслу.
Но такая широта кругозора
Весьма к лицу для девушки!
Может быть, это новая мода,
Впрочем, я не уверен.
– Я задираю тебя!.. А потом затираю
Превосходством своим… Мнимым блеском
Бессодержательной болтовнёй. П р а в д а –
Вот мой конёк! На нём и выеду
С оглушительным треском – на арену
Международных отношений, а лучше –
Сверну на узкоколейку личных,
Да там и застряну!.. Всё равно мне не вынести,
Не вымести завалы грязи
Из твоей авгиевой конюшни!..
Просыпала Ссора чечевицу мусора,
Кличет Золушку подбирать крупу,
А Золушка примеряет туфельку,
Ей некогда, о ч е н ь некогда, п р о с т о некогда!..
Попусту длится вечер,
Вытянутый до бесконечности,
Одинаковый, как предыдущие
Патефонно-подмосковные вечера…
Тут ужас меня обхватил,
Стал вить как верёвку,
Чтобы скинуть с десятого этажа
На поиски за утраченным цветком.
Это шутят молодые романтики.
Узнаю: тебя Арним, тебя Брентано, тебя Новалис!
Уронили цветок с балкона
И до того взволновались,
Что приняли меня за верёвку,
Стоят и вслух сокрушаются:
– А вдруг она перетрётся?
– А, может, цветок найдётся!
– Дотянем, потянем и вытянем!..
– Вот Голубой цветок! На привязи!
Держите его! Из бездны вынесет
Он меня…
А Восторг раскрутит!
Снова я в полном порядке.
Никому не видны изъяны.
А раны – Себастьяна
Несусветный вздор!.. Нелепица!..
1971 ноябрь
Не помню при каких обстоятельствах
Мы утратили Бога, только наши дороги
Разошлись. Он шёл уверенно и неспешно,
А мы задержались, и очутились в тупике.
И хотя нас было много, у нас не было общего,
Что могло бы связывать узами дружбы,
А постыдное одиночество на людях,
Быть может самое горшее испытание
Голые слова, неприкрытые смыслом,
Отпугивали откровенной подноготной,
Они вызывали на поверхность знаки,
Спрятанные в глубины подсознанья.
Пока находился среди нас Господь Бог
И вёл к определённой цели, к горнему раю,
Нам было ещё по себе, поскольку мы знали,
Что есть управа на погребенные страсти,
Что сдержанны наши порывы и грешной плотью
Не погнушается дух, ослепительным светом
Просветивший души, покорные воле Бога.
А Бога мы так и не чувствовали и не знали,
И не приняли к сердцу за недосугом,
Хотя он был вместе с нами, делил трапезу,
Пил пиво и много говорил притчами.
Теперь нам кажется: он смеялся приветливо,
И смех его, отражённый от стен, звучит в ушах.
Мы пытаемся припомнить, как он выглядел,
О чём говорил, какие не общие приметы
Отличали его, хотя бы от соседа справа.
Он умел связывать любовью. Теперь мы одни
И любовь не связывает нас, тесные узы
Упали наземь, и просочились в песок.
Нам пусто без Бога, на которого мы уповали
И которого утратили с такой поспешностью,
Будто разлука с ним ничего не значит.
Припоминаю, когда Бог исчез за поворотом,
А мы отстали, у меня оборвалось на сердце,
Мне хотелось кинуться вослед, но я подумал –
Что скажут другие? А они ничего не сказали,
Но тоже почувствовали. И безнадёжно мёртвые
Зашли в тупик. Нам пора возвращаться!
Но подскажет ли память утраченные тропы
По которым мы смогли бы пройти дважды?
Впереди идёт охотник, а за ним звери,
А потом пойдут звери, а за ними охотник.
Каждый пойдёт в одиночку торной тропою,
Поскольку утратил собственное достоинство
Примеряя личины, и лишён подобия.
1972 январь
Тебя, мудрая мать Муз, Мнемосина, молю о милости!
Исцели давние ожоги, зарубцуй раны!
Пылающий уголь на сердце
Подмени на ровный свет лампады.
Я изнемог от скорби, Мнемосина,
Кроткий светильник нужен усталым людям.
Мечта, которую сотворил я и вочеловечил,
Настолько, что мог ощутить: кровь, плоть и дыхание –
Внезапно умерла… У меня не достало
Воображения, жизненных сил, самоотречения,
Чтобы сохранить и уберечь Мечту.
И с того дня,
Когда остался я не причём,
В одиночестве страшном своём,
Вьёт гнездо в груди Пустота.
Она стаскивает в дупло обрывки воспоминаний,
От которых становится неприютно и тесно,
И выводит птенцов отчаяния.
Чёрные, с криком, они разлетаются во все стороны,
А хромой ворон
Летит к перевозчику Харону,
Стынет над Стиксом,
И падает камнем в воду.
Прошлое
Перед мысленными очами,
Развёртывает поминальный свиток,
И, окрылённое вдохновением,
Переступает порог в нынешний день.
Будто застывшие мгновенья,
Возникают туманные картины,
А затем оживают, приходят в движение
И тогда пространственное измерение
Связывает, как лохматые концы с началом,
Незабвенное Прошлое.
На любом отрезке времени
Может задержаться Поэт, и в праве
Обрести убежище для уединения.
Клио внушает ему: – Неумолимые к людям,
Вечно готовые сотворить для них благо,
Всё ещё бродят по кругам ада –
Данте, Элиот, Климов.
Прикрой глаза, сосредоточься и войди
В систему коридора, в долгий конус,
Что завершён слепящей точкой света.
Не есть ли это переход в соседний
Мир подсознанья? – Если приглядеться –
На том конце встревоженные тени
Настерегают. Но грозит обрыв,
Разъединение с потусторонним миром.
Мечта осталась оголённой,
И устыдилась на виду,
И кинулась во мрак зелёный
К подругам призрачным дриадам.
Пока не приняли её деревья,
Пока не стала она древесной,
Не оделась в наряд зелёный,
Поспеши за бессмертной мечтой!
Ибо настало, наконец, твоё Время!
1971–1972 декабрь-январь
Пришла пора и чаще отмечаем
Столетние мы юбилеи, а полвека
Так даже запросто. То наша мера
О людях, что по долгой жизни
Остались вехами. О двадцати пяти,
О десяти годах мы говорим,
Как о поспешно промелькнувшей дате.
Всё перепуталось, сместилось с мест,
Окрашенное в серый цвет тревоги,
И снова встало по местам, в порядке
Для тех, кто прошлого ещё не знал.
С годами будущее обрастает прошлым.
И ракушки, налипшие ко дну
Ладьи, становятся тяжёлым грузом.
Труднее плыть… А сами взмахи вёсел
Всё неуверенней, когда не знаешь
Вперёд или назад плывёшь в тумане,
Что занавесил плотно берега
Холодной, непрозрачной тишиною.
И вот ты сознаёшь, что стал ничем,
Пронизан сыростью тумана. Брызги
Воды, колеблемые рядом тени,
Воспоминания, что чужды посторонним,
Уже не докучают, так и даты
Неразличимы: триста лет, пятьсот,
Тысячелетие – ничто для Мнемосины.
Остался с ней вдвоём. Отрадный миг!
Забыли прошлое, забыли будущее, рядом
Сложили даты, как пожитки, в узел…
В потоке времени, у призрачной черты,
Бездумно, безмятежно веселимся.
1971 декабрь
1973
Олень Золотые рога«…страждет елень скорый…»
Г. Сковорода
Художник идёт и рисует
Великое множество женщин.
Что если возникнет образ
Искомый из ливня линий
Округлых и плавных обильем
Пристрастий?.. по представленью.
Идёт и рисует, и множит
В сознании: стереотипы.
Таблицы пластической анатомии,
Гипсовые слепки: глаз, носов, ушей,
Долгие разговоры о темпераментах,
О золотом сечении – приходят ему на ум.
Измерения держатся на четырёх столпах
Истины – четыре, возведённое в степень n,
Создаёт многообразие архетипов.
Художник сангвиник: он вытесняет
Женственные личины собственного бытия
И заполняет ими пространство.
Художник убегает соблазнов
Расставленные хитро сети.
Он пытается воспринимать вещи
На веру, как они есть,
Чтобы удержать их на плоскости
Бумажного листа, на холсте,
На стене, предназначенной для росписи.
Простота сокрушает его. Эмблемы рыб
Тревожат. Одинокий рыбак,
Он больше не надеется на улов,
Море выбрасывает пустые сети на берег.
Невоплощённые, беглые зарисовки
Начало его противоборства с судьбой.
Он беззащитен в своём неумении,
Растерян, оглушён гулом времени,
Бьющемся о щит Ахиллеса,
На котором выбиты сцены: войны и мира.
Выходит из чащи Олень Золотые рога,
Символ любви постоянной.
Источник журчащий, жажду в пути утоляет.
Он внемлет глаголам воды –
ПРАВДА ему дорога.
Художник – Олень; ищет и страждет,
Продирается сквозь гущу стволов,
Раздвигает ветвистыми рогами кусты
И вглядывается в открытые просторы,
Ожидая чуда от света.
Складывает видения до поры до времени
в памяти,
И становится ему тесно…
1973 январь 23
«Царевна дум моих, нерасторопный…»В.М.
Царевна дум моих, нерасторопный
Я растворяюсь часто в суете,
Но дорог мне твой корень приворотный
И прочная привязанность к мечте.
Цветок любви не сразу раскрывает
Свои душистые, простые лепестки –
Он часа ждёт и весь благоухает.
Я с нежностью коснусь твоей руки,
Я назову тебя единственной, желанной
И разделю любовь, как светлый дар,
Царевна дум моих, цветок благоуханный,
Мне сладок, как пчеле, душистый твой нектар.
1960–1973?
«Синие молнии раздирают небо…»
Синие молнии раздирают небо,
Слепят и погружают во тьму
Оцепенения. И тогда одиночество
Становится совершенно явным.
Я вижу мир в непривычном свете,
Как бы расплавленным, развороченным,
Поставленным на дыбы, но почему-то
Приноровленным для моего бытия.
Нечто подобное видел я у Козьмы Индикоплова
С его противопоставленными сферами
В герметически закупоренной коробке,
Из которой нет выхода за пределы.
А синие молнии ломают предел
И убирают воздвигнутые стены,
Раздвигают просторы. Старый кукольник
Бережно вынимает меня из коробки,
И вновь по заученной канве
Я разыгрываю положенные сцены.
Во мне бушуют земные страсти,
И я верю, что они внушены мне свыше.
1973
«Под солнцем звенели капели…»
Под солнцем звенели капели,
Но льдинками онемели.
Не так ли недолгую нежность
Сменяет бодрая свежесть,
И снежной, весенней крупкой
Смех твой сыплется хрупкий?
1973 апрель 14
Вавилонская башня
От самого начала мы строим
Вавилонскую башню нашей жизни,
Отдалённые от близких чуждыми языками,
Непониманием и постоянным одиночеством.
А наши ближние воздвигают башни,
Которые воздвигаются рядом.
Все они не достроены, неприютны
И готовы обрушиться от натиска непогоды.
А с самой высокой площадки
Взывает одинокий дух в пространство,
Полагая, что услышат, поймут, признают
И ответят на его тревожные призывы.
Может, и башня ему нужна, чтобы дальше
Разносился крик по холодной округе.
Но вокруг небо, покой да руины,
Да недоступное, ветреное, седое небо.
Громоздятся годы, как этажи,
А затем наступает забвение,
Уже непонятно, что легло в основу
Здания, и был ли достаточно твёрд грунт.
Мгновение и то, что воздвигалось с упорством,
Рухнет, распадаясь в пустынный прах.
Но ещё держит очарование домысла
Упорная вера в завтрашний день
И то, что надо вершиной упираться в небо.
1973 август
«Неряшливая, старая Ворона…»
Неряшливая, старая Ворона
Хрипит и каркает у моего окна,
Со мною хочет познакомиться она
И будит поутру – я жду урона,
Известий, переданных от Харона,
Но отпадает вспугнутая сторона
И протяжённостью тревожной временами
Сны смешивают с явью неуклонно.
Мне помнится, что у неё крыло
Опущено безвольно, тяжело,
И вид нахохлен, а в глазах тревога,
А всё она сидит, вниманья ждёт
Который день её немой полёт
И приземление у моего порога,
И карканье, и взгляд глаза в глаза
Шевелят волосы.
1973(?)
«Неряшливая, старая Ворона…»«Ты приземлён… и спишь тревожно…»
Я был пригвождён ко кресту,
А после меня позабыли…
И, уж, новые слухи растут,
Что воскрес я, в широкие крылья
Завернулся, да всё не усну,
Всё брожу, за слова цепляюсь,
Вызывая унынье и жалость,
Точно скуку на людях толку.
А великое время рядом
Пригвождает ко древу взглядом,
И идёт неустанный процесс
Воскрешенья и смерти, будто
Изменяют дни поминутно.
Но ещё я весь не исчез
И последние трачу усилья
На тяжёлые взмахи крыльев.
1972 декабрь – 1973 октябрь
Ты приземлён… и спишь тревожно,
И видишь спутанные сны,
В которых сердцу невозможно
Преодоленье крутизны.
Куда, к чему-то восхожденье,
И есть ли впереди покой,
То пробужденье и забвенье,
Что дорогой придёт ценой?
Ты приземлён…а сны мятежны,
Всё не сдаётся робкий дух,
Хоть спады в пропасть неизбежны,
И крик твой поражает слух,
Крик сонного, глухой и страшный,
Прорвавшийся из немоты.
Так держатся за день вчерашний,
Достигнув сердцем высоты.
1973 ноябрь 2
«Уверен я в своей любви. Вниманьем…»
Уверен я в своей любви. Вниманьем
И нежностью невзгоды разгоню
И, прилепясь к домашнему огню,
Я поддержу его со всем стараньем.
И станет для меня семья призваньем,
Когда из сердца зло искореню.
Я был неправ и в том себя виню,
Что не жил я согласно обещаньям.
Сердечный друг и добрая жена,
И мать, что малыми детьми окружена,
Ты воплощение добра и счастья!
Любуюся тобой, одну тебя люблю,
Твоё участье и тепло ловлю
И, возвращаясь в дом, несу согласье.
1973 ноябрь 22
Дерево жизни
На дереве жизни глубокий надрез,
Натекает время, как сгусток янтарной смолы,
А малый комарик запечён в сердцевину ядра.
Всё приходит к концу, так и бессмертные боги
Удел свой находят в прочном забвенье,
Они утрачивают собственные имена. Бесполезно
Взывать к ним, пребывающим в покое.
Кто-то придумал небо свернуть, как свиток,
И ждать судного дня, когда письмена деяний
Будут зачитаны вслух. Только трубные звуки
Заглушат слова, лишённые смысла…
Я живу поверх времени – говорил Протей –
И способен всё сущее охватить разом.
Время моё в протяжении, в становлении,
Я свободно перемещаюсь в нём и вижу
Одновременно всё, что было, есть и будет.
Меня ничто не удивляет и не смущает,
Я обитаю во всём, и меня нет нигде.
Лик мой не ясен, я всё примеряю личины,
Но как тайное имя неизвестно моё лицо.
Я предвижу вперёд и могу прорицать, хоть судьбы
Переплелись на могучем дереве жизни,
И мне трудно отличить одно лицо от другого.
Что ж, и бессмертье необратимый процесс.
Память людская стирает примелькавшиеся черты,
И от бесконечных повторений приходит забвенье,
Рок настерегает богов и героев.
Слишком много на земле для одного изменений,
Чтобы смог человек вместить бесконечное
И удержать в хрупкой, непрочной памяти.
Есть имена, которые никто не произносит,
Но это не значит, что их нет – они существуют.
Жизнь бессмертных проявляется в отражениях,
В сменах, которые приобретают закономерность,
Но всё это формы бытия не доступные смертным.
1973
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































