Текст книги "Отрицательные линии: Стихотворения и поэмы"
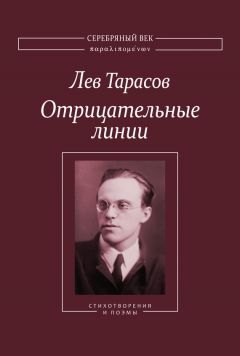
Автор книги: Лев Тарасов
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 22 страниц)
Четвёртая часть
Суров был край земли, когда Орфей
Достиг пустынного, закатного предела
И там увидел тесный мир камней.
Здесь путника усталость одолела.
На каменистом ложе он прилёг,
И руку положил под изголовье.
На небо чёрное и низкое как потолок
Глядел с покорностью и преданной любовью.
– Ночное небо звёзд полно,
Как я люблю рисунок строгий.
На дне души моей убогой
Безмерное –
отражено!..
Не так ли сходятся
в метагалактике миры
Для брачного совокупленья,
Чтоб породить
в неистовствах игры
Другие
звёздные скопленья.
Всё слито в космосе,
сопряжено
В одно стихийное животное начало.
И дно вселенское
на человеческое дно,
Как семя
мудрости
упало.
Природа косная,
что до поры молчала,
Свой голос подняла
до развороченных высот –
И плыли звёзды,
замедляя ход,
И бездна под ногами клокотала
Парами,
магмой,
плавями металла.
Но бодрствует Орфей. Он чуда ждёт
Перед вратами мрачного Аида,
Заворожённый тем, как мощный хор поёт:
– Почему мы только камни
В пустынном круге,
Подобных себе
Гладких,
безучастных, холодных камней?
Вот мы видим скрытыми глазами
Впадины и бездны,
Вот безмолвными устами
Продлеваем беседу…
Не подумай, что мы мертвы,
Недвижны и покорны,
Первыми мы заселили землю
И живём на ней вечно.
И хотя мы покрыты
Плесенью и пылью –
Чище нас
И твёрже нас
Нет на земле созданий…
По вечерам тревожно пели души.
Их каменное тело жаждало плоти.
Они же оставались голыми валунами.
Их мыли ливни,
Жгло солнце,
Обжимал мороз.
Холодными голышами
Называли их люди.
Недоставало им формы,
Способности передвигаться.
Тяжёлые, гладкие камни
Оползали с рыхлой землёю –
И хотя их каменные души были тверды,
Они крепко и прочно любили.
Но если камни косные полны
Неразделённого любовного желанья
И сетовать у скорбных стен должны –
Достанет ли у смертного дерзанья,
Не повернёт ли устрашённый вспять,
Боясь Эринний мстительных и наказанья,
Которое ему навяжет память
Затем, чтобы жестоко покарать.
Ведь только то, что память стойкая хранит
В смещенье плоскостей непостоянных
И составляет горестный Аид.
В нём сонмы образов теснятся странных,
Разрозненных, бесплотных и пустых.
Дай памяти неверное скольженье
Она кристаллы вырастит из них,
Похожие на неотступные виденья.
От угрызенья совести,
от всех скорбей,
Ты в мире призрачном
начнёшь метанье,
Не отличая потревоженных теней
От порожденья своего сознанья, –
Покорно примешь их
за существа
Потустороннего,
чужого среза,
Утратив в слепоте над разумом права
И содрогаясь
точно от пореза.
Аид в тебе одном….
Он дух теснит
Могуществом своим.
Он неотступен,
Хотя за гранью зыбкой отстоит,
И сокрушённому сознанию доступен,
Правдоподобный принимая вид.
Орфей в аду навязчивых воспоминаний
Боится потревожить мирный ход
Картин
привычной сменою желаний.
Давно он памятью отравленной живёт.
С ним Эвридика остаётся рядом,
Разъединить их не посмела смерть.
Он чувствует её,
встречает взглядом,
Но расстояния
не может одолеть.
Не умирала Эвридика,
вместе с ним
Живёт она в любом напоминанье.
Орфей поступкам ищет оправданья
И скорбью
в действиях любых тесним.
Неумолимым горем сокрушён,
Стремится сердцем
к дням счастливым,
Безмолвствует –
и творческим порывам
На волю вырваться
не позволяет он.
– Единоборствую с одним
Обуревающим талантом,
Срываю, мну его как нимб!..
То возвращаюся обратно,
То буйством грубым одержим,
Ломаю узкие преграды,
Одолевая рубежи,
Чтобы достичь
преддверья ада!
Уж Кербера протяжный вой
Доносится
из глубины мне…
Равно –
за гранью гробовой,
Согласны тени
в скорбном гимне.
Как бы в осенний листопад,
С тревожным шелестом, упорно,
Они,
покорные,
летят –
И сетуют там
непритворно.
Стенания теней мой слух
Тревожат горечью урона.
Предчувствую я спёртый дух
Теснин глубоких,
крик Харона.
Раскинулся подземный Стикс,
Широкий, мутный, безоглядный.
Немеет ум, хромает стих,
Теперь ненужный и нескладный.
– Гляди, до безобразья гол,
Ободран, искажён, увечен,
Протягиваю через всех обол.
Ищу я с Эвридикой встречи!
Талантом, кровью, данью слёз
Плачу за место на пароме.
Вхожу живой на перевоз,
И в смертной исхожу истоме.
Харон, меня не устрашит
Немилость грозного Владыки,
Когда любовь ведёт в Аид
За бледной тенью Эвридики!..
Старик, угрюмый и кривой
Веслом неумолимо правит.
Он возмущён,
молчит со мной,
Но к судьям
во время доставит.
Орфей сошёл на мёртвом берегу,
Испытывая радость и смятенье.
К нему доносится тысячекратный гул,
Теней он чувствует прикосновенья.
Не испугался он тревожной мглы
В которой медленно перемещались
Толпы теней…
Иные робко жались
И прятались в потайные углы.
И поражается Орфей
Следя за тем полётом взором.
Томит его мелькание теней
По переходам и притворам.
Подобно стаям хищных птиц,
Встревожено они мелькают
И всё быстрее прибывают
Из потревоженных гробниц.
К живому тянет скорбный прах
Как к совершенному магниту.
Ярится возмущённый Страх,
Бичами разгоняя свиту
Немых, стенающих теней
Лишённых воссоединенья.
Как свет
ворвался в ад Орфей
И вызвал
общее смятенье.
Звери, демоны, уймите
Трубный вой!..
Эвридику мне верните –
Я пришёл под ваши своды
За женой!
Для неё прошу свободы,
Жизни краткой,
Но земной.
Годы в радость обратите,
Милость высшую явите,
Смертную соедините
Вновь
Со мной!..
Был дерзкому
проход открыт
К подножью золотого трона,
Где в славе правит бог Аид
И страшная с ним Персефона.
Там тесно сонмище судей
Расположилось вкруг Владыки.
И песней
вымолил Орфей
Освобожденье
Эвридике…
– Когда ты можешь
напрягая память,
Утраченные
воссоздать черты –
Тебе позволим
вывести мы Эвридику!..
Способна ль к испытанью
твоя память,
Чтобы припомнить
зыбкие черты,
Представить мысленно
живую Эвридику?..
Молчанье грубое храня,
И не оглядываясь
в дороге –
Пойдёшь ты
с тенью Эвридики
Навстречу
солнечного дня…
Аида демоны и боги
Вам обещают радостный исход!
Но если ты завет нарушишь,
Замкнётся за плечами вход,
Творенье духа
ты разрушишь!
Иди вперёд,
пусть за тобою следом
Пойдёт
стенающая тень,
отягощённая обетом.
Не оглянись в пути,
ей слова не скажи,
Пока, туманный образ тени
Не будет
прежней жизнью
жить
Ликующей, земной, весенней!..
– Оглянись, Орфей!
подари взглядом,
Обойми, отогрей поцелуем,
Жизнь продли мне…
Остужены адом
Подземным,
мы так здесь
тоскуем,
Примириться не можем,
живыми забыты…
Опять отвернулся ты.
Миг промедленья –
И черты мои будут туманом размыты.
Только зыбкая память
придаёт очертанья,
Подобие плоти
умершим созданьям.
Зачем ты лишаешь Эвридику вниманья,
И молчишь
безучастный
к загробным страданьям?
Подари тёплым взглядом, обними Эвридику!
Словами участья, любви и тревоги
Отогрей бесприютную, жалкую, дикую.
Мне страшно.
Я сбиться боюсь с дороги.
Опять ты уходишь жестокий, надменный,
Исполненный воли своей непреклонной…
Твой шаг, как стихи…
В этот ритм равномерный
Вступать не могу я
рабою покорной.
Орфей, я свободна,
я требовать в праве
Любви,
без вмешательства
чуждых стихий,
Быть тенью
в твоей ослепительной славе
Мне горько…
И я ненавижу стихи!..
По хрупким огонькам тюльпанов
Ты грубый оставляешь след
И невниманьем постоянным
Дух сокрушаешь, как поэт.
В Аиде сумрачном и скорбном,
Где неподвижны сами дни,
Следы твои
векам подобны,
Как вехи вечности они…
Погоди, Орфей,
у родника забвенья
Сядем мы для отдыха вдвоём.
Разве ты не разделяешь нетерпенья,
Не проникся сам небытиём?
Неужели нет в тебе
ни сожаленья,
Ни любви,
чтоб отогреть огнём,
Только мне отпущенного вдохновенья?
Но ты всегда был равнодушен и жесток,
Ведь у тебя не сердце –
твёрдый камень,
И прежде ты мне подарить не мог
Вниманья и участья…
Между нами
Жила годами роковая рознь
И ты ведёшь меня на медленную казнь,
Для нового змеиного укуса…
Я так хочу тебя
и так боюсь!..
Орфей, Орфей, опять ты далеко!
Уж я не поспеваю за тобою.
Туман упал
и развалился,
как молоко…
Утомлена я долгою ходьбою
Терзаешь ты меня:
из множества частей
Пытаясь выдумать в тревожном напряженье.
А что запомнил ты? –
Одни движенья,
Одну игру запутанных страстей,
Одни упрёки,
смертное томленье
И мёртвое лицо жены твоей –
Но пред тобой нет целого творенья.
Каким бы словом я успела оскорбить,
Задеть твою заржавленную душу,
Способную над вымыслом скорбеть?
Я на тебя любовь свою обрушу!
Снеси её,
я подскажу тебе
Всё, чем пренебрегал ты повседневно,
Способный мыслить больше о себе,
Но о других
неточно и неверно.
Орфей, остановись! Ты стал чужой,
Уж я тебя способна ненавидеть.
В Аид пришёл ты за моей враждой
И что прибавишь ты к былой обиде?
Я так противлюсь,
но иду вослед
За нежным другом, мужем и поэтом,
Который ада тьму
прорезал мысли светом
И своему созданью
возвращает свет.
Орфей, любимый мой, ведь я жива.
Не обращай вниманья на упрёки.
Я жду, когда приветные слова
Мне определят на пороге сроки
Отрадных дней с возлюбленным вдвоём.
Ты памятью своей являешь миру чудо.
Уж мы сознанием, как в первый день живём
И для тебя я доброй музой буду!
Орфей, за тем как скованы твои уста
И взгляд опущен –
видно отреченье
От творчества
для высшего творенья –
Благодарю тебя!..
Земная полнота
Так ощутительно и властно подступила.
Мне кажется, что я к живым возвращена,
Что только снились:
смерть в лесу,
могила,
Аида мрак…
Взгляни, я вновь стройна!
А если нет меня? –
и только тень
Идёт,
беседуя с тобой в дороге?
Ведь если ты
на роковом пороге
Не обернёшься,
в солнечный вступая день,
Останется одно лишь сокрушенье,
Что мог бы видеть ты и осязать
Из праха сотканное
юное творенье.
Как будешь ты со временем пенять,
Что не послушался,
не оглянулся,
Обману поддался,
которым щедр Аид,
Что в творчестве своём
ты наглухо замкнулся…
Силён твой дух,
но плоть – молчит!
– Жива в твореньях духа Эвридика
И вечно будет жить,
нетленная в веках!
И обвиваться
точно повилика,
На подымающихся в высоту стеблях.
Я вынесу тебя
в мир буйный
на руках.
Мне скорбному –
молчанье ада дико.
Я воскресил тебя,
вновь создал Эвридика,
Теперь согреемся мы
в солнечных лучах!
Но то, что было собрано в мечтах,
Подверглося при свете сокрушенью.
Вот кинулся Орфей
к непрочному виденью,
Но обнимал
невозвратимый прах.
Вопль вырвался от сердца: – Эвридика!
И повторило эхо: – Эвридика!
И растворялась в мраке Эвридика,
Сходя безропотно в страну теней.
Листвой опавшею прошелестела Эвридика:
– Прощай, Орфей!
Родная, дорогая Эвридика,
Вернись ко мне, не покидай свет, Эвридика,
Не возвращайся в мрак подземный, Эвридика,
Останься Эвридика, Эвридика!..
И всё окрест твердило – Эвридика! –
С Орфеем вместе устремляясь к ней.
И медленно, сходя в страну теней,
Листвой опавшею прошелестела Эвридика:
– Забудь, Орфей!
И было зарождение спирали
Из тёмного и плотного ядра.
Тьму пламенные языки лизали,
Пылинки раскалённые сверкали
И то была творения игра.
Шарами оплотнённого огня
Прочерчивались яркие орбиты,
Казалось,
в черной пустоте
разлиты
Лучи
животрепещущего дня.
Спираль
обрушивалась гневно на меня
Потоками,
где холод и жара
Смещались вихрями
и дух смущали.
Жгутами огнедышащими свиты
Беззвучно падали,
вздымались вновь, звеня.
И я не мог
мрак отделить от света,
Определить пространственные меры,
Рождавшейся вне времени химеры.
Но кончилось само виденье это –
Когда восход преображал кругом,
Застывшие в недвижности картины –
Одушевлял деревья бытиём,
Сдирал
ночные, мрачные личины
С камней
и возвращал природе – цвет!
Был торжеством творения рассвет!
Луч солнца озлатил вершины гор,
Он в свете потопил широкие равнины,
Леса могучие и водные стремнины,
Объединил их, слил в единый хор.
С принятьем скромных, повседневных дел,
С необходимостью осознанной свободы –
В том общем славословии природы
Свой голос собственный обрёл Орфей!
1960–1961
«Чужая жизнь – таинственая книга …»
Немного о Льве Михайловиче Тарасове
…Представьте только дерево, широко раскинувшее ветви, корнями глубоко ушедшее в землю, вершиной упирающееся в небо; вокруг него поднялись молодые побеги, раскинулась живописная лужайка, и вообразите также почтенного, всеми уважаемого человека, живущего в тесном кругу семьи, в уютной квартире, со всеми коммунальными услугами, честно исполняющего возложенный на него обществом труд, любящего отчизну, лишенного тени подражательства иноземному – и вы постигнете, как важно для человека не оказаться бездомным, безродным, неприкрепленным к месту, которое пусто не бывает. <…> Человек тысячами корней прикреплен к почве, его вскормившей. На протяжении своей жизни он несколько раз может быть пересажен на новое место, и каждый раз эту пересадку переживает болезненно. Ему нужно прижиться, прирасти, распрямить потревоженные корни, особенно, когда пересадка производилась грубо, и родной земли на корнях осталось немного.
Л.М. Тарасов. «История жизни моего друга»
Лев Михайлович Тарасов (1912-1974) – поэт, писатель, искусствовед, редактор, специалист по изобразительному искусству второй половины XIX в., родился в Москве. Его отец, Михаил Иванович Тарасов, получил юридическое образование и в 1912 году был направлен в г. Архангельск. Перед революцией он ожидал назначения на должность Кремлёвского прокурора, собираясь вернуться в Москву, но вынужден был эмигрировать и оказался в Югославии (Королевстве сербов, хорватов и словенцев), где возглавил русскую эмигрантскую общину. Скончался М.И. Тарасов в конце 30-х или начале 40-х гг. Мать Л. Тарасова, Ольга Васильевна Сизова, осталась в России одна с тремя детьми, без средств к существованию. Блестяще владея после окончания московской гимназии немецким и французским языками, она устроилась работать машинисткой.
Когда М.И. Тарасов, чтобы избежать расстрела, покидал Родину, никто не мог предположить, что объединить семью больше никогда не удастся. В 1920 году к О.В. Сизовой посватался бывший ссыльный революционер, ставший начальником административного отдела в Архангельске, чем спас и её, и детей от преследований как членов семьи эмигранта. Старший сын, Лев Тарасов, в восемь лет был отправлен домой, в Москву, учиться и воспитывался у своей бабушки, Прасковьи Максимовны (Боголюбовой) Тарасовой – матери отца, имевшей свой дом в Измайлове.
Лев Михайлович Тарасов получил среднее образование, окончив десятилетку в 1930 г. Тогда же поступил работать на Измайловскую ткацко-прядильную фабрику преподавателем русского языка в школе фабрично-заводского ученичества (ФЗУ), именуемую тогда ликбезом – школой ликвидации безграмотности. Одновременно заведовал библиотекой при фабрике. Принимал активное участие в литературных кружках и клубной работе; был секретарём комитета фабричного профсоюза. Высшее образование не позволили получить анкетные данные. В 1934 г. ему удалось поступить на курсы экскурсоводов при Государственной Третьяковской Галерее (ГТГ), окончив которые, он стал её сотрудником. Вёл занятия в художественных кружках, читал лекции в стенах ГТГ и на производствах. Принимал участие в организации ряда выставок, в том числе выставки «А.С. Пушкин в Третьяковской Галерее» (1936).
После эвакуации ГТГ из столицы в 1941 г. Тарасов, оставшись в Москве, работал библиотекарем, а затем секретарём у народного художника, скульптора С.Д. Меркурова. Был призван и попал на фронт в 1943 г. По окончании войны некоторое время на договорных условиях писал статьи для издательства «Искусство», а затем был принят в штат. За двадцать пять лет работы (с 1947 по 1972 г.) в должности старшего редактора в отделе изобразительного искусства им было отредактировано свыше ста книг; издан ряд собственных научных и популярных изданий о русских художниках: В.К. Бялыницком-Бируле, А.Н. Волкове, М.А. Врубеле, В.Е. и К.Е. Маковских, В.Г. Перове, П.И. Петровичеве, Л.И. Соломаткине, В.Ф. Тимме и др.
Л.М. Тарасов оставил огромное литературное наследие – стихи и прозу, – а также множество своеобразных рисунков. Его архив (в основном ранние стихи и дневники) хранится в Музее Москвы.
Только через 17 лет после смерти поэта (в 1974 г.) состоялась первая публикация трех его стихотворений в Нью-Йоркском «Новом журнале» (1991, № 184/185). В Москве, фактически на правах рукописи, силами родственников были изданы два поэтических сборника – «Пестрый мир: Избранные стихотворения 1932-1974» (2008) и «Огонь Гераклита: Избранные стихотворения 1932-1974» (2011).
При жизни стихи Л. Тарасова не печатались по многим причинам. Темы, затрагиваемые им в стихах, в те годы не приветствовались. Да и по форме они казались трудными для восприятия, – «белые стихи» нередко даже не считались стихами. Немудрено, что лучшие свои вещи он никому не показывал.
Одним из первых и очень сильных поэтических увлечений Л. Тарасова был В. Хлебников, «вольный размер» стихов которого покорил его навсегда. Позже он увлёкся А. Белым, чьим учеником хотел стать. Как и его кумиры, Лев Михайлович интересовался славянской мифологией, русским язычеством, культурой прошлых веков. Пантеистическое изображение мира природы, её идеализация и пассивное созерцание тоже оказалось ему созвучно. На его творчество оказали влияние Н. Заболоцкий, Ф. Гарсиа Лорка, Эдгар По, Уитмен, немецкие поэты.
В юности он писал:
Воспитанный с малых лет на классической литературе, я по сю пору люблю Жуковского; да и что может быть приятней, спокойней и задушевней его стихотворений. Думаю, через любезное посредство Василия Андреевича, я полюбил немецких поэтов и многих заочно. Немудрено, что Новалис очаровал меня голубым цветком, Гофман привил склонность к причудливому миру Двойников и стихийных духов, а Гейне научил язвительно улыбаться.
И если бы не Велимир Хлебников, я читал бы теперь в оригиналах немецких романтиков, к вящему удовольствию своих ближних. Однако мы всегда предполагаем, бессильные располагать, и я попал на выучку к «будетлянам», которые своё идейное убожество прикрывают словесными изворотами. Понятно, мои способности их радовали.
По счастью Александр Блок был также мой постоянный спутник и собеседник, он оберегал меня от тяжкого ига зауми, предлагая взамен символы и певучие ритмы.
Так они жили оба, Александр и Велимир, крепя союз, после своей преждевременной смерти, в моих рабочих тетрадях.
Александр и Велимир,
Выходцы из гроба,
Крепя со мною мир
Живите в дружбе оба.
1932
В школьные годы вместе со своими сверстниками Ю. Соколовым, В. Будниковым, А. Зайцевым, П. Штуцером и другими одноклассниками, увлекавшимися литературой и театром, Лев Тарасов создал «Содружество независимых», как они себя именовали. Всевозможные новаторские течения в литературе, возникавшие в начале прошлого века, в том числе мистика, привлекали этих ребят, с трудом находивших себя в новой послереволюционной жизни. Они понимали, что путь их будет непрост.
Лишившись дома, семьи, родителей, чтобы не чувствовать себя одиноким, Л. Тарасов создал нечто вроде ордена, который назвал «Орденом Глиняного сердца» («Орден странствующих антиистов»). «Антиисты» – термин, который они сами придумали «в противовес социалистическому реализму как течению, сдерживающему свободу литературной мысли в объектах политичности (социального заказа), агитационности и тенденциозности вообще».
Позже, в 1935 г., когда детская задумка переросла в юношеские философствования и раздумья о литературе, Лев Тарасов изложил эти взгляды в виде манифеста:
«– объявляю, что наше содружество независимых отделяет себя от вопросов общественного быта, принимая к сердцу интересы чистого искусства, в целях освобождения современной литературы от всевозможных ограничений.
Художник должен быть абсолютно свободен, ничто не должно связывать его с общественными течениями; воспринимая современную жизнь, он преломляет её сквозь призму личного.
Отражая все светлые и тёмные стороны жизни, проявляемые во всех формах, художник совершает величайшее дело, созидая действительность, любовно приглядываясь ко всему, храня невозмутимость.
Художник – артист, он воплощает в себе все времена, все эпохи, современность, будущее и прошедшее. Весь мир вмещается в нём, образуя гармоничность, единство.
Будем сплочены, связаны тесно друг с другом.
1935 январь Тарасов.
Рыцари «Ордена Глиняного сердца» хотели писать пьесы, ставить спектакли; частично это им удавалось в школе и в клубе Городка им. Баумана. Записей об этом почти нет. Они только мечтали о «ТОФ» -Театре Обновлённых Форм. «Я жадно улавливаю звуки грядущих поэм», – писал Л. Тарасов, – «вся жизнь моя сплошная поэма», «живу внутри себя – невидно».
В этом «ордене» главной была, конечно, «Дама сердца». Поклонение ей («служение прекрасному, вечно-женственному») было обязательным условием. Посвящались ей и стихи. Так как ни у кого из них настоящей Дамы ещё не было, все истории, которые они изобретали, были чисто литературными сочинениями, некой игрой воображения, что их всех очень устраивало.
Вот и отзвенели песни осениц!
В ослепительном плаще, сотканном
Из пушистых звёздочек снежинок,
Нынче явится она на призыв
Тех, кто предался унынью,
Терпеливо чуда ожидая.
– Экие мечтатели! – ужели
Ждёте вы прихода незнакомки,
Что в комок сырой, холодной глины
Вдунет трепет и биенье жизни.
– Мы ей верим…
– Мне бы вашу веру.
Я тогда твердил бы неустанно:
Хорошо на этом самом свете,
Удивительно легко и хорошо!
– Так пойдём, сегодня заседает
Орден Глиняного Сердца – разве
Не вошёл ещё ты в наше братство?
– Не вошёл, но с радостью войду!..
1932 ноябрь
Лев Тарасов мечтал учиться в МГУ (даже подал туда документы) или в Литературном институте, но для сына белоэмигранта это оказалось невозможным. Школьный друг Владимир Будников уговорил его поступить в заочный Текстильный институт, где учился сам, и в 1932 г. Лев поступил на подготовительное отделение по специальности «хлопкопрядение». В то время ему так хотелось получить высшее образование, что он даже попытался увлечься ткацкими машинами. Но довольно быстро он все это забросил, разочаровавшись и в машинах, и в хлопке, т.к. кроме книг и стихов больше ничего его не интересовало.
В области литературы он был к себе всегда необычайно требователен. Знал себе цену, и если его недооценивали, очень переживал. Символизм как направление и ярчайшие его представители А. Блок и А. Белый обратили его внимание на красоту ассонанса и аллитерации. Со стихами, подобными этому, он и шёл к Белому.
В жёлтой пыли
Автомобили
Плыли…
Лошади в мыле,
Лошади в пене,
Мечтали о сене,
Овсе -
И все,
Торопящиеся прохожие
На лошадей были похожи.
Они
Мечтали О пище,
О лучшем жилище,
О том,
Когда будут светлее
Дни
Потом.
1930
Тарасов чувствовал, что должен ещё многому учиться, поэтому 28 марта 1933 г., на следующий день после того, как ему исполнился 21 год, он предпринял первую попытку встретиться с А. Белым (выбрав его себе в учителя), но не был принят. Позже была ещё одна попытка, но снова не повезло, – Белый уехал в Крым. А в третий раз – просто не успел и уже из газет узнал о смерти своего кумира.
Из дневника Л.М. Тарасова 1933-1934 гг.
1933 март 28
«…Поехал на Плющиху искать А. Белого (д. № 53 кв. 1). Позвонил раз – тихо, другой раз – то же. Постучал, и дверь открыла очень милая, симпатичная старушка. Я спрашиваю:
– Можно видеть Б<ориса> Н<иколаевича>? – Он болен – отвечает, – после вечера своего простудился, говорит шёпотом, его нельзя беспокоить.
– Но он принимает?.. – Да, иногда принимает. Недельки через три, если… Да вы ещё такой молодой… (Действительно, в мои годы трудно надеяться попасть к Б.Н., но я питаю надежду…)».
1933 май
«…А. Белый уехал в Крым и моя вторая поездка была неудачна (23). Юра <Соколов> говорил о диалогах, которые он пишет, и о борьбе двух типов (пессимизм и оптимизм)…» (25).
1933 июль
«…Благодаря Велимиру <Хлебникову> я думаю о возобновлении Антиизма, т.е. о пробуждении его к жизни и даже возмечтал о новой династии, уже не «будетлян», но «антиистов» (27). Написал «Анатолий-Ниппон-Эней» (сон, записанный как стихотворение; окончательное название: «Лев-Вотон-Эней». – Ю.М.) – ужасное виденье. Мысль – борьба Востока с Западом и то, что русский человек вместит обоих, ему не будет гибели (27).
Важнейшее для меня – учиться: 1. Идти к А. Белому и сказать: -«Я неофит – учи меня, старче»… Если последний откажется, написать рассказ, где изобразить его в смешном виде и заставить его плясать с кентаврами за Москвою-рекой. 2. Идти к футуристам, что покамест не вымерли, посмотреть на них и выведать о Велимире (хотя бы у Кручёных)…» (29).
1933 июль
«О себе: Хочется лежать не вставая. Сердце болит. Пустая голова (4). Бесподобен дядя Струй, нельзя не любить милую Ундиночку. Дочитывая, я прослезился. Как бы я хотел уйти в сказочный мир призраков. Уж очень всё надоело. Недавно волновал меня Савелий Сук (герой одноимённой повести Л. Тарасова. – Ю.М.) и закутанный в простыню Велимир (3). Действительность проходит мимо, я доволен: на что мне эта грязь, когда служителем светлых искусств, я буду свободен и жизнь поведу безмятежно, тихо (5). Живу чужой жизнью…» (15).
«…О лучших людях нашего времени я непременно буду писать: а) Владимир Соловьёв – какой необычайный Дух заключён в нём -прекрасный рыцарь – монах, я чту тебя; б) Алекс<андр> Блок – поэт, живущий собственным, внутренним Духом, удивительной болью принявший Революцию; в) В. Хлебников – поэт – юродивый, председатель земного шара, словотворец, у него особое восприятие мира. г) Андр<ей> Белый – высочайший мистик, поэт, упорно в себя шагающий, в смерть… д) И иные, как Волошин…».
«.. ..Всё-таки трудно постоянно твердить о том, что всё хорошо. Скука удивительно бдительна…» (19).
«…Наша жизнь – величайшее благо. Её следует беречь. В сердце тонкая боль и головные излучения. Кажется, немного и можно будет потусторонне общаться. Но где мастер? Я стою на перекрёстке. Звенят мои бубенцы.» (25).
«…Думаю написать пьесу «Анатолий Заумный» и поставить. Летом с Юрой организую ТОФ (Театр Обновлённых Форм. – Ю.М.) -выразитель Антиизма в искусстве (22). Необходимо поставить «Царя Максимилиана», «Незнакомку» или «Песню судьбы» Блока, «Зангези» Хлебникова и моего «Анат<олия> Заумного». ТОФ необходимо провернуть в жизнь. Так начнётся завоевание театральных форм анти-истами. О, я знаю, что такое искусство, недаром я «Ученый лентяй голубой ленты» (титул, присвоенный Тарасову в «Ордене Глиняного сердца». – Ю.М). Только хлопок меня собирается задавить, уж его нити протягиваются всё ближе, ближе…» (23).
1934 январь 9
«…Вчера, полпервого скончался А. Белый. Это был мой учитель. Я пытался идти к нему, но боялся его тревожить, я писал ему письма, но не отсылал их. Избранные уходят, это был последний из писателей, теперь уже никого нет, теперь все надежды на будущее. Его судьба таинственна. Надеюсь, что он умер, питая высокую веру. Господи, спаси его душу… Он тебя постоянно искал. Да будет! (9 <января>).
О смерти Белого я узнал от Ницше (бухгалтер на нашей фабрике, жалкий пьяница). Поразило меня совпадение имён, Ницше был дорог Белому, от него мне весть, которой я включен в преемственную линию, мне суждено стать вершителем замыслов. С преждевременной смертью Белого я потерял возможность приблизиться к его сокровенным исканиям, но, верю, что Духовное Соединение по сродству душ мыслимо во все времена (10). Антиистам необходимо ввести знак Андрея Белого, его степень и орден (13). Белый объявлен реакционным писателем. Переизданий его ждать нечего – достойному не пристойно быть предтечею в литературе, именуемой соцреализмом. Третьего пути нет. Вот ещё – знамя (16 <января>)».
По земному и небесному призванию Л. Тарасов был поэтом. Может быть, это покажется излишне возвышенным, но в своих фронтовых письмах жене, на следующий день после объявления о победе над Германией, он писал:
1945 май 10
…Я самый большой фантазёр – и это мне помогает, потому что в ином случае я давно протянул бы ноги. Это моё солнце, источник силы.
С той поры как я переступил намеченную мной грань и вошёл на первые ступени ученичества, я определил свой путь и взвесил свою жизнь и постиг, что ни одного из талантов, вручённых мне, не имею права закопать. Я буду бороться до последнего часа за то, что дорого мне – за культуру, облагораживающую человечество.
Я верю, что Бог – наставник и Учитель мой. И всё, что имею, приношу ему как скудную лепту. Он дал мне силы, вёл меня в моём пути, он избрал меня – и я знаю, что мой голос, моё слово – будет необходимо людям.
1945 сентябрь 9
.. .Маленькая, <всё> больше прихожу к убеждению, что поэтам нет нужды изобретать там, где они могут обращаться к вечным сюжетам и высказать своё отношение. Вот откуда у меня полное спокойствие, потому что повод высказать свою направленность у меня имеется в любое время, лишь был бы соответствующий толчок. И важно не копирование действительности, а отталкивание от неё. То, что есть в действительности – есть повод к художественному восприятию. Задача поэта – высказать отношение через образ.
Безумие моё заключается в том, что я живу только как поэт. Но это безумие светлое и радостное. У меня нет другой жизни.
Можно сказать, что второе письмо – это своеобразный поэтический манифест, которого Л.М. Тарасов придерживался на протяжении всей своей жизни. Путешествуя по страницам книг и живя в царстве собственных фантазий, пропуская через себя окружающий мир, он свободно перемещался в любой эпохе, в любой стране, изучая их по книгам. Тарасова интересовало не только искусство; он всё примерял к себе и на себя. Хотя иностранных языков он толком не знал, но со словарём при необходимости мог читать немецких поэтов. Испанский очень увлек его из-за Гарсиа Лорки, и тогда он обложился учебниками, пока это увлечение не сменилось следующим. Если в стихах нужны были цыганские звучные фразы, он покупал разговорники и словари. То же касалось латыни и греческого.
Из мира реальности этот близорукий, сутулый, застенчивый и неуверенный в себе человек проделал в свой немного сюрреалистический мир множество лазеек и ходов и ими активно пользовался. Если же не удавалось пройти этим ходом дальше или закончить какую-то наиболее трудную мысль, он просто бросал её на полдороге и принимался за следующую, благо материала, т.е. книг, было много. А наткнувшись на эту же мысль вновь, мог увлечься и продолжить её заново. И так не единожды, – это стало манерой его творчества (в том числе и в прозе). Оно, таким образом, оказывалось хотя и подражательным в смысле выбранных тем, но своеобразным по исполнению и, безусловно, являлось продуктом своего времени.
Вот характерный пример. Из стихотворения В. Хлебникова «Свобода приходит нагая.», написанного в 1917 году, Тарасов взял первую строчку. Он написал своё стихотворение в 1934 г., вроде бы на ту же тему, но уже совершенно в другую эпоху, когда ни о какой свободе речь уже не шла.
Свобода приходит нагая, |||Свобода приходит нагая,
Бросая на сердце цветы, |||Одетых и сытых ругая,
И мы, с нею в ногу шагая, |||Брань на губах площадная,
Беседуем с небом на «ты». |||Тонкие ноги в крови.
Мы, воины, строго ударим |||.........................
Рукой по суровым щитам: |||Когда же пройдёт ликованье,
Да будет народ государем |||Разрушат старинные зданья,
Всегда, навсегда, здесь и там! |||Весь город замрёт от страданья,
Пусть девы споют у оконца, |||Отравленный и больной,
Меж песен о древнем походе,|||..........................................
О верноподданном Солнца – |||Свобода оденется в ткани,
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































