Текст книги "Отрицательные линии: Стихотворения и поэмы"
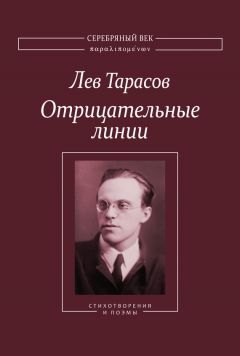
Автор книги: Лев Тарасов
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 22 страниц)
Самодержавном народе. |||Устав от насилья и брани,
Хлебников, 12 апреля 1917 |||Довольство растает в тумане -
..........................................|||И гнёт народится иной.
..........................................|||Тарасов, 1934 январь 13
Поэт рисует трагическую картину произошедшей революции, а ведь в 1917 году Хлебников написал совсем о другой жизни, которую ждали и о которой ещё только мечтали.
Все слова и созвучия пробуются как бы «на вкус». Тарасова приводит в восторг музыка стиха; в позднем возрасте он, как по нотам, расписывает всё стихотворение, выверяя ритм; составляет схемы. В ранних стихах, явно подражая В. Хлебникову, пишет стихи одними звуками. Выразительность при этом оказывается даже выше, чем в «традиционных» стихах («Противувоенное», «Мария», «Песня», «Че-Чёрным».) В словообразовании Тарасов иногда повторяет вслед за другими: вроде «осениц», но есть и своё: «умерки», «чаруйно-легковейная» песня, «эвиоэли», «умирери».
Многие стихи объясняют значение и место самого Слова. Есть стихотворения-метафоры, раскрывающие слово. Он писал о том, как трудно найти нужное слово, точно выражающее смысл: «Слово корчится в муках самовыражения…», «Есть в слове трепетная плоть…» и пр.
Слово для Тарасова и есть Бог. Поэтому к Богу он относится просто, обращаясь как к другу или соседу (возможно, переняв это у Рильке, одного из любимых своих поэтов) – «Ты мой сосед, Господь.»
Ты звал меня, Господь, – я посетил твой храм,
Я обошёл пустынные могилы,
Я близким людям поклонился там -
И были мне воспоминанья милы.
О, только бы не покидали силы,
Не подступала к сердцу суета.
Предвижу на пути я не одни могилы,
Жизнь озарённая тобой – чиста.
1941 март 2
Тарасову этот подход оказался самым близким, – Бог был с ним всегда рядом. В своем одиночестве Лев Михайлович вёл с Ним беседы, рассказывая в стихах обо всём происходившем. Разговаривал с Богом подобно тому, как человек ведет в уме бесконечный монолог с самим собой. Он ощущал свою избранность, необходимость учить, объяснять. Откуда она происходила? Его бабушка, Прасковья Максимовна, обладала большим чутьём, помогавшим ей в работе повивальной бабки; ещё она любила гадать и «крутила блюдечко»… Может быть, что-то передалось и Льву. Однажды у него было видение. Из головы его появились светлые лучи, метра на три, как он записал в дневнике. И он почувствовал себя чему-то причастным. Он мог бы продолжить этот опыт, но посчитал себя не готовым. А чувство причастности осталось. (Этот момент описан в стихотворении, посвящённом А. Белому.) В стихах часто Л. Тарасов перерастает самого себя, и тогда появляется размах поистине планетарный, космический – как при описании зарождения Земли, битвы Титанов, при описании неживой природы, наделяемой им душой («Камни»).
Перед чистым листом бумаги, еще не заполненным убористым текстом, возникает ощущение растерянности, поскольку эта гладкая поверхность, незамутненная и ослепительно белая, весьма обманчива, и устоявшиеся мысли, как бы ни были хорошо слажены, проявляют беспомощность и выглядят немощными. Лист бумаги страшит и расхолаживает, даже вызывает смутное желание оставить его в первобытном виде. Но не тут-то было, стоит нанести несколько слов, как самый рисунок, возникающий из соседства буквенных знаков и приютливо расположенных строк, иногда лихо перечеркнутых, покоряет глаз продуманной слитностью, не позволяет отступиться и побуждает к дальнейшей работе. Теперь впору прилепиться к завораживающей этой связи строк, настроиться на соответствующий лад и решительно кинуться на преодоление многочисленных, на-стерегающих препятствий. Бесполезность такого начинания ничуть не смущает, она сталкивается с необходимостью взяться за перо, мысли, когда-то стройные, теряют порядок и не втискиваются в заданные рамки, перебивают одна другую и улетучиваются прежде, нежели бывают записаны. Перед чистым бумажным листом понятно, что словам тесно, а мыслям просторно.
Нередко Лев Тарасов обращается к мифическим персонажам -Пану, Мнемосине, Амуру, Прометею, Загрею, свободно общаясь с ними в воображении. Он может с Паном петь песни, сочувствовать Прометею, ужасаться с маленьким Загреем или становиться самим Протеем… Возможно, уход от привычной действительности необходим Тарасову, чтобы не потерять веры в свой дар. Он часто с юмором относится к неудачам, иногда прикрывая своё отношение к происходящему метафорой, занимающей почти всё стихотворение.
Сидели с Паном мы, держал цевницу
В руках он, волосы его седые
Напомнили мне об ушедших годах.
– Не огласить ли нам долину песней,
Не поразвлечься ли игрой старинной?
Что, ежели, в ладах согласие с природой
Вновь вызовут и голос наш, и пальцы?
Но проводов натянутые струны,
Но грохотанье трактора в низине,
Но мчащиеся спешно электрички
И шум, и выхлопы аэроплана -
Сбивают нас на непривычный строй.
Переглянулись мы, смущенье поборов,
Пан отложил цевницу, он хохочет:
– Другие времена, другие песни!..
А летний зной, как прежде, разморил.
1968 апрель
К 50-ти годам Л. Тарасов духовно и профессионально очень вырос. Ему захотелось показать свои стихи читателям, услышать мнение со стороны.
Мне стало неприютно оттого, что в силу обстоятельств, обычных для человека средних лет, я ограничен узким кругом представлений, общения мои сужены, интересы также; окружает меня тесный мир близких и сослуживцев.
Есть одна область знаний, которую я развиваю. Она уродливо разрастается, как опухоль или нарост, остальное с трудом проникает ко мне и мало трогает. Я научился видеть, воспринимать произведения искусства, постиг хитросплетения искусствоведческих концепций, обычно высосанных из пальца, научился систематизировать, квалифицировать, описывать, определять – но все это не дает мне уверенности считать себя достигшим удовлетворения в жизни, -
пишет он в «Истории жизни моего друга».
Вновь и вновь Лев Михайлович шёл в редакции больших журналов, чтобы получить очередной отказ. Время для его стихов ещё не пришло.
Стихи Л.М. Тарасова отвечают стилистике «реалистического символизма» или, скорее, реализма 20-х годов ХХ века. Того реализма, что отличал поэтов и художников объединения «Маковец». С некоторыми из них – Н.М. Чернышёвым, Л.Ф. Жегиным, Н.М. Рудиным и Н.Н. Ливкиным – жизнь его столкнула в середине 50-х годов и, видимо, не случайно. Общность взглядов на искусство и взаимная симпатия соединяла их до последних дней. Продолжительная дружба с этими замечательными и интересными людьми очень поддерживала его в неудачных походах по редакциям журналов, где чаще всего ему предлагали: «Напишите парочку стихотворений о достижениях колхозников или промышленного строительства, а мы к ним незаметно добавим ваши белые стихи». Но воспевание колхозов и промышленных успехов не вдохновляло поэта. Как редактор по профессии, Тарасов был вынужден соглашаться с их доводами и идти дальше.
Разговор о стихах Л.М. Тарасова будет неполным, если не рассказать о его военных годах. Ещё задолго до войны он писал, ужасаясь тому, что должно будет произойти:
Когда готовится война,
Скорее прозреваешь Бога -
И сердцу бранная тревога
В годину смуты не страшна.
На подвиг позовёт страна,
И будет суд свершаться строго.
В глухие дни погибнет много
Людей. Им будет смерть красна.
1938 сентябрь
За несколько дней до начала Великой Отечественной, 9 июня 1941 г., Лев Михайлович женился. Его избранницей стала Валентина Леонидовна Миндовская, которую Лев Тарасов просто очаровал своими стихами. Их свадьба состоялась в Духов день. Оба работали в Третьяковской галерее экскурсоводами и умели собрать вокруг себя слушателей.
И Орфей мобилизован,
Для него пришла война.
Точно петлю на аркане
Эта злобная старуха
Затянула: туже, туже,
Чтобы не было для песен
Выхода. Уже в строю
Мается Орфей унылый,
С котелком, с тяжёлой скаткой,
С бесполезным автоматом,
Обезличенный, лишённый
Всех достоинств человека,
Потерявший в справедливость
Пошатнувшуюся веру.
Почему по принужденью
Он обязан быть убийцей?
Разве в том его призванье,
Чтобы по дорогам мирным
Оставлять одни лишь трупы,
Жечь селенья и смеяться
Вместе с оголтелой смертью?
Посторонними руками
Он измазан липкой кровью.
Он участник преступлений,
Поощряемых законом,
Он преступник по приказу,
Бессловесная скотина,
Приведённая на бойню.
Всё его непротивленье
Только повод для насмешек.
Он давно в животном страхе
Потерял своё обличье,
И в солдатской подлой форме
Наказанья сам достоин.
В этой бестолочи грубой
Нет спасенья для Орфея.
1960 октябрь 3
Но Тарасову повезло: он выжил. Из-за очень сильной близорукости Льва Михайловича призвали в армию только в 1943 году. Был на 2-м Белорусском фронте, награждён двумя боевыми медалями: «За взятие Кенигсберга» и «За победу над Германией».
На войне, в бесконечных переходах и марш-бросках, когда за день приходилось преодолевать по 50-70 км, он писал поэму «Пер Гюнт», по мотивам Ибсена, пересылая стихи жене в письмах-треугольниках. Шёл и дорогой сочинял. Многое пришлось пережить неприспособленному человеку, потерявшему почти сразу очки, в таких походах. За годы службы Л. Тарасов был и при кухне, и при обозе со снарядами, и в медсанбате, но за всю войну ни разу не выстрелил. Видно, хранили его Бог и любовь жены, хотя много раз он бывал на волосок от смерти. Как-то раз, с котелком каши, забрёл в окопы противника. Зайдя в тумане в траншею и услышав чужую речь, только чудом он избежал столкновения с немцами… Это случилось в Пруссии, когда немцы и русские обороняли свои позиции, стоя в лесочке напротив друг друга, но уже не ведя активных боев.
Однажды он, вдвоём с напарником, вёз гружёную телегу с минами. Лошадь шла медленно. Полная смертоносного груза телега наскочила на такую же мину, но как раз в этот момент Тарасов отошёл от неё немного в сторону, чтобы закурить.
Без очков он пробирался по Белоруссии, Польше, Австрии. В сражении у Кёнигсберга почти целиком погибла вся его дивизия. Тарасов тогда заблудился и отстал от своих, благодаря чему, может, и остался жив. На него пришла похоронка, но жене ночью приснился сон, что она видит мужа на кладбище, бредущего среди крестов. Кресты были с домиками над ними, не наши. Во сне Валентина Леонидовна догадалась, что Левушка, как она его называла, жив.
Начиная составлять биографию Льва Тарасова, я предполагала, что быстро справлюсь с задачей, поскольку стихи его биографичны. Но по ходу работы поняла, что он, видимо, тоже пытался составить её в книге, которую назвал «История жизни моего друга», но также встал перед невозможностью отобрать наиболее значимое. И он нашёл выход: стал вести отдельные записи. «Как ни странно, – писал он, – не схожие рядом, все эти записки, собранные вместе составляют нечто единое».
Дневники Тарасова в основном литературные; он заносил туда свою прозу и стихи. Записи составлены помесячно и разделены на главы: о людях, о снах, о работе, о прочитанных книгах и пр. Сравнивая строчки из дневника и читая стихи тех лет, словно заглядываешь в его творческую лабораторию.
Выйдя на пенсию летом 1972 г., Лев Михайлович стал приводить в порядок написанное. Перебирая бумаги и папки, он начал перечитывать стихи и, убедившись, что всё главное в них присутствует, поначалу решил, что кроме стихов ничего больше оставаться не должно. Часть рукописей он уничтожил, но прозой своей дорожил и очень переживал, что не успеет дописать и сложить свою «Невидную» или «Невидимую» (как у Добролюбова) книгу.
Тарасов не знал, что скоро умрет. Болел он давно, но никому не признавался. Он боялся смерти и не хотел ее. Жить он собирался до 99 лет, как в юности нагадала ему цыганка, «если он не умрёт под развалинами своего дома». После переезда в новую квартиру в Ховрино он совсем успокоился. Сменив мебель на новую и разбив старую, проеденную жучком, мы убрали красивые деревяшечки на антресоли, – жаль было расставаться с фурнитурой от старой мебели. Потом уже, несколько лет спустя, вспоминая слова гадалки, сообразили, что плохо с сердцем Тарасову стало именно под антресолями, где и хранились «развалины старого дома». Предсказание всё же сбылось.
Хотя умер он неожиданно, но подготавливался к смерти потихоньку и заранее. Пересматривал рукописи, выверял стихотворения, кое-что переписывал набело. Материала было много, а сил – мало, и его мучило чувство, что вряд ли он успеет завершить всё, что задумал.
Хорошо представляю себе, как это происходило, потому что не раз видела его за работой.
Вот небольшой листочек выпал из папки, – оборванный, на пожелтевшей бумаге. Л.М. прочёл: «Гоголь. 1933 год». Начав читать, забыл обо всем остальном, т.к. этот небольшой отрывок напомнил ему слишком много, гораздо больше, чем было написано; это и его мука, и его боль. Закончить невозможно: конец – это смерть. А он еще здесь и не представляет, как это передать. Л.М. долго держит в руке листок, не зная, куда положить. Позже, читая «Чудесную историю моего друга», я вдруг наткнулась опять на этот отрывок, но там он совсем другой, – уже переделанный и дополненный. Это два разных произведения. Видимо, тогда он и переделал его.
ГОГОЛЬ
Вот он птицеобразный собеседник, проповедник духовного слова. Он уже отказался от пищи. Постится, читает молитвы. И в тоже время в пестром, цветном одеянии кажется колдуном, чародеем, провидцем грядущих судеб России. Заостренный нос придает ему лисье выражение, одутловатые мягкие губы во время бормотания неприятно раскрываются, выказывая ряд нехороших зубов. Одет он дико, на ноги натянуты длинные шерстяные чулки выше колен, бархатная короткая куртка сидит довольно неловко, на голове малиновый, из бархата, золотом шитый кокошник. И вот он ходит, глядя в пространство, из угла в угол, в то время, как Павел Иванович Чичиков ездит, скупая мертвые души. Воздух в комнате душен. И нет ни души… Он шепчет о бесе, о людях забывших Господа, о роли равноапостольной, соборной церкви, о заре воссиявшей с Востока… Жутко, не по себе ему стало, приподнялся на цыпочки и, строго взирая на мир за окном, перекрестил мутные дали. Вот к чему привела жизнь, так глупо, так не умно затраченная. Таким ли хотел он быть? И вспомнил милую Малороссию, к которой лежит душа, свои первые книги и даже улыбнулся. Но во время спохватился. Враг силен, трудно жить в миру, трудно нести свой подвиг. Ах, как я сам виноват! Разве я не Чичиков, тот, о котором подумал сейчас с омерзением. Я хуже. Я самый гадкий. Как я живу? Что я создал? Никто из читателей моих не знал того, что, смеясь над моими героями, он смеялся надо мною. Во мне не было какого-нибудь единого слишком сильного порока, который высунулся виднее всех моих прочих пороков, все равно, как не было так же никакой картинной добродетели, которая могла бы придать мне какую-нибудь картинную наружность, но зато, вместо того, во мне заключалось собрание всех возможных гадостей, каждой понемногу и, притом, в таком множестве, в каком я не встречал ни в одном человеке. Бог дал мне многостороннюю природу… Разве думал я быть таким одиноким, ненужным. Что пользы в лести друзей? Куда бы уйти? Мир широк, беспределен, он стелется ровной, необъятной долиной, но впереди мгла, смыкаются очи… Матушка! Даже ты мне не можешь больше помочь… Боже, спаси и помилуй душу раба твоего Николая! Погибну, как есть погибну! Смерть одна лишь поможет, да разве можно думать о смерти, сейчас, когда… мне еще жить, жить нужно… Это все Сатана, враг рода человеческого мутит меня, это его козни. Но волей Господа Бога моего говорю тебе Сатана: исчезни, сгинь, сгинь!.. Да воскреснет Бог, и расточатся враги его… – зашагал, зашептал… Огромно, велико мое творенье. Еще восстанут против меня новые сословия… Кто-то незримый пишет передо мною могущественным жезлом… Оплывают свечи, по стенам колеблются тени. На тарелочке лежит крупный с синеватым отливом чернослив.
1933(?)
Перечитав, он начинает листать свои папки, чтобы положить этот листок обратно. Попадается еще одна запись. Л.М. отходит от стола, садится в глубокое кресло-кровать и читает:
Приятное ощущение доставляет порой человеку – свернуться калачиком, подтянуть ноги до подбородка, уложить руки собранно, так, чтобы они ладонями обнимали лицо. И тогда чувствуется возврат к эмбриональному состоянию, и возвращается воспоминание о доначальной жизни, о том периоде развития, когда все стадии проходят ускоренным порядком и можно проследить эволюцию живого существа. Так из заложенного порядка ген<ов>, складывается организм, постоянным путем повторяя привычные сочетания клеток. Жизнь требует выражения в законах гармоничного сочетания, в повторах и вечном развитии, совершенствовании. Возможно, что в этом утверждается разум природы. Всё находящееся в развитии требует сложения по определенным нормам сочетания. Все складывается в определенные, раз навсегда заданные узоры. В неорганическом мире царит дивная красота, которая так поражает наш взгляд в многообразных формах кристаллов. Растительный мир воспринял все эти узоры, повторил его в мире животном, утвердил в человеке. Одинаковые ткани в разнообразном становлении служат основой для всего живого. Вся природа слита в едином дыхании, в бесчисленных переходах от одного состояния в другое.
Подумал, наверное, что и этот отрывок подойдёт для книги и начал жалеть, что, разбирая, уничтожил другие, вроде бы ненужные, записи.
Разбирать архив – непростое занятие: хочешь не хочешь, – пропускаешь всё через себя. Каково же было делать это ему самому? Всколыхнулись и сразу обострились все переживания. Думаю, в это время он уже чувствовал себя неважно. А тут ещё и работа застопорилась. На книгу времени совсем не оставалось.
В 1969 году Тарасов продолжил писать роман. Возможно, это было начало или глава, предроман с символичным названием «Дверь», как он его назвал, который должен был предварять самый роман. Лев Михайлович говорил, что он должен был состоять и из прозы, и из отдельных поэм (таких, как «Художник», посвящённой его любимому Пикассо, и «Орфей», о поэзии и поэте) и других произведений, которые вплетались бы в повествование. Возможно, и «Минотавр», и «Мнемосина», да и все его произведения должны были как-то переплестись в нём. Всё его творчество – одна большая жизнь, единая книга. В каждый период жизни Тарасов возвращался к одним и тем же темам, на следующем жизненном витке всё более концентрируя свои мысли. У него был любимый образ – образ спирали, о котором он писал:
…Эти записки, собранные вместе, составляют нечто единое, превращаются в живую ткань повествования, потому что весь постепенный ход мысли представляет подобие спирали, и если живая жизнь – спираль развертывающаяся, то мысль – спираль скручивающаяся.
Жизненные явления принято рассматривать, как движение по развертывающейся спирали, с каждым разом они охватывают все более широкое пространство, а мастерство художника и поэта состоит в том, чтобы произведение представляло свертывающуюся спираль, в том и состоит отбор, направленность к единой цели.
Свои заметки и стихи Лев Михайлович Тарасов писал на ходу, -слишком много времени занимали работа и семья. До переезда на новую квартиру, в Ховрино, каждый день приносил с собой множество дел по дому, который пришёл в ветхость и где не было никаких удобств: ни воды, ни газа, ни отопления.
Но, если отодвинуты стихи
На задний план тревогами дневными,
Я заношу отдельные штрихи
В тетрадь с пометами очередными.
О несущественных, житейских мелочах,
О том, что слышу я в очередях,
И чем живёт обычный горожанин.
Писать я не могу, когда желанен
Покой. Ещё я вовсе не зачах
Над рукописной выжатой страницей.
Одни слова!.. А где великий смысл?
Лишь графики невыносимых числ
Проходят предо мною вереницей.
А мне бы быть ручьём…
1948 март 13
Интересна деловая переписка Л.М. Тарасова. Кроме авторов, к нему как к специалисту-искусствоведу и знатоку XIX века, обращались и работники музеев с вопросами. Работы всегда было много, и Льву Михайловичу хотелось от неё освободиться, он уставал и чувствовал несвободу. Но странное дело: после выхода на пенсию ему стало намного хуже, и он не смог уже воспользоваться этой свободой; возможно, она пришла слишком поздно. Редактируя одновременно по нескольку рукописей, много работая с книгами в библиотеках, переписываясь с многочисленными авторами относительно их требований к книге, им редактируемой, он жил интересной, наполненной жизнью. Из этой жизни он черпал свои стихи и свои знания. Несмотря на физическую усталость, часть этой работы он делал незаметно для себя, почти механически, т.к. был профессионалом в своём деле, а в голове тем временем шла собственная внутренняя работа, параллельно с внешней. В эти годы были написаны самые зрелые и наиболее значимые его стихи.
Каждый день Л.М. Тарасов что-нибудь писал для души и, обдумывая, рисовал. Приведу небольшой отрывок о рисовании.
XXX
Что же такое рисунок, как не потребность удержать на листе бумаги жизненные впечатления, например, плавную линию женской руки, в скромном, полузастенчивом движении поднятую на уровень лица, с отставленным мизинцем, поднесенном к губам?
Рисунок – это возможность при пытливом взгляде, одним движением очертить главные линии тела и мысленно воспроизвести их, благодаря безукоризненному знанию законов формы.
Никогда я не устану
Тело юное писать -
И хотя бы оно было
Плоское, как доска…
Рисунок прямое выражение мысли, поскольку несет в себе познание формы. Достаточно двух-трех деталей, чтобы вообразить по ним целое.
Когда поздним вечером
Я поджидаю подругу -
То пишу на фанере
Два плоских круга…
Вот почему: занимаясь рисованием, вы всегда можете представить себе любую фигуру, и, относя это к женской красоте, поневоле обратитесь к уничижительным словам: стать, интерьер, масть, за неимением в вашем словаре лучших. Поэты, будучи чуткими анималистами, неоднократно прибегали к подобным сравнениям. У Бодлера – женщине приданы кошачьи повадки. Возлюбленная у Бальмонта одновременно и лань и тигр… Есть и другие убедительные приемы…
XXXI
Если ты художник, тебе абсолютно ясно, что любая женщина представляет каркас, на который нанизаны различные прямоугольники, цилиндры и прочие подобия геометрических фигур. Когда ты видишь женщину и выбираешь ее из тысячи других для того, чтобы она тебе позировала, то, прежде всего, ты обнажаешь ее каркас.
Дальше этот каркас постепенно одевается мясом и знание анатомии позволяет воссоздать округлости, плоскости и все кривые плавные линии. Для тебя приходит чувство линии воссоздающей форму (мнимолепящее форму).
А затем ты мысленно призываешь живописное пятно, и тогда начинает выявляться суть.
Цвет придает осмысление – теплоту или холодность, выявляет душевные качества. Ты находишь нечто индивидуальное, неповторимое, оставляя за собой возможность дальнейшего разложения формы. Вполне понятно, что мужчина ищет воплощения тех сторон, которые волнуют его; он всегда преувеличивает в частностях.
XXXII
В трамвае я видел женщину, у которой были заячьи лапки, и она стучала ими по краю огромной желтой сумки. Я видел также мужчину, у которого вместо головы рос зеленый кочан капусты. Потупив глаза, я увидел много чувственных, извивающихся, ползающих губ, я увидел много разных оттенков глаз, на все готовых. На тротуаре я увидел много по-весеннему обнаженных ног. Я подумал, как трудно художнику, когда он видит разрозненные части, <а> живого материала так много перед ним, что у него постоянно остаются в запасе лишние глаза, носы, уши…
Два слова о том, как он читал свои стихи.
У Л.М. была своеобразная манера чтения. Держа в левой руке рукопись и балансируя на самом кончике стула, обязательно заложив ногу за ногу, даже как будто завинтившись вокруг одной из его ножек, он любовно поглядывал на своё детище и, неизменно волнуясь, даже перед знакомой аудиторией, захватив побольше воздуха, как будто погружался в воду, но тут же его правая рука с плотно прижатыми друг к другу плоскими, но длинными, отмороженными на войне красными пальцами начинала отбивать ритм еле заметными движениями. Это легчайшее прикосновение одними пальцами и выпевание голосом успокаивали его и завораживали слушавших. Слушать было приятно; это напоминало музыку и не утомляло. По окончании чтения он сам и все остальные как бы выходили из транса. Он смущенно улыбался и принимал поздравления.
С годами будущее обрастает прошлым.
И ракушки, налипшие ко дну
Ладьи, становятся тяжёлым грузом.
Дом, где родился Л. Тарасов
Труднее плыть… А сами взмахи вёсел
Всё неуверенней, когда не знаешь
Вперёд или назад плывёшь в тумане,
Что занавесил плотно берега
Холодной, непрозрачной тишиною.
И вот ты сознаёшь, что стал ничем,
Пронизан сыростью тумана. Брызги
Воды, колеблемые рядом тени,
Воспоминания, что чужды посторонним,
Уже не докучают, так и даты
Неразличимы: триста лет, пятьсот,
Тысячелетие – ничто для Мнемосины.
Остался с ней вдвоём. Отрадный миг!
Забыли прошлое, забыли будущее, рядом
Сложили даты, как пожитки, в узел…
В потоке времени, у призрачной черты,
Бездумно, безмятежно веселимся.
1971 декабрь
Юлия Минина (Тарасова)

Дом, где родился Л. Тарасов

Ольга Васильевна Сизова-Тарасова с сыном Львом в Москве перед отъездом в Архангельск

Архангельск. С родителями. 1913

Бабушка Л. Тарасова -П.М. Тарасова-Боголюбова. 1902

Отец, Михаил Иванович Тарасов. Последняя фотография. 1925

Лев Тарасов. 1929

Валентина Леонидовна Миндовская, жена Л. Тарасова

Л. Тарасов в ГТГ. 1935-1939

Лев Тарасов. До 1940


Л.М Тарасов и В.Л. Миндовская. Середина 1950-х

В кругу семьи. Измайлово. 1958

Л.М. Тарасов и В.Л. Миндовская в саду. Измайлово. Начало 1960-х

В редакции идательства «Искусство». Конец 1950-х

На Цветном бульваре возле редакции издательства «Искусство». 1960-е

В кабинете. Измайловский дом. 1967-1968

В мансарде. Измайловский дом

Автопортрет в шляпе. Черная тушь. 1940

Л.М. Тарасов. Рис. А.И. Паукова. 1940

Л.М. Тарасов. Рис. И. Пчелко. 1972

Л.М. Тарасов. Рис. Л.Ф. Жегина. 1957
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































