Текст книги "Тяжелый свет Куртейна (темный). Зеленый. Том 3"
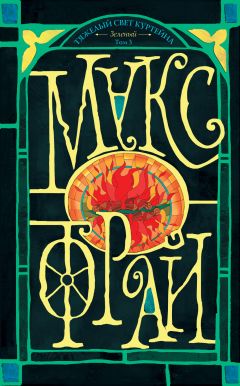
Автор книги: Макс Фрай
Жанр: Городское фэнтези, Фэнтези
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 29 (всего у книги 32 страниц)
Девятое море
зеленого цвета айсберга, цвета зелёной гавани, цвета духового оркестра, цвета кошачьих глаз
Я
декабрь 2020 года
Мы сидим на крыше, болтаем ногами (Нёхиси – двадцатью четырьмя, потому что болтать всего двумя для него – совершенно не то удовольствие) и слушаем, как пару часов назад всюду трезвонили колокола, то ли в честь второго воскресенья Адвента, то ли непорочного зачатия Девы Марии[37]37
То есть, дело происходит то ли 6, то ли 8 декабря.
[Закрыть], то ли просто потому что полночь пришла. В тот момент мы ещё околачивались у Тони и всё пропустили, но город знает, что мы большие любители колокольного звона, припрятал его для нас, как золочёный орех, а теперь улучил удачный момент и выдал подарок, приправив густым туманом, который в кои-то веки – просто туман, нормальное атмосферное явление, происходящее без моего участия; я после того, как вернулся, поначалу на радостях так часто превращался в туман, что самому надоело, поэтому временно завязал.
Мы сидим, болтаем ногами, слушаем колокола, и мне, как это часто бывает, когда мы вместе с Нёхиси, кажется, будто происходит нечто абсолютно для меня невозможное, и одновременно – что это, ну, просто нормально, так было и будет всегда.
– Зашибись, как всё странно, – наконец говорю я.
– За это и выпьем, – подхватывает Нёхиси; он бы сейчас на любую реплику так ответил, потому что у Тони проспал котом добрую половину веселья и явно не догулял.
Поскольку слова у Нёхиси никогда не расходятся с делом, он незамедлительно вручает мне бокал со смешным полосатым коктейлем и поднимает такой же свой. Не представляю, где он их взял зимней ночью на крыше… ай, ну да, это же Нёхиси. Естественно, он может всё; я, собственно, тоже довольно много могу. Просто я отвык от наших с ним почти беспредельных возможностей и от того, что Нёхиси – вот он, рядом, не воспоминание, не мечта. И не спешу привыкать, удивление делает счастье гораздо острее. А я жадный до счастья сейчас.
Пробую полосатый коктейль. Он несказанно дурацкий: какао, водка, ликёр из фиалок, клубничный компот, апероль, но мне почему-то нравится; впрочем, пока я сижу рядом с Нёхиси, мне предсказуемо нравится всё.
Повторяю:
– Как же, блин, странно!
Нёхиси ржёт:
– Восемьсот девяносто восемь!
– Восемьсот девяносто восемь – чего?
– Столько раз ты сказал, что всё странно.
– За сегодня? Серьёзно?!
– Нет, сегодня всего четырнадцать. Восемьсот девяносто восемь – это за всё время с того дня, когда ты пропал и вернулся.
– То есть в среднем примерно раз сорок в сутки? На самом деле, немного. Потому что всё действительно очень странно, совершенно невозможно привыкнуть, и трудно об этом молчать. И просто говорить – недостаточно. Мне орать постоянно хочется: «ААААААА, КАААК ВСЁ СТРАААААННОООО!» Нет, орать тоже не помогает. Огненными буквами в небе это надо писать.
– Ни в чём себе не отказывай, – улыбается Нёхиси. – Или ты, пока был человеком, разучился писать на небе? Сейчас!
В ночном небе, затянутом низкими сизыми зимними тучами, появляется огромная, полыхающая зелёным пламенем надпись: «Everything is strange!» – почему-то на английском языке.
– Ну так язык международного общения же, – не дожидаясь расспросов, объясняет Нёхиси. – Так всем будет понятно. Я, понимаешь, пекусь об интересах экспатов, потому что сам – тоже экспат. Ты смотрел, как я пишу? Понял, как это делается? Запомнил? Давай, повтори.
На самом деле, я не смотрел, а считал полоски в коктейле (их шесть). Но всё равно почему-то понял; ну, с колдовством, я это уже давно заметил, часто получается так: если оно происходит в твоём присутствии, информация о процессе каким-то образом сама в тебя встраивается. То есть учишься не столько ты, сколько действие – осуществляться через тебя.
Поэтому прежде, чем я успеваю задуматься, что и в какой последовательности надо сделать, на небе появляется новая надпись: «Wszystko keista»[38]38
Комбинация из польского «wszystko» («всё») и литовского «keista» («странно»).
[Закрыть], – а дальше почему-то кириллицей: «факин шит».
– Это ты хорошо придумал, – говорит Нёхиси. – И местным всё ясно, и экспатам радость. Отличная штука мультикультурализм!
Эдо
декабрь 2020 года
Это была очередная публичная лекция об искусстве Другой Стороны; он до сих пор их читал раз в неделю, хотя всякий раз накануне божился и клялся, что эта – последняя, потому что время, зараза такая, хоть ты застрелись, линейно, и невозможно втиснуть в него все дела. Надо расставить приоритеты, – говорил он себе. – Главное в жизни сейчас – горькое пьянство, в смысле, обмен мистическим опытом с непознаваемыми явлениями на Другой Стороне, весёлая стрёмная магия Чёрного Севера и прогулки по берегу Зыбкого моря, которое так охотно делится силой, что грех не просить ещё. Если ко всему этому прибавить студентов, которых, ну правда же, свинство бросать посреди учебного года, жизнь становится сложным квестом, где главная цель и награда – кровать, потому что никто не научил меня, бедочку, хитрым жреческим заклинаниям, позволяющим вовсе не спать.
Но он и сам понимал, что от такого удовольствия хрен откажется. Всегда любил выпендриваться на публике, а на лекциях всякий раз набивается полный зал. Выходишь на сцену, такой красивый, маловменяемый и совершенно неподготовленный, потому что всю ночь – ай, да чем бы ни занимался, ясно же, что не конспекты писал – голова от ужаса отключается, зато вместо неё чудесным образом включается нечто иное; короче, тебя несёт. Доброй половине своих удачных идей и точных формулировок он был обязан публичным лекциям. Фиг бы в тишине за рабочим столом до такого додумался, а тут выскакивает само.
В общем, это была обычная лекция; если оценивать вдохновение по той же шкале, что ветер, то примерно шесть баллов – качаются толстые сучья деревьев, гудят телеграфные провода. Он сперва рассказывал о Мюнхенском сецессионе[39]39
** Мюнхенский сецессион (нем. Münchener Secession) – объединение мюнхенских художников, в конце XIX века отделившихся от господствующей в то время Мюнхенской ассоциации художников. С создания Мюнхенского сецессиона началась история возникновения прогрессивных художественных групп, отвергавших консервативное официальное искусство, на территории Австрии и Германии.
[Закрыть], благодаря которому Мюнхен в начале двадцатого века стал одним из мировых центров авангарда, с этой темы вполне предсказуемо свернул на Пауля Клее[40]40
* Предсказуемо, потому что Пауль Клее был одним из основателей и скретарём объединения художников «Новый Мюнхенский Сецессион».
[Закрыть], потому что от его слов: «Художник говорит: в своей настоящей форме это не единственный возможный мир»[41]41
Здесь приводится цитата из лекции Пауля Клее, прочитанной им в Йенском Кунстферайне в 1924 году.
[Закрыть], – удобно перейти к разговору о подлинной, тайной, по понятным причинам, именно здесь, на изнанке реальности поддающейся осмыслению роли художников Другой Стороны.
Он уже вполне разошёлся и нормально так гнал, когда заметил, что рядом со сценой, во втором ряду на боковом приставном сидении для билетёров сидит Энди Уорхол, натурально как с парадного фото сошёл. Чёрная водолазка, белоснежные волосы дыбом, пылающий взор, прижимает к груди банку своего знаменитого томатного супа, чтобы не оставалось сомнений. А то вдруг ты, дурак, не поймёшь.
К счастью (или наоборот, к сожалению), на Этой Стороне Энди Уорхол вовсе не знаменитость. Эдо, который долгое время был практически единственным популяризатором искусства Другой Стороны и основным источником информации, не особо любил поп-арт, поэтому редко о нём вспоминал и мало показывал. Самые памятливые из его слушателей могли бы вспомнить, где видели суп, но это уж точно никого не смутило бы. Если кто-то ходит на лекции Эдо Ланга с копией банки знаменитого томатного супа – это, ну, просто мило. Примерно как сделать супрематический маникюр.
Короче, с точки зрения окружающих, Энди Уорхол выглядел вполне обычным умеренно эксцентричным любителем искусства Другой Стороны, каких тут полно. Поэтому к нему не ломанулись за автографами. И не содрогнулись, вспомнив, что он давным-давно мёртв. То есть узнал его только сам Эдо и растерялся до полной утраты нити повествования. С такими друзьями врагов не надо, – мрачно констатировал он.
Вдохнул, выдохнул, подумал с весёлой злостью: ай ладно, где наша не пропадала. И начал заново, с нуля, по ощущению – абсолютного. Словно в первый и последний раз выступал, поэтому надо сказать сразу всё самое важное. Другого шанса не будет. Вперёд.
Говорил, что некоторым людям Другой Стороны бывает доступна запредельная степень отчаяния, способная уничтожить если не все связи индивида с остальным человеческим миром, то, как минимум, желание их сохранить. И если надолго задержаться в этом состоянии, гибель почти неизбежна, потому что без связей с человеческим миром тело остро ощущает свою ненужность, а ум лишается привычных опор.
Говорил, сам изумляясь – боже, откуда я это знаю? но не выдумал, точно нет – что выживший, вернее, не сразу погибший получает шанс обнаружить, что именно в этой точке, на этом предельном градусе отчаяния он становится способен на удивительные вещи, иными словами, на магию, как бы это ни называлось на Другой Стороне. Понятно, почему это так: магия невозможна только в рамках общечеловеческих представлений, а тот, кто отказался от связей с человеческим миром, уже как бы не совсем человек. Суровый метод, но действенный. Срабатывает всегда.
Говорил, что именно поэтому лучшие из людей Другой Стороны так часто устремляются к саморазрушению, интуитивно чувствуя, что там, на самом дне, за последней чертой отчаяния и отверженности можно обрести подлинный смысл бытия; на самом деле, почти никому это не удаётся, потому что до последней черты, за которой смысл, ещё поди живым доберись. Станцию Смерть объявляют гораздо раньше. Но выходят там, к счастью, не все.
Говорил, что есть способ выжить, оказавшись за чертой отчаяния, и обрести там сокровища – впустить в себя радость, которая, когда разорваны связи с человеческим миром, приходит из совсем другого источника – настоящая безграничная вечная радость бессмертного существа. (В этом месте он растопырил пальцы, как бы неловко взмахнул рукой; в общем, начертил украдкой священный знак Радости, отворяющий Четвёртые Небеса. Думал, ощущая всем телом восхищённый трепет аудитории: на нас эта радость, конечно, и так проливается, но пусть сейчас все почувствуют непривычный избыток, чтобы точно поняли, о чём речь.)
Говорил, что любой человек – нас это тоже касается – по большому счёту, рождается ради того, чтобы наладить связь со своей тайной сутью, счастливой бессмертной частью себя. И вот здесь коренится роковая, фундаментальная разница между людьми Этой и Другой Стороны. Мы счастливчики, нам по умолчанию более-менее удаётся ощущать и поддерживать эту связь, просто в силу лёгкости нашей материи, яркости и интенсивности света, из которого мы состоим. А люди Другой Стороны – не по причине каких-то персональных несовершенств, а опять же, просто по милости свойств материи – теряют эту связь ещё в детстве, как правило, навсегда.
Говорил: я сам был человеком Другой Стороны и на собственном опыте знаю, что потеряв связь со своей тайной сутью, ты не становишься «хуже», глупей, подлей или злей. Ты становишься гораздо более смертным – вот это факт. Точнее, более мёртвым, при том что формально, биологически жив. Поэтому на Другой Стороне даже совсем небольшой шаг в сторону от общей человеческой участи – это побег от собственной смертности, от немощи, от нелепого морока, глупого кошмарного сна о том, как мы якобы не бессмертны, о том, как нас якобы почти нет.
Говорил, возвращаясь от общего к частному, что лучшие образцы искусства Другой Стороны всегда создаются на границе между беспредельным отчаянием и подлинной радостью. И обладают достаточной силой, чтобы привести на эту границу зрителя; понятно, не каждого, но даже одного – это много, плюс ещё одна бесконечность, плюс один новый немыслимый мир.
Говорил, что искусство Другой Стороны следует рассматривать как разновидность высокой магии – в той почти единственной форме, в какой она может там существовать. А основная задача высокой магии заключается в том, чтобы повернуть человека лицом к настоящей реальности, чтобы привычный окружающий мир снова стал тем, что он есть – сияющим клубком живых, вибрирующих и поющих нитей, соединяющих всё со всем. Эта встреча с реальностью и есть сама жизнь, и смысл её, и движущая сила, и вечный желанный итог.
Добравшись до какой-то для него самого неожиданной внутренней точки, на которой мгновенно закончились силы, мысли, слова, он не вышел, а вылетел пулей, потому что давно хотел закурить, а прямо в зале не принято; в общем, выскочил, не одевшись, через чёрный ход во внутренний двор. Стоял, прислонившись затылком к холодной стене, курил и думал насмешливо: ну я сегодня отжёг.
– Вы же нарочно мне про меня рассказали? – спросил Энди Уорхол. – Чтобы неповадно было мешать вам работать? Месть удалась. Вы чудовище. Но я всё равно вашу куртку принёс.
Эдо не заметил, как он появился; с другой стороны, он же всё-таки мистическое явление, витает, где хочет, какой с него спрос.
Накинул куртку, пожал плечами:
– Фиг знает, может быть и нарочно. Процесс не то чтобы контролируемый. Открываешь рот и сам с интересом слушаешь, куда сегодня тебя занесёт.
– Я обычно в чужих сновидениях так выступаю, – улыбнулся тот. – Сам потом удивляюсь, какой я бываю умный. Или наоборот. Но это только когда сознательно снюсь, понимая, что делаю. А когда неосознанно, хрен знает что вытворяю, по отзывам. Но подозреваю, это вообще не я, а просто зрительный образ. Сознание сновидца упаковывает какую-то левую информацию в свои представления обо мне… Но сейчас, если что, я не снюсь. И вы мне не снитесь. Я очень ответственно к вам пришёл наяву.
– А почему именно Энди Уорхол? – наконец спросил Эдо. – Я бы на вашем месте в Бойса переоделся. И, размахивая мёртвым зайцем, пришёл.
– Ну слушайте. Не вконец же я охренел. Должно быть хоть что-то святое. Всему есть предел!
Переглянулись и рассмеялись. Эдо сказал:
– Я вообще-то был совершенно уверен, что вы на Эту Сторону никогда не приходите. Ну, как Стефан и Нёхиси, которых здесь не носит земля.
– Меня, сами видите, отлично носит. И просит добавки. Я же мелочь пузатая. Только выделываюсь, как большой.
– Мелочь пузатая, – восхищённо повторил Эдо. – Вы – пузатая мелочь! Ладно, учту, хорошо.
– Ну, я правда пока не тех масштабов событие, чтобы целой реальности от меня дурно сделалось. Вы докурили? Идём.
Эдо не стал расспрашивать, куда и зачем. Хотел бы, сказал бы, нет – да и ладно, чёрт с ним. Ясно же, что есть приглашения, от которых в здравом уме не отказываются, и это одно из них.
– Об одном жалею, – сказал он, с усилием отлепив себя от стены. – Что у меня не назначена встреча с кем-то, кто в теме. Кому можно было бы написать: «Извини, ничего не получится, за мной Энди Уорхол пришёл».
Энди Уорхол потащил его на трамвайную остановку, сели в первый приехавший, им оказался восьмой. Стояли на задней площадке, уткнувшись носами в стекло, смотрели, как стремительно сгущаются ранние зимние сумерки и загораются окна в домах.
Иоганн-Георг вдруг сказал:
– Как я много лет был зол на вашу распрекрасную Эту Сторону, не представляете. Хорошо, что я пока действительно мелкая штучка, и от моей злости вреда ей не больше, чем от моей любви.
– Злились на Эту Сторону? – удивился Эдо. – Был уверен, она вполне в вашем вкусе. Хорошо же живём.
– Ещё бы! Мало что в мире до такой степени в моём вкусе. Но я долго считал Эту Сторону практически своим личным врагом.
– Чем она вам не угодила?
– Тем, что наши люди здесь превращаются в незваные тени и исчезают, словно их никогда не было, ни воспоминаний о них не остаётся, ни хоть каких-то следов. Это какой же надо быть гадиной, чтобы губить самых лучших, тех, кто оказался способен сделать шаг в неизвестность и попасть на изнанку реальности – так я тогда рассуждал. Сердился ужасно, пока до меня не дошло, что это она не нарочно. Как и наша реальность не нарочно отнимает память у вас. Нет никакого злодейского намерения, просто – ну, мир так устроен. Весь, целиком. Зачем-то ему это надо; мне уже даже примерно понятно, зачем. Если смотреть объективно, со стороны, это очень красиво. Ну, как драма Шекспира, где все герои, бедняжечки, умерли, а зрителю было интересно и хорошо. В том числе, потому, что зритель знает, что пьеса – просто игра, после спектакля актёры смывают фальшивую кровь, пьют вино, обнимают подружек и расходятся по домам. Есть жизнь после пьесы! И для наших исчезнувших – тоже. Растаять незваной тенью – просто способ попасть куда-то ещё. В такие края, куда иначе, пожалуй, не доберёшься. А растаяв от изменения свойств материи – легко.
Бинго! – заорал Эдо голосом Сайруса. Но согласно персональному своду правил поведения одержимых в общественном транспорте, он орал не вслух, а мысленно, про себя.
Но Энди Уорхол этот торжествующий внутренний вопль, похоже, услышал. Улыбнулся, кивнул, сказал:
– Когда я был вконец отчаявшимся человеком, уверенным, что это и есть моя единственная судьба, придумал себе утешительную телегу, будто игра воображения и несбыточные мечты – главное дело человеческой жизни. Что мы свой будущий рай себе сочиняем, пока живём на земле. Не факт, что непременно получится, но если в тебе много силы и страсти, есть шанс. Телега, конечно, трындец наивная. Даже немного стыдно было сейчас её вам пересказывать.
– Ничего, – усмехнулся Эдо. – Мне один мёртвый жрец с устойчивой репутацией выдающегося светила науки примерно то же самое несколько раз прогонял.
– А Нёхиси в ответ на мои догадки такую рожу удивлённую скорчил: ты чего, только теперь понял, для чего нужны ваши здешние люди, и как создаются новые обитаемые миры? Прости, я думал, это общеизвестно, а то бы давным-давно тебе рассказал.
– «Общеизвестно»! – с чувством повторил Эдо. – «Общеизвестно»! Нет слов.
– В общем, – заключил Энди Уорхол, – сила, которая движет Вселенной, не то чтобы шибко добра, зато и не зла. Она вообще про другое. Не про добро, или зло, не про блаженство и муку, даже не про жизнь и смерть. Она, блин – ну, просто художник. Всегда хочет нового – красивого, интересного, необычного, такого, чего раньше не было. Больше, ещё! И чтобы попасть в соавторы, не обязательно обладать всемогуществом, иметь призвание, как у вас и у Стефана, или волю вроде моей. Воображения и страсти достаточно. А это такая штука – не то чтобы по умолчанию есть у каждого, но в принципе, если душа живая, можно из собственной тьмы добыть… Так, вы меня заболтали! – внезапно воскликнул он, увлекая Эдо за собой к выходу. – Чуть не проехали свою остановку. Вот я был бы хорош!
Эдо даже не успел возмутиться: «Это кто кого заболтал?!» То есть на самом деле успел, но потом, уже не в трамвае, и не на Тенистой улице, по которой они проезжали, а на берегу речки Вильняле, под пешеходным мостом.
– Вы так классно слушали, что я заболтался, – отмахнулся Иоганн-Георг, который почему-то больше не был похож на Уорхола, и Эдо не мог понять, жаль ему этого представления или наоборот, хорошо. – Сами знаете, чем внимательней аудитория, тем круче несёт; короче, вы во всём виноваты, и точка, я так решил. Ладно, на самом деле нормально вышли. Тут берег сейчас затоплен, но ничего, пройдём.
И действительно как-то – то ли чудом, то ли просто руководствуясь сноровкой и опытом бывалого местного жителя, провёл его в темноте по почти несуществующей тропе между водой и отвесным склоном до места, где берег становится пологим, и легко взобраться наверх, к велосипедным дорожкам и новеньким, похожим на дорогие игрушки великанских детей домам.
Сказал:
– Смешная штука эти ваши трамваи, которые постоянно заносит к нам. Думаю, может, это потому, что город Вильнюс всегда страстно хотел иметь свой трамвай? Дважды заводил себе эту игрушку, но с конкой покончила Первая мировая[42]42
* Конка (трамвай на конной тяге) действовала в Вильнюсе в 1893–1916 годах, то есть до оккупации города германскими войсками. Было три линии: от вокзала до Зеленого моста, Жверинас – Ужупис и Кафедральная площадь – Антоколь.
[Закрыть], а пигутка[43]43
В 1924 году в Вильнюсе была предпринята попытка восстановить трамвай. Вильнюсский инженер Пигутковский оборудовал вагоны конки бензиновыми моторами. Новый трамвай по фамилии инженера окрестили «пигуткой». Но «пигутка» ходила недолго: старые моторы постоянно ломались, вагоны загорались, а новые покупать никто не хотел. В 1926 г. городские власти приняли решение прекратить работу трамвая и разобрать линии, а вагоны продать жителям города, которые использовали их потом как склады или овины для скота и домашних птиц.
[Закрыть] всего пару лет протянула; у неё оказалась такая плохая судьба, словно бедняга в прошлой жизни была исчадием ада и ни одной старушки через дорогу не перевела. Получается, у ваших трамваев на Другой Стороне есть мёртвые двойники, поэтому их так мотает. Уверен, дело именно в этом, – заключил он.
– Господи, как же это всё интересно! – вздохнул Эдо. – И, что ужасно обидно, хоть тысячу лет проживи на свете, всего не узнаешь и не поймёшь.
Тысячу! Ишь размечтался, – насмешливо подумал он голосом Сайруса. – Даже мне понадобилось четыре, чтобы начать понемногу, очень смутно и приблизительно кое-что важное понимать.
Тем временем они вернулись к мосту, перешли на другой берег и стали подниматься по лестнице к улице Полоцко и нарядным новым домам. Но на середине пути Иоганн-Георг потащил его с лестницы в заросли, за которыми оказался забор, а в заборе – выломанная доска. Кое-как в эту щель протиснулись и оказались на Бернардинском кладбище, оно же по совместительству – самый красивый в городе парк, даже безлунной ночью. А может, особенно ночью в бесснежном сыром декабре.
– Интересный у нас маршрут, – сказал Эдо. – Только не говорите, что в городе намечается восстание живых мертвецов.
– Поздно спохватились, оно ещё весной началось, причём во всём мире сразу, – ухмыльнулся тот. – Ничего, разберёмся, чёрт с ними. На самом деле, я вас просто в гости веду.
Эдо охренел от такого признания, но вслух невозмутимо сказал:
– Умеете вы устроиться. У вас тут фамильный склеп?
– У меня тут фамильные дырки в заборах. Много. Можно сказать, коллекция. Люблю этой дорогой ходить.
Они пересекли кладбище, вылезли с его территории через очередную прореху в ограде и оказались на улице Жвиргждино, с виду совершенно деревенской – частный сектор, огороды, сады.
– Отличное место, – заметил Эдо. – Всегда хотел тут поселиться, да никто ничего не сдаёт.
– Да, зачётное, – кивнул Иоганн-Георг. – Мне повезло. Вообще-то мой дом изначально стоял на другом берегу Вильняле, возле самой реки, примерно там, где мы с вами выскочили из трамвая. Но потом перебрался сюда. Причём я для этого пальцем о палец не ударил, дом сам так решил. Он иногда бродит с места на место, но всегда сюда возвращается. И правильно делает. Здесь хорошо… Так, теперь стойте. Подождите меня буквально минуту. Дом при вас не показывается. Думает, вы чужой.
– Причём с большой буквы. И против Хищника, – подхватил Эдо, но не договорив, обнаружил, что зря старается, он уже был один.
Стоял, оглядывался по сторонам, смотрел на освещённые окна ближайших домов. Думал: интересно, как им живётся с таким соседом? Понятно, что никто ни о чём таком не догадывается, но всё равно, по идее, должны себя странно чувствовать. Или нет?
За спиной скрипнула калитка. Эдо не успел обернуться, а его уже втащили во двор – за капюшон, как кота за шкирку. Это было немного обидно; ну, правда, зато и смешно.
– Извините за бытовое насилие, – церемонно сказал Иоганн-Георг. – Это не ради моего удовольствия, а просто техника входа. Дом с вами пока не знаком. – И добавил, обращаясь уже явно не к Эдо. – Это друг, ему можно здесь всё видеть и слышать. И даже без меня приходить.
То ли благодаря успешному исходу переговоров, то ли просто потому, что глаза наконец привыкли к темноте, Эдо наконец разглядел, куда попал. Крошечный по-зимнему голый сад, двухэтажный деревянный дом, то ли потемневший от времени, то ли просто покрашенный тёмной краской, без света не разобрать.
– С ума сойти, – вздохнул он. – Вот вроде бы знаю, что вы живой человек… изредка, под настроение, если звёзды так встанут, а Ктулху во сне позовёт маму и перевернётся на другой бок. Но почему-то в голову не приходило, что вы живёте в нормальном человеческом доме. Хотя это – ну, просто логично. Всем надо иногда отдыхать.
– Ну, справедливости ради, этот дом примерно такой же нормальный, как я сам, – улыбнулся Иоганн-Георг. – Трудно быть моим домом, но он как-то справляется. Скачет с места на место, от чужих глаз скрывается, с годами совсем заколдованный стал. А когда-то он мне достался в наследство от деда. Отличный у меня был дед. И дом у него оказался такой же. Когда дед умер, мне едва исполнилось восемнадцать, только-только школу закончил, и вдруг – бабах! – собственный дом! Родители были в ужасе, что я собираюсь поселиться один, но я, конечно, не стал их слушать, настоял на своём. Дед знал, что делал, если бы не это убежище, хрен я сейчас был бы жив. Этот дом меня правда берёг, как ни один человек не уберёг бы; ну, я людям себя беречь и не дал бы. Я для этого был слишком вредный и гордый. С табличкой «Не влезайте, убьёт».
– Могу представить.
– Слава богу, не можете, – ухмыльнулся тот. – Вы со мной очень вовремя познакомились. Двадцать лет приятной демонической жизни какой угодно характер исправят. Теперь я – добродушный тюфяк.
Эдо не стал говорить, что он думает по этому поводу. Грех мистическое явление наивных иллюзий лишать.
– Я вас не просто так сюда притащил и с домом знакомлю, – сказал Иоганн-Георг. – Я собираюсь дать вам взятку.
– Что?! – Эдо ушам своим не поверил.
– Что слышали. Взятку. Идём.
Распахнул дверь, щёлкнул выключателем. Эдо невольно подумал: как же грамотно выставлен свет! И лампы такого качества не в каждой галерее увидишь. Здесь таких, кажется, вообще нигде нет.
Он не сразу заметил несколько стопок подрамников с натянутыми холстами на стеллаже у дальней стены. И с ещё большим опозданием сообразил, что вряд ли это просто чистые загрунтованные холсты. Стоял и таращился на них, как, к примеру, Иаков на лестницу[44]44
Речь о библейском эпизоде, когда Иаков видит во сне лестницу, соединяющую землю и небо.
[Закрыть], не решаясь ни подойти посмотреть, ни даже спросить.
– Я пока кофе сварю, – сказал Иоганн-Георг. – Мне срочно надо, а то уже едва жив. Я после всей этой мутной кутерьмы в не пойми каких измерениях до сих пор устаю от любой ерунды. А вы ни в чём себе не отказывайте. В смысле, смотрите картины. Вам же хочется. Это и есть та самая взятка, о которой я вам говорил.
– Хренассе, – сказал Эдо, достав со стеллажа первый холст. А потом он умолк надолго. Потому что до сих пор не выучил старый жреческий, а в других языках совершенно точно не было нужных слов.
Наконец сказал:
– Значит, картины, которые неизвестно откуда появились у Кары, ваши.
– Ага, – подтвердил тот, разливая кофе по кружкам. – Но те совсем старые. Которые я сжигал.
– Убивать за такое, – твёрдо сказал Эдо.
– Ну, в общем, не помешало бы, – легко согласился Иоганн-Георг. – Хотя я сжигал их не ради собственного удовольствия. Не потому что мне нравится уничтожать. А честно приносил в жертву запредельному неизвестно чему самое ценное, что у меня в жизни было, с одной-единственной просьбой: пусть станет как-нибудь странно, лишь бы не так, как сейчас. И сами видите, отлично всё у меня получилось. А теперь ещё и картины понемногу начали возвращаться, и это отдельно смешно. Получается, я тогда приносил их в жертву не каким-то абстрактным неведомым силам, а Граничной Полиции. Причём даже не местному отделению, а командированному специалисту с Этой Стороны.
– Всё равно убивать, – повторил Эдо. И, спохватившись, добавил: – Не берите в голову, у меня просто шарманку заело. Все слова из головы повылетали. Сами, собственно, меня довели.
– Да, – оживился тот. – Это моя сверхспособность. Кого угодно доведу до цугундера. Но справедливости ради, этот метод я всю жизнь отрабатывал на себе.
– Не сомневаюсь, – вздохнул Эдо. И снова надолго умолк.
– Бросайте это дело, – наконец сказал Иоганн-Георг. – Пейте кофе, пока не остыл и не превратился в помои. Хватит с вас на сегодня. Насмотритесь ещё потом.
– А, – встрепенулся Эдо. – То есть будет «потом». В печку вы это всё не отправите.
– Да бог с вами. В жизни печку картинами не топил. Я нормальный язычник. Разводил, как положено, красивые жертвенные костры. А теперь и костров не надо. Хорошая, лёгкая стала жизнь. Хочешь принести жертву неизвестно чему запредельному, просто зовёшь его в гости и отдаёшь, чего собирался. Короче, вы ещё не забыли про взятку? Я решил всё это добро вам отдать.
– Отдать?! – переспросил Эдо. – Вы серьёзно? Нет, погодите. Я, наверное, вас неправильно понял. «Отдать» – это же просто метафора? Вы имели в виду, отдать в том смысле, в каком художник всегда отдаёт зрителю? В смысле, показать?
– Да как вам самому больше нравится. Хотите, приходите, смотрите. Но лучше всё-таки забирайте себе. Работы, по-хорошему, надо показывать, а не в заколдованном доме мариновать. Картинам, нарисованным в неосуществившейся вероятности, строго говоря, никогда и нигде, самое место на изнанке реальности. И руки у вас хорошие для такого лукошка с котятами. Идеальный баланс. А там хоть по стенам развешивайте, хоть друзьям раздаривайте, хоть продавайте за страшные миллионы, я заранее за. На то и жертва, чтобы отдать и не париться. Тем более, когда жертва – взятка. А это, не забывайте, она.
– А за что взятка-то? – спохватился Эдо. – Какое должностное преступление я должен для вас совершить?
– Да вряд ли именно преступление, – неуверенно сказал Иоганн-Георг. – Скорее, просто грех на душу взять… А кстати, никогда не задумывался, у вас вообще есть такое понятие – «грех»?
– Да есть, конечно, – невольно улыбнулся Эдо. – Но только как культурологический термин. «Грех» считается одним из самых сложных для понимания принципов, заложенных в основу культуры Другой Стороны.
– Тем лучше. Значит, вы разгласите мне сакральную тайну и вам за это не будет ни черта.
– Не будет, – подтвердил Эдо. – Максимум, Ханна-Лора могла бы устроить скандал, но я ни одной её сакральной тайны не знаю. Наоборот, пару своих однажды ей разболтал.
– Вот и мне разболтайте! – энергично кивнул Иоганн-Георг. – Собственно, только одну. Вот этот приём, которым вы в последнее время какую-то нехарактерную для наших мест радость не пойми откуда протаскиваете. И сегодня на лекции его провернули тайком.
– Но зачем вам? – опешил Эдо. – В вас самом этой радости столько, сколько мне и за год не добыть.
– Добавка никогда не лишняя, – рассмеялся тот. – Я вообще куркуль, если вы до сих пор не заметили. Жадина. И очень хозяйственный. Всё в дом!
Встал, налил в джезву воду, поставил её на плиту, аккуратно отмерил кофе. Наконец сказал:
– Я, как несложно заметить, все свои имена и прозвища пока оставил. Не стал их ритуально сжигать. А из этого следует, что время от времени я становлюсь человеком. Обычным, в смысле, без сверхспособностей, демонического задора и прочих приятных бонусов. Вы меня в таком состоянии видели пару раз. Раньше это был самый лютый ужас, какой только можно представить. Всё что угодно, только не это, лучше сразу пристрелите меня! А потом – ну, я вам немножко рассказывал, когда вы меня на набережной нашли – мне пришлось двадцать четыре года прожить в таком состоянии. Как вспомню, так вздрогну – это с одной стороны. А с другой, отличный из меня человек получается. Ну, объективно. Такой несгибаемый стойкий чувак и художник – вообще зашибись. Он мне нравится; то есть, получается, я себе нравлюсь. Круто таким человеком быть. Короче, имена я пока оставил, а там поглядим, как пойдёт. Но тупо было бы, добровольно приняв такое решение, всякий раз, проснувшись в человеческой шкуре, сидеть и страдать, словно это приступ тяжёлой болезни, который однажды, если прежде не сдохнешь, пройдёт. И я подумал, надо этого человека к нормальному делу приставить. Пусть в состоянии слабости не на стены кидается, а занимается магией. Может, до себя-демона когда-нибудь дорастёт. Ну и реальности польза. А ей сейчас как раз нужны витамины. Сколько ни дай, непременно окажется, что надо ещё.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































