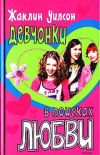Текст книги "Нагие и мёртвые"

Автор книги: Норман Мейлер
Жанр: Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 37 (всего у книги 48 страниц)
– Ну ладно, хватит, – сказал он. – Если драться, то уж во всяком случае не с сержантами. – Во взгляде Крофта сверкнула злоба. На какой-то момент Хирн ощутил ту ярость, которая заставила Крофта убить птицу. Не отводя взгляда от глаз Крофта, Хирн продолжал: – Ты не прав, сержант. Извинись перед Ротом.
Кто-то тихо ахнул.
Крофт с удивлением посмотрел на Хирна и несколько раз глубоко вздохнул.
– Ну-ну, сержант, извинись.
Если бы в руках Крофта была винтовка, он мог бы мгновенно пристрелить Хирна. Это произошло бы автоматически. Но не повиноваться преднамеренно, после размышлений, было иным делом. Он понимал, что должен уступить. Если бы он этого не сделал, взвод перестал бы существовать как единое целое. Два года он сколачивал это подразделение, два года его приказы неукоснительно выполнялись, и один случай мог разрушить все. А для него это было делом чести. Не глядя на Хирна, он подошел к Роту и мгновение смотрел на него. «Извини», – непривычное слово слетело у него с языка со свинцовой тяжестью. У него было такое ощущение, будто по всему телу ползли насекомые.
– Все в порядке. Дело улажено, – сказал Хирн.
Он понял, как рассердил Крофта, и даже обрадовался. Однако сразу же подумал, что, видимо, и Каммингс испытывал такое же чувство, когда он, Хирн, повиновался приказу подобрать окурок, и это расстроило его.
– Всем, кроме караульных, подойти сюда! – крикнул он. Солдаты поспешили к нему. – Мы решили отправить с Уилсоном сержанта Брауна, капрала Стэнли, Гольдстейна и Риджеса. Будут ли какие-либо изменения, сержант?
Крофт уставился на Реда. Было бы лучше отделаться от него сейчас, но он не мог так поступить. Чисто случайно два других человека, выступивших против него, также назначались носильщиками. Если бы он отправил Реда, то солдаты подумали бы, что он боится его.
Ото была новая ситуация для Крофта, настолько противоречившая его образу мыслей в прошлом, что он смутился. Он знал только, что кто-то должен заплатить за его унижение.
– Нет, изменении не будет, – выдавил из себя Крофт и сам удивился, как трудно ему было произнести эти слова.
– Тогда вы можете отправляться сейчас же, – сказал Хирн. – А остальные... – Он замолчал. «Что делать дальше?» – Мы переночуем здесь. Думаю, что отдохнуть не мешает. Завтра мы найдем путь через перевал.
– Лейтенант, – обратился к Хирну Браун, – разрешите взять с собой еще четырех человек часа на полтора. Тогда мы сможем пройти большее расстояние и завтра уже будем далеко от японцев.
Хирн задумался.
– Хорошо. Но они должны вернуться к ночи. – Он огляделся и без всякого размышления назначил Полака, Минетту, Галлахера и Ваймана. – Остальные будут по очереди нести караульную службу, пока они не вернутся.
Хирн отвел Брауна в сторону и разговаривал с ним несколько минут.
– Ты знаешь дорогу к тропе, которую мы проложили через джунгли?
Браун кивнул.
– Хорошо Идите по ней к берегу и дожидайтесь нас там. Вам потребуется примерно два дня или чуть больше. Мы должны вернуться через три, максимум через четыре дня. Если катер придет раньше нас и Уилсон... еще будет живой, сразу же отправляйтесь, а за нами пусть пришлют другой катер.
– Слушаюсь, сэр.
Браун собрал назначенных солдат, они уложили Уилсона на носилки и тронулись в путь. В расщелине осталось только пять человек: лейтенант, Крофт, Ред, Рот и Мартинес.
К наступлению темноты с Уилсоном остались Браун, Стэнли, Риджес и Гольдстейн. Дополнительно выделенные солдаты за час до наступления темноты отправились обратно. Пройдя еще около полумили, Браун решил остановиться на ночевку. Они расположились в небольшой рощице в седловине между двумя небольшими холмами. Расстелив одеяла вокруг Уилсона, они легли на них и тихо разговаривали. Настала ночь, в лесу было очень темно. Прохладный ночной ветер шуршал листвой деревьев, предвещая дождь. Солдаты мечтательно вспоминали о летних вечерах, когда они сидели на крыльце своего дома и смотрели, как собираются дождевые тучи; тогда они чувствовали себя спокойно, потому что имели крышу над головой.
Эти воспоминания вызвали целый поток других – о лете, о звуках танцевальной музыки по субботним вечерам. Они размышляли о вещах, которые им не приходили на ум уже долгие месяцы: о прелести прогулок в автомобиле по загородным дорогам, когда свет фар образует золотые цилиндры в гуще листвы, о нежности и страстности любви в такие тихие ночи. От этих мыслей им захотелось поплотнее укутаться в одеяла.
Уилсон снова стал потихоньку приходить в сознание. В перерывах между приступами боли он стонал и бормотал что-то бессвязное. Рана в животе вызывала острую боль, и он предпринимал слабые попытки подтянуть колени к груди. Ему казалось, что кто-то связал ему ноги у щиколоток, и он изо всех сил старался проснуться. Лицо его было покрыто потом.
– Ноги, ноги! Отпустите мои ноги, черт возьми! – простонал он и громко выругался.
Его товарищи выбрались из-под одеял и подошли к нему. Браун наклонился и приложил влажный носовой платок к губам раненого.
– Успокойся, Уилсон, – сказал он мягко. – Ты должен молчать, а то японцы услышат.
– Ноги, черт возьми! – снова простонал Уилсон.
Крики подорвали его силы, сознание опять помутилось. Он почувствовал, что у него снова открылось кровотечение, и в голове замелькали мысли, связанные с этим. Представления были неясные – он не мог понять, то ли плывет, то ли напустил в штаны. «Напустил», – пробормотал он, ожидая, как его шлепнут. «Ах, Уилсон, Уилсон, что же это ты такой неряха», – донесся до него женский голос. «О, мама, я это сделал нечаянно». Он кричал, умолял кого-то, ворочаясь на носилках, как будто старался увернуться от удара.
– Уилсон, ты должен успокоиться, – Браун гладил ему виски. – Успокойся. Мы о тебе позаботимся.
– Да... Да. – Уилсон попытался сплюнуть кровь и лежал без движения, чувствуя, как она засыхает у него на подбородке. Дождь идет? – спросил он громко.
– Нет. Послушай, дружище, ты должен вести себя спокойно. Ведь японцы близко.
– Ага.
Слова Брауна вывели его из оцепенения и испугали. Ему показалось, что он снова лежит в высокой траве, ожидая со страхом, что его найдут японцы. Он начал тихо причитать, не отдавая себе в этом отчета. «Я должен держаться», – пробормотал он, чувствуя, как кровь сочится из раны, образуя около него лужицу. «Я умру».
– Уилсон, ты должен успокоиться. Замолчи.
Страх стал пропадать, перешел в неясное беспокойство, снимаемое поглаживанием руки Брауна. На этот раз Уилсон ясно прошептал:
– Одного я не пойму. Двое ложатся в постель, а просыпаются втроем, двое в постели, а потом трое. – Он повторял эти слова как припев. – Я должен держаться. Если тебя оперировали и у тебя получилась рана, нельзя засыпать. Отец заснул и не проснулся больше. – Ему показалось, что он услышал голос своей дочери: «Папа лег спать, а проснулся мертвым». – Нет! – крикнул Уилсон. – Откуда ты это взяла, Мэй?
– У тебя прелестная девочка, – сказал Браун. – Ее зовут Мэй?
Уилсон услышал его, память его заработала.
– Кто это?
– Это я, Браун... Как выглядит Мэй?
– Она очень шаловливая девчушка, – сказал Уилсон. – Умнейший ребенок, ты никогда такого не видел. – Он почувствовал, что улыбается. – Ей ничего не стоит выучить все, что захочет. Просто сорванец.
Боль в животе снова обострилась. Он лежал, тяжело дыша, ощущая тяжелейшие схватки, как бывает у рожениц.
– О-ох! – простонал он громко.
– А еще у тебя есть дети? – быстро спросил Браун. Он нежно поглаживал лоб Уилсона, успокаивая его, как ребенка.
Но Уилсон не слышал вопроса, он не чувствовал ничего, кроме боли. Браун продолжал гладить его лоб. В темноте лицо Уилсона казалось Брауну соединенным с ним, было как бы продолжением его, Брауна, пальцев. Стоны раненого, вызванные болями, пугали сержанта, наводили на мысль о возможном появлении патрулей противника. Он вздрагивал от каждого шороха или неожиданного звука и испытывал страх и ужас. Нервы его были напряжены до предела. Каждое подергивание, каждое болезненное вздрагивание тела Уилсона немедленно передавалось Брауну, проникая в душу и сердце. Непроизвольно он вздрагивал каждый раз, когда вздрагивал Уилсон.
– Спокойнее, дружище, спокойнее, – шептал он.
В сознании Брауна промелькнули испытанные в жизни потери, страсти и устремления, неосуществленные надежды и мечты. Слова Уилсона о ребенке пробудили в Брауне давние желания. Может быть, впервые после того, как он женился, Браун подумал о том, что хорошо бы быть отцом. Нежность, которую он сейчас испытывал к Уилсону, не имела ничего общего с той снисходительностью, которую он проявлял к нему в обычное время. В этот момент Уилсон не был для него реальностью. Он существовал сейчас как мечта Брауна. Он был ребенком Брауна и в то же время сконцентрированным выражением его бед и разочарований. На несколько минут он стал для Брауна важнее любого человека.
Но это ощущение быстро прошло. Браун как бы проснулся среди ночи, беспомощный, лишенный энергии, которую израсходовал его мозг во сне. Браун начал раздумывать над тем, как трудно будет нести Уилсона. Он все еще чувствовал себя уставшим и разбитым после двух дней марша со взводом. А холмы на обратном пути к берегу потребуют много сил, так как выделенные Крофтом солдаты вернулись назад. Он ясно представил себе марш в течение следующего дня. Их осталось четверо, и носилки придется нести без смены. Уже через четверть часа утром они смертельно устанут, будут еле волочить ноги, и им придется поминутно отдыхать. Уилсон весил около двухсот фунтов, а если учесть вес вещевых мешков, прикрепленных к носилкам, то всего получится около трехсот фунтов. По семьдесят пять фунтов на человека. Браун покачал головой. По опыту он знал, как усталость подрывает его волю и лишает способности мыслить.
Он являлся командиром группы и был обязан довести ее до цели, но не чувствовал в себе уверенности.
В результате всех этих переживаний – сочувствия Уилсопу, желания стать отцом и вновь охватившего его отчаяния – он почувствовал необходимость быть честным перед самим собой, хотя бы на минуту. Он признался себе, что хотел, чтобы его назначили командиром этой группы, потому что боялся идти дальше со взводом. Поэтому он должен справиться с заданием. «Сержант ничего не стоит, если потеряет волю, если допустит, чтобы это заметили другие», – думал Браун. Но дело было не только в этом. Он мог бы кое-как протянуть предстоящие месяцы, возможно даже годы. Фактически они были в боях лишь незначительное время, ничего за это время не произошло; его страх могли и не заметить, никто бы из-за этого не пострадал. Если бы он хорошо выполнял все другие обязанности, все было бы в порядке.
«После вторжения на Моутэми я был на гораздо лучшем счету, чем Мартинес», – подумал он.
Браун смутно понимал, что боится потерять волю полностью, что не справится с обязанностями даже вне боевой обстановки. «Нужно взять себя в руки, – подумал он, – иначе потеряю свои нашивки».
На какой-то момент ему захотелось этого. Ему показалось, что жизнь станет значительно проще, если не будет хлопот и обязанностей. Ему не нравилось наблюдать за работой солдат отделения, обеспечивать хорошее выполнение задания. Он стал ощущать все большее напряжение, когда какой-нибудь офицер или Крофт проверял работу его отделения.
Но он знал, что никогда не сможет отказаться от сержантского звания. «Я – один из десяти, – размышлял он. – Меня выбрали потому, что я лучше остальных». Это была его защита от всего, от его собственных сомнений, от измены его жены. От сержантского звания он отказаться не мог. И все же его часто мучило внутреннее чувство вины. Если он недостаточно хорош, его следует прогнать, но он старался скрыть это. «Я должен доставить Уилсона», – поклялся он себе. К нему снова вернулось какое-то чувство жалости к Уилсону. «Сам он ничего не может сделать, зависит во всем от меня, и я должен справиться с заданием». Все было ясно.
Он снова начал гладить Уилсона по лбу, глядя куда-то в темноту.
Гольдстейн и Стэнли разговаривали между собой; Браун повернулся к ним.
– Потише. А то он снова очнется.
– Ладно, – мягко согласился Стэнли. В его голосе не было и тени упрека. Он и Гольдстейн, спаенные окружавшей их темнотой ночи, оживленно разговаривали о своих детях.
– Ты знаешь, – продолжал Стэнли, – мы не видим их в самое интересное время. Они растут, учатся понимать что-то, а нас рядом нет.
– Да, это плохо, – согласился Голъдстейн. – Когда я уехал, Дэви едва лепетал, а теперь жена пишет, что он разговаривает по телефону как взрослый. Трудно поверить.
Стэнли щелкнул языком.
– Конечно. Я же сказал, что мы упускаем самое интересное в них. Когда они станут старше, этого уже больше не повторится. Я помню, когда я начал подрастать, отец почти ни о чем со мной не разговаривал. Какой же дурак я был. – Он сказал это просто, почти искренне. Стэнли обнаружил, что нравился людям, когда делал подобные признания.
– Все мы такие, – согласился Гольдстейн. – Я думаю, это процесс роста. Повзрослев, мы видим все яснее.
Стэнли с минуту молчал.
– Ты знаешь, что бы там ни говорили, а женатым быть хорошо. – Он устал лежать без движения и осторожно повернулся в одеяле. – Когда ты женат, все становится иным.
Гольдстейн согласно кивнул в темноте.
– Потом все бывает не так, как рассчитываешь, но лично я был бы потерянной душой без Натали. Женитьба ставит человека на твердую почву, заставляет его осознать свои обязанности.
– Да. – Стэнли потер рукой землю. – Но если находишься за океаном, женитьба не имеет никакого смысла.
– Конечно нет.
Это был не совсем тот ответ, которого ожидал Стэнли. Он немного подумал в поисках нужных слов.
– Ты когда-нибудь ревнуешь жену? – спросил он тихо, так, чтобы не слышал Браун.
– Ревную? Думаю, что нет, – решительно сказал Гольдстейн.
Он догадывался, что беспокоит Стэнли, и автоматически постарался успокоить его. – Послушай. Я никогда не имел удовольствия познакомиться с твоей женой, но ты о ней не беспокойся. Ребята, которые говорят о женщинах нехорошо, ничего не понимают. Они сами столько крутят... – Гольдстейн на секунду задумался. – Не знаю, заметил ли ты, но те, кто часто меняют женщин, те и ревнуют. Это потому, что они сами себе не верят.
– Видимо. – Но это не удовлетворило Стэнли. – Не знаю, но, вероятно, это происходит потому, что торчим здесь на Тихом океане, и от безделья.
– Конечно. Но ты зря беспокоишься. Тебя ведь жена любит, да? Вот об этом и думай. Порядочная женщина, любящая мужа, ничего недозволенного не сделает.
– В конце концов, у нее на руках ребенок, – согласился Стэнли. – Мать не станет вертеть хвостом. – Жена казалась ему в этот момент абстрактным существом, была для него не более чем «она», «икс». И все же ему стало легче от того, что сказал Гольдстейн. – Она молода, но неплохая жена, серьезная. Знаешь, было довольно мило смотреть, как она восприняла свои обязанности. – Он довольно усмехнулся, инстинктивно решив изгнать из своей головы темные мысли. – Ты знаешь, мы порядком намучились в брачную ночь. Потом, конечно, все наладилось, но в первую ночь было не так хорошо.
– Так у всех бывает.
– Конечно. А у всех этих ребят, которые любят похвастать, даже вот у такого, как Уилсон, – он понизил голос, – ведь и у них так же было, правда?
– Точно. Всегда трудно приспособиться друг к другу.
Гольдстейн пришелся Стэнли по душе.
– Послушай, – сказал он вдруг, – какого мнения ты обо мне? – Он был еще так молод, что мог сделать этот вопрос кульминацией любого доверительного разговора.
– О-о! – На такой вопрос Гольдстейн всегда отвечал то, что хочется людям услышать. Он не был сознательно нечестен, он всегда тепло относился к человеку, который задавал ему такой вопрос, даже если никогда не был ему другом. – Я бы сказал, что ты культурный парень и твердо стоишь на земле. Ты несколько мечтателен, но это неплохо. Я бы сказал, что из тебя выйдет толк. – До этого момента Стэнли не совсем нравился Гольдстейну именно по этим причинам, но Гольдстейн себе в этом не признался. Он уважительно относился к успеху. А как только Стэнли обнажил свои слабости, Гольдстейн был готов превратить в добродетель все его остальные качества. – Ты очень серьезен для твоего возраста, очень серьезен, – закончил Гольдстейн.
– Я всегда старался сделать больше, чем должен. – Стэнли потер свой длинный прямой нос, потрогал усы, которые за последние два дня стали какими-то уж очень жидкими. – Я был старостой в младшем классе школы, – сказал он пренебрежительным тоном. – – Я не хочу сказать, что этим можно хвалиться, но я научился обходиться с людьми.
– Это, наверно, был ценный опыт, – сказал Гольдстейн задумчиво.
– Знаешь, – доверительно продолжал Стэнли, – многие во взводе не любят меня потому, что я прибыл сюда позже их, а уже капрал. Они считают, что я подхалимничал, но в этом нет ни капли правды. Я просто не хлопал ушами, а выполнял, что приказано. Но, должен сказать тебе, это не так уж легко. Те, что давно во взводе, считают, что они хозяева, и бездельничают в нарядах, стараясь всю тяжесть взвалить на других. Я просто ненавижу их. – Его голос стал сиплым. – Я знаю, что у меня нелегкая работа, и не утверждаю, что не совершаю ошибок. Но я учусь и стараюсь, к делу отношусь серьезно. Разве можно требовать от меня больше?
– Нет. Конечно нельзя, – согласился Гольдстейн.
– Знаешь, что я скажу, я все время присматривался к тебе. Ты неплохой парень. Я видел, как ты выполняешь порученное дело. Ни один сержант не смог бы потребовать от подчиненного большего усердия. Это я говорю для того, чтобы ты знал – все всё видят.
Стэнли, сам того не сознавая, снова ощутил свое превосходство над Гольдстейном. В его тоне, мягком и уважительном, прозвучали нотки снисходительности. Сейчас он чувствовал себя сержантом, разговаривающим с самым последним рядовым. Он совсем забыл, что две минуты назад напряженно ждал, когда Гольдстейн скажет, что уважает его.
Голъдстейн остался доволен, но это удовлетворение было каким-то расплывчатым. «Вот так всегда на военной службе, – подумал он. – Мнение юнца имеет такое большое значение».
Уилсон снова застонал. Они прекратили разговор, перевернулись на живот и, приподнявшись на локтях, стали прислушиваться к тому, что происходило рядом. Браун, тяжело вздохнув, сел и попытался успокоить Уилсона.
– В чем дело, дружище, в чем дело? – спросил он ласково, как бы успокаивая ребенка.
– О-о, этот живот доконает меня, черт возьми!
Браун вытер пот с лица товарища.
– Ты узнаешь, кто разговаривает с тобой, Уилсон?
– Это ведь ты, Браун, да?
– Да. – Сержант почувствовал облегчение. Уилсону, наверно, стало лучше – он впервые узнал его. – Как чувствуешь себя, Уилсон?
– Хорошо. Но я ничего не вижу.
– Это потому, что темно.
Уилсон обрадованно усмехнулся и произнес слабым голосом:
– Я думал, что из-за этой дырки в животе потерял зрение. – Он чмокнул губами, словно обиженная женщина. – Вот проклятие. – Он попытался повернуться на носилках. – Где я?
– Мы несем тебя к берегу. Стэнли, Гольдстейн, Риджес и я.
Уилсон задумался.
– И с разведкой для меня все кончено?
– Да. Для всех нас, дружище.
Уилсон снова усмехнулся.
– Ручаюсь, Крофт злился, как потревоженная пчела. Черт возьми, теперь-то они обязательно меня оперируют и вырежут всю эту дрянь, правда, Браун?
– Конечно, тебя вылечат.
– После операции у меня будет два пупка, один над другим. В таком виде я буду очень привлекателен для женщин. – Он попытался засмеяться, но закашлялся. – Трудно выдумать что-нибудь более привлекательное.
– Ты все-таки неисправимый пошляк, Уилсон.
Тот вздрогнул.
– У меня во рту вкус крови. Это ничего, а?
– Ничего, – солгал Браун. – Просто кровь выходит и туда и сюда.
– Ну разве это не проклятие для человека, который пробыл во взводе так долго, быть раненным в такой момент? – Уилсон умолк, вспоминая что-то. – Только бы эта дырка в животе перестала болеть.
– Все будет хорошо.
– Послушай, а меня ведь искали японцы там, в поле. Они были в двух-трех ярдах от меня. Я слышал, как они болтали о чем-то. Они искали меня. – Уилсона опять затрясло.
«Он снова бредит», – подумал Браун и спросил; – Тебе не холодно?
Уилсон только вздрогнул в ответ. Постепенно, пока он говорил, температура у него спала, тело становилось влажным и холодным.
Его сильно знобило.
– Дать тебе еще одно одеяло? – спросил Браун.
– Ага. Если можно.
Браун отошел от носилок, направляясь к тому месту, где расположились остальные.
– У кого-нибудь есть второе одеяло? – спросил он.
Сразу никто не ответил.
– У меня только одно одеяло, – сказал Гольдстейн. – Но я могу обойтись и плащом.
Риджес промолчал, а Стэнли предложил:
– И я могу спать под плащом.
– Вы вдвоем обойдетесь как-нибудь одним одеялом и плащом, а один плащ и одеяло я возьму.
Браун возвратился к Уилсону, укрыл его своим одеялом и одеялом и плащом, взятыми у товарищей.
– Так лучше, дружище?
Уилсон стал дрожать меньше.
– Хорошо, – пробормотал он.
– Конечно.
Несколько минут они молчали, а потом Уилсон снова заговорил:
– Я очень благодарен вам за все, что делаете для меня. – На глазах у него навернулись слезы. – Вы хорошие ребята, и я сделал бы для вас все, что хотите. Человеку хорошо только тогда, когда у него друзья. А вы так заботитесь обо мне. Клянусь, Браун, может быть, мы когда-нибудь и ссорились,но когда я поправлюсь, то сделаю для тебя все, что ты захочешь. Я всегда знал, что ты хороший друг.
– Ну ладно, ладно.
– Нет, человек хочет, хочет... – От желания высказаться Уилсон начал заикаться. – Я ценю это и хочу, чтобы ты знал, что всегда буду тебе другом. Ты сможешь сказать, что есть такой человек – Уилсон, который никогда ничего плохого о тебе не скажет.
– Ты лучше успокойся, друг.
Но Уилсон продолжал еще громче:
– Ладно. Я постараюсь уснуть, но не думай, что я не благодарен вам. – Уилсон снова стал заговариваться, а через несколько минут умолк.
Браун задумчиво смотрел в темноту. И снова поклялся себе:
«Я должен доставить его в лагерь».
МАШИНА ВРЕМЕНИ. УИЛЬЯМ БРАУН, ИЛИ СЕГОДНЯ БЕЗ ЯБЛОЧНОГО ПИРОГА.
Среднего роста, слегка полноватый, с мальчишеским веснушчатым лицом, вздернутым носом и каштановыми, с рыжеватым отливом волосами. Однако вокруг глаз можно было заметить морщинки, а на подбородке несколько тропических язв. В общем ему можно было дать лет двадцать восемь.
Соседи всегда любили Вилли Брауна – он такой честный мальчик, у него обычное приятное лицо, какое можно увидеть на рекламах в витринах магазинов, банков и других учреждений.
– Хорошенький мальчик у вас, – говорили соседи его отцу Джеймсу Брауну.
– Да, хороший, но вы посмотрели бы на мою дочь. Она-то уж писаная красавица.
Вилли Браун очень популярен. Матери школьных друзей всегда ставят его в пример, он – любимец учителей.
Но ему это не нравится.
– Ох уж эта старая ворона, – говорит он об учительнице. – На нее и плюнуть жалко. – Он сплевывает на покрытый пылью школьный двор. – Не знаю, почему она не оставит меня в покое.
И семья у него хорошая. Отец работает на железной дороге, в Талсе, служащим, хотя начинал карьеру в депо. У семьи Браунов свой дом в пригороде, приличный участок за домом. Джим Браун – хороший хозяин, все время понемногу делает свой дом благоустроеннее, устраивает водопровод, подправляет дверь, чтобы легче закрывалась. Он не такой человек, чтобы залезать в долги.
– Элла и я стараемся придерживаться бюджета, – говорит он гордо. – Если оказывается, что немного перерасходовали, то просто отказываемся от виски на неделю. (Далее извинительным тоном.) Я считаю спиртное роскошью, особенно если приходится нарушать закон, чтобы достать его. Кроме того, никогда нет уверенности, что не ослепнешь от этого виски.
Джим Браун старается быть в курсе событий. Читает «Сатердей ивнинг пост» и «Кольерс», а в начале двадцатых годов участвовал в коллективной подписке на «Ридерс дайджест». Сведения, почерпнутые из этих журналов, очень удобны для разговоров в гостях; единственная нечестность, которую отмечают в нем люди, состоит в том, что в разговорах о статьях он не упоминает источник.
– Знаете ли вы, что в двадцать восьмом году сигареты курило тридцать миллионов человек? – спрашивал он бывало.
«Литерари дайджест» держит его в курсе политических событий.
– На последних выборах я голосовал за Герберта Гувера, – с удовольствием признается он, – хотя я всегда был демократом, насколько мне помнится. Но на следующих выборах думаю голосовать за демократов. По-моему, пусть одна партия побудет у власти, а потом другая.
Миссис Браун согласно кивает.
– Я разрешаю Джиму играть ведущую роль в наших политических убеждениях.
Она не добавляет при этом, что такую же роль отводит ему и в ведении хозяйства, но об этом можно догадаться.
Приятные люди, приятная семья, по воскресеньям, конечно, ходят в церковь. Единственное, в чем миссис Браун имеет твердое мнение, – это в вопросе об отношении к новой морали.
– Не знаю почему, но народ больше не богобоязнен. Женщины пыот в барах и делают бог знает что еще. Это неправильно, совсем не по-христиански.
Мистер Браун согласно кивает. У него есть несколько оговорок по этому поводу. Но в конце концов женщины всегда больше религиозны, чем мужчины, скажет он в доверительной беседе.
Естественно, Брауны гордятся своими детьми и с радостью расскажут вам, как Пэтти учит Уильяма танцевать – ведь он теперь уже в средней школе.
– Мы раздумываем, стоит ли посылать его в университет при нынешней депрессии и связанных с этим других делах, по теперь, кажется, поняли, что делать, – говорит миссис Браун. – Мой муж, – добавляет она, – всегда хотел, чтобы дети учились, тем более что ему самому это не удалось.
Брат и сестра хорошие друзья. На веранде, там, где рядом с софой из кленового дерева стоит ваза (она использовалась как цветочный горшок, пока каучуконосное растение не завяло) и радиоприемник, девушка объясняет брату, как партнер должен вести партнершу в танце.
– Вот смотри, Вилли. Это просто. Ты только не бойся держать меня.
– А кто боится?
– Ты не такой уж смельчак, – отвечает она с позиций старшей но возрасту ученицы средней школы. – Скоро ты будешь назначать свидания.
– Ха! – восклицает юноша с презрением. Но он чувствует ее маленькие упругие груди у своей груди. Он почти такой же ростом, как и она. – Это я-то буду назначать свидания?
– Да, будешь.
Они шаркают ногами по гладкому каменному полу.
– Эй, Пэтти, когда к тебе придет Том Элкинс, дай мне поговорить с ним. Я хочу спросить его, смогут ли принять меня в футбольную команду через пару лет.
– Этот Том Элкинс старый дурак.
Для Вилли это имя священно. Он с презрением смотрит на сестру.
– Какие у тебя претензии к Тому Элкинсу?
– Ну хорошо, хорошо, Вилли, ты будешь в команде.
Он так и не вырос особенно, но уже на предпоследнем курсе стал руководителем клуба болельщиков, и ему удалось уговорить отца купить ему подержанный автомобиль.
– Ты не понимаешь, папа. Мне действительно нужна машина.
Нужно ездить то туда, то сюда. В прошлую пятницу, например, чтобы собрать команду для тренировки перед игрой с вадсвортскими ребятами, я потратил весь вечер на беготню.
– А ты уверен, что это не будет излишней роскошью?
– Мне действительно нужна машина, папа. Я буду каждое лето работать, чтобы вернуть тебе деньги.
– Не в этом дело, хотя тебе и нужно поработать, чтобы ты не испортился. Знаешь, я поговорю об этом с матерью.
Победа за ним, и он улыбается. Глубоко в его сознании, под покровом искренности в этой беседе, живет память и о многих других победах. (Беседы юношей в гардеробной после занятий физкультурой, долгие дискуссии в подвалах, превращенных в клубные помещения.)
Народная мудрость; если хочешь овладеть девчонкой, нужно иметь автомашину.
В выпускном классе его жизнь – сплошное веселье. Он член совета школьного самоуправления и руководит школой танцев. Свидания субботними вечерами у кинотеатра «Корона», а раз или два в загородных гостиницах. По пятницам вечеринки в домах подруг.
В течение какого-то времени он даже чувствует себя влюбленным.
И всегда руководство болельщиками. Он приседает на корточки, становится на колени в белых фланелевых брюках, грубом белом свитере, недостаточно теплом для ветреной осенней погоды. Перед ним кричат тысячи ребят, прыгают девчонки в зеленых юбках, их оголенные колени краснеют от холода.
– Давайте крикнем дружно: «Кардли», – командует он в мегафон, бегая туда и сюда. Наступает тишина, уважительное молчание, пока он поднимает руку, взмахивает ею пад головой и опускает.
– Кардли ура! Кардли ура! – несется над полем, И все ребята кричат, наблюдая за тем, как он кувыркается «колесом», встает, хлопает в ладони, поворачивается к игровому полю с выражением преданности и мольбы на лице и в позе. Он главный. Сотни ребят ждут его сигнала. Миг славы, о котором вспомнится позже.
В промежутке между баскетбольным сезоном и бейсболом он разбирает свою машину, устанавливает глушитель (ему надоел треск выхлопа), смазывает коробку скоростей и окрашивает шасси в бледно-зеленый цвет.
С отцом у них происходят важные разговоры.
– Нам нужно серьезно подумать над тем, чем ты займешься, Вилли.
– Я, кажется, решил выбрать профессию механика, папа.
В этом нет ничего удивительного. Они разговаривали об этом много раз, но сегодня оба понимают, что разговор серьезный.
– Я рад слышать это, Вилли. Не хочу сказать, что пытался навязать тебе какое-то мнение, но лучше ничего не придумаешь.
– Я действительно люблю машины.
– Я заметил это, сынок. (Пауза.) Тебя интересует авиационная техника?
– Да, кажется так.
– Именно. Мне кажется, это хороший выбор. Дело перспективное. – Отец похлопывает сына по плечу. – Позволь, однако, кое-что сказать тебе, Вилли. Я заметил, что ты держишься немного заносчиво с ребятами. Конечно, это пока не слишком страшно, и к родителям ты относишься хорошо. Но это неверная политика, сынок. Неплохо знать, что ты можешь что-то сделать лучше других, но не надо показывать этого.
– Никогда и в голову не приходило. – Он покачивает головой. – Послушай, папа, серьезного в этом ничего нет, но теперь я послежу за собой. Хорошо, что ты сказал мне об этом.
Отец довольно смеется.
– Конечно, Вилли. Отец ведь может сказать сыну кое-что полезное.
– Ты отличный человек, отец.
Их отношения отличаются теплотой. Вилли чувствует себя взрослее, готовым разговаривать с отцом как с другом.
В то лето он работает в кинотеатре «Корона» билетером. Это отличная работа. Ему знакома почти половина приходящих в кино людей, и он имеет возможность поговорить с ними несколько минут, прежде чем усадить их на места. (Неплохо дружить со всеми, ведь никогда не знаешь, к кому придется обратиться с просьбой.) Скучно бывает только днем, когда зрителей мало. Случается, однако, поболтать с несколькими девчонками, но после разрыва с возлюбленной из выпускного класса он не очень интересуется девушками. «Никаких свадебных колоколов для меня», – шутит он.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.