Текст книги "Уран"
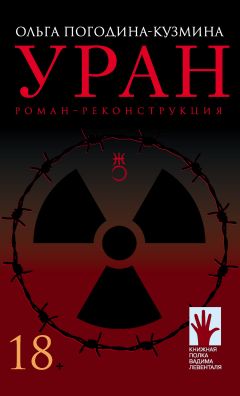
Автор книги: Ольга Погодина-Кузьмина
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 23 страниц)
Зайчик с бисерным глазом
Всякий умный понимал, каким ветром выкосило пристяжных Порфирия и самого смотрящего, а генерал Азначеев был не дурак. Смерть старого вора замяли как несчастный случай, но нашелся повод Голода перевести в БУР, отправить Циклопа и нескольких переметнувшихся торпед – по другим лагерям.
Однако меры эти могли только отсрочить неизбежное. Ропот шел по зоне. Блатари по масти, пристяжные, черти, фраера шушукались по углам, точили попавшиеся под руку железки и черенки ложек, снаряжались, будто в дорогу. Шел звон, будто Голый Царь готовится мять зону под себя, объявлять по всем баракам забастовку. Бунт заключенных грозил как начальству, так и самим сидельцам большими неприятностями и кровью, но остановить течение событий никто уже не мог.
Лёнечка в бараке-корабле плыл по течению. Ждал бумаг к освобождению, свистал соловьем, получал наряды на работу при кухне или в госпиталь. Хранил заточку в тайном месте под кирпичом, залепив трещину в стене жеваным хлебом.
Он задвинул в дальний угол страшную смерть Порфирия, выкинул из мыслей инженера Воронцова, как несущественный житейский эпизод. Но зарубками в памяти отмечал разы, когда приходилось видать красючку – генеральскую жену с лебединой шеей.
Зэки уже знали, что на пианино она не играет и в лагере не сидела, а даже напротив, работала адвокатом и добилась для Азначеева полной реабилитации и права занимать руководящие должности. В этом ей помог отец, замминистра государственного контроля. Теперь она вела дела по реабилитации некоторых заключенных и время от времени появлялась на лагерной территории. От вида стройной ее фигуры и торопливой походки сердце пускалось биться горячей, громче слышался томный перезвон кузнечиков в траве, думалось о будущем счастье.
Мужу ее, генералу Азначееву, в зоне приклеили погоняло «Толкач» за манеру толкать речи на большой поверке перед строем. Говорил он негромко, но так отчетливо, что каждое слово долетало до самых последних рядов. И даже беспечного Лёнечку как железом по стеклу царапало, когда начальник клеймил позорными словами «оголтелых представителей криминального мира», которые «дезорганизуют работу колонии» и «терроризируют честно работающих заключенных».
Думал с тоской Лёнька Май – где затерялось ты, мое освобождение? Уж скорее бы на волю, пока не закрутил в свою воронку кровавый лагерный замес.
Потому испытал веселую тревогу, когда на вечерней поверке надзиратель выкликнул из строя ЗэКа 789 – его фартовый номерок.
Пока выходил неторопливо, не теряя блатного форса, услышал в спину шепот Лукова: «Тише дыши». Давал понять сосед, при Голоде скакнувший на пару ступенек по лестнице воровской масти, чтоб Лёнечка не разболтал ненароком чего не следует. Излишним и даже обидным счел жиган предупреждение, что и выразил высокомерным взглядом.
Провели Маевского к самому начальнику лагеря, в личный кабинет, обитый лакированным деревом, пахнущий табаком и дорогим одеколоном.
Назар Азначеев был худым человеком лет пятидесяти, черноволосым с проседью, с монгольским очерком скул и глубокими складками возле рта. Повидал жизнь, не только речи толкал на партсобраниях, в чем несправедливо упрекали его арестанты. Так и впился в Лёнечку с прищуром, долго смотрел. Наконец, предложил папиросу из пачки. Сталинский табак, «Герцеговина Флор».
– Не курю я, гражданин начальник. Здоровье берегу для будущей семейной жизни.
Генерал дернул губой, поскучнел лицом. «Презирает», – догадался Лёнечка, но обиды не почувствовал. С волками-надзирателями у блатных взаимная любовь и презрение обоюдное.
Азначеев придвинул к себе папку с делом, открыл. Заговорил сухо, неприязненно:
– Вы идете под амнистию, Маевский. Расскажите, как собираетесь жить.
Лёнечка скосил глазом, пытаясь лежащий сверху документик рассмотреть, а сам строчил как по писаному:
– Намерен покончить с преступным прошлым. Устроюсь на завод, пойду учиться в техникум. Жениться бы хотел, гражданин начальник колонии.
Азначеев снова поморщился.
– Куда поедете? Есть у вас родные, близкие?
– Родных нету никого, все в блокаду померли. А поеду на ударную стройку, – без запинки сыпал Лёнечка. – Поглядеть страну, ее широкие просторы. Поучаствовать в делах советской молодежи.
– Здесь тоже идет строительство. Нужны рабочие руки, – заметил начлаг. – Инженер Воронцов характеризует вас с хорошей стороны. Может, вам и правда стоит покончить дружбу с отпетыми уголовниками, устроиться на Комбинат?
«Чего я там не видал», – про себя ухмыльнулся Лёнечка, но вслух не стал отказываться.
– Заманчивое предложение. Только обдумать надо, гражданин генерал.
Азначеев взял писчую вставочку и начал скрести о перочистку, неторопливо, с преувеличенной педантичностью.
– Вы находились в помывочной, когда погиб Демид Камчадаев, заключенный Д-203. Не хотите рассказать, что там произошло?
– Да я уже докладывал, гражданин начальник лагеря! Отвернулся как раз, голову от мыла обмывал. Слышу – какой-то шум. Вроде упало тяжелое. А он уж лежит неживой. Поскользнулся, видать, да и расшиб чего-то внутри.
– О смерти Порфирия Вяткина ничего не можете сообщить?
– А что сообщать? Старенький был, от сердца помер.
Начальник лагеря исподлобья уставился в лицо жигана.
И Лёнечка вдруг почувствовал на плечах неизбывную тяжесть, которой нагружал его этот взгляд.
– Тут, в вашем деле, – генерал прижал пальцем бумагу, – упомянут беспризорник Леонид Ненужный.
Звук прошлого имени никак не тронул Лёнечку. Шепот матери, школьная линейка, перекличка в классе – будто чужое кино о посторонних людях. Выдрал то время из сознания, как отрезают желчь от куриной печенки – чтоб не горчила.
– Да, был такой пацанок. Бомбой его убило. Осколком прямо в сердце.
Азначеев медленно встал, отошел к окну. Закурил новую «герцеговину».
– Видел своими глазами?
– У меня на руках он и помер.
Начальник лагеря замер, будто окаменел. Странно было смотреть в его спину, словно бы сгорбленную под черным френчем, хотя по видимости оставшуюся прямой. Лёнечка с удивлением понял, что своим ответом причинил генералу страдание.
Тревога метнулась в голове, будто мышь под нарами: лишнее брякнул, не по масти начальнику. Задавит, в ШИЗО прищемит, добавит срок?
Азначеев молча, не глядя на жигана, вернулся к столу, открыл ящик. Достал фотографию в рамке под стеклом. Закрыл половину рукой и показал Маевскому.
– Это он?
На стуле прямо сидела красивая женщина с расчесанными на пробор волосами. На коленях держала девочку, еще младенчика, всю в кружевах. За спинкой ее стула стоял мужчина в черной форме с полковничьими лычками, лицо его закрывали пальцы начлага. А между мужчиной и женщиной приткнулся мальчонка лет пяти в пальтишке с пришитым зайчиком на кармане.
Зайчика узнал Леонид, и память первой в жизни любви толкнулась в сердце. Глаз из бусинки, фигура из теплой валяной материи, пришитая аккуратным стежком – этого зайчишку мальчик любил с необъяснимой нежностью, за что-то жалея, умиляясь и оживляя своим неподдельным чувством.
Прыг-скок – безыскусная аппликация на кармане пальто – голос матери – имя младшей сестры – будто запрыгнула в душу радость узнавания. Это же я там стою, бутуз-карапуз, и мамочка держит на руках Анюту, и отец…
«Молчи», – сказала Смерть и сжала сердце Лёни холодными пальцами. «Нет больше зайчика, истлел вместе с плотью умерших. Нет и тебя, карапуза, а есть жиган-уголовник Лёнька Май без роду-племени. Ворами взращенный, крестами крещенный».
Смерть заморозила сердце, и голос Лёнечки без трепета, лениво обронил:
– Не припомню, гражданин начальник. Вроде он, а может, нет. Мал я был тогда, уж столько времени прошло.
Азначеев нажал кнопку звонка под столом. Явился надзиратель.
– Уведите.
Поднялся Лёнечка, и черт дернул взглянуть, как начлагеря убирает фотографию обратно в стол. Тут он узнал, что военный с полковничьими лычками, который снялся вместе с семьей в московском ателье в тридцать восьмом году – это сам генерал-лейтенант Назар Усманович Азначеев, родной отец карапуза с зайчиком на кармане пальто.
От Азначеева цирик отвел Лёнечку на завтрак. Поварихи оставили ему каши, пайку хлеба с довеском, подкинули к чаю рафинада. Но перешучиваться с бабенками настроения не было. Ел машинально, думал о своем.
Будто открыли шлюз, хлынули из памяти картины. Солнечная комната, крепкий мужчина в майке и черных трусах делает зарядку с гантелями. Лёня ждет с нетерпением похода в зоопарк. Едут на трамвае. Смотрят бегемота, мартышек, медведей в клетке с толстыми прутьями. Отец покупает мороженое. А потом садится перед сыном на корточки и вытирает платком запачканную щеку. Лёнечка чувствует на платке запах его слюны, отдающей табаком «Герцеговины Флор» и тем летучим ароматом, которым пахли рюмки на столах после праздника.
Судьба-анафема, трудный подарок подкинула ты жигану. Пойти, открыться? Рассказать как на духу – про пацана убитого, подмену имени, детдомовскую жизнь? Много мог вспомнить он в подтверждение правды – как звали бабку и мать, адрес свой ленинградский, школу, зайчика этого на пальто. Вот только дальше-то куда? К папаше в роту? В юридический институт?
Май про себя хохотнул от такого предположения.
Прощай, блатная жизнь, веселая свобода? Воровская ельна, разбойный фарт? На какой малине примут бродягу, у которого отец – пес лагерный, надсмотрщик над ворами?
Но было что-то еще, важней размышлений практического порядка. Сосала душу тоска. Это смерть, ехидна костлявая, не хотела возвращать молодого любовника в мир живых.
Так ничего не решив, после обеда вернулся Лёнечка в пустой барак, где дневальные только что вымыли с хлоркой полы. Увидал Лукова, который перетаскивал постель ближе к месту Фомы, нового смотрящего по хате. Луков управился с делом, подсел к Лёнечке на вагонку.
– О чем базлали с Толкачом?
– Да так, алямс-тралямс… Речи толкал насчет сознательности. Бегу по амнистии, бумаги подписал.
– А ты не беги так шустро, фраерок, безносую догонишь, – осклабился Луков. – Голод сходняк созывает. До тебя вопросы есть.
Лёнечка кивнул, закрыл глаза. Он почувствовал непривычное равнодушие ко всему, происходящему на зоне. Блатная жизнь, уже которая по счету, слезала с него, как змеиная шкура.
Ночью снова плясала перед ним бесстыдная девка, выставляла груди, выворачивала промежность. Наконец удалось схватить ее, в мясистую дыру вколотить свою плоть. Девка разинула рот, хохоча, и Лёнечка увидал, что в горле у нее, в черной пустоте, клубятся черви.
Боги покидают
Народы обожествляют правителей – не только из одного раболепия. Тот, кому подвластна жизнь и смерть миллионов, перерастает человеческую природу. Властитель неизбежно ощущает гул эпох. Да, в нем, словно в печной трубе, гудит сквозняк истории. И обращаясь к мирозданью, он должен получать ответ немедля. Распознавать их – целое искусство. Однажды мирозданье замолчит.
И ужасом наполнится пустое, больное и изношенное чрево. И всемогущий бронзовый титан, привыкший пить ваш трепет и покорность, и сеять страх, и суд вершить великий, вдруг падает с кровати на ковер. Опухшие, как глиняные, ноги не подчиняются его приказам. И проще легионы двинуть в пропасть, чем шевельнуть ушибленной рукой.
Из горла хрип, вращение глазами – лишь по привычке отдавать приказы. Но их не принимают к исполненью. Мышиный шорох, дальше – тишина.
Лежащий на ковре возле постели, он слышит неизбежное: оркестр. Тимпаны, бубны, лиры и свирели и голоса неведомой природы. Те голоса, которым доверялся он при начале своего пути. Бесовское или ангельское пенье – не разобрать.
Он был семинаристом, затем жрецом. И богом. Да, бесспорно. Он бог и царь, сомнений в этом нет.
Кому же этот призрачный оркестр поет осанну, покидая город? Остановитесь! Слышите? Я здесь!
Но музыку, как призрачный корабль, уносит мироздания теченье. И небо, опустевшее безмолвно. И бляшкою закупорен сосуд.
В соседней комнате три человека. Им подали коньяк и чай в стаканах. Один в очках. Он думает о бомбе. Он должен получить ее скорей.
Внушает страх бесполая улыбка, ему подвластны тайные приказы. Он составлял записку Эскулапу, чтоб печень, сердце, мочевой пузырь и мозг вождя, из тела извлеченный, хранить в формальдегиде восемь лет.
Уран, хрипящий на ковре персидском, вдруг видит, как из темного угла выходит труп с простреленным затылком. Один из тех, кого казнили тайно, в подвале, никому не объявляя, и в тайном месте спрятали под землю, чтоб не было могилы и креста. Чтобы к нему не приходили плакать, не называли мучеником веры, не воспевали доблести героя. Чтобы о нем забыли на земле.
Уран построил смертную машину, чтоб отправлять детей во чрево Геи. Но как могла земля извергнуть тело? И почему оно стоит в углу?
Земля на волосах и на одежде. Глаза закрыты, посинели губы. Но движется покойник беспощадно, и серп блестит в протянутой руке.
И вот уже ни стен над ним, ни крыши. Ковер исчез – под ним земля сырая. И прорываясь из земли ростками, выходят дочери и сыновья. Они давно мертвы и молчаливы, но в голове твоей их крик предсмертный сливается в один ужасный грохот. И движется огромный океан…
Голубая рубашка
Чтобы напроситься в гости к Ремчукову, майор Аус отбросил политес и вечером дождался хозяина у двери. Тонкая зацепка, которую дал Воронцов, могла оборваться, но и привести к новому повороту в расследовании.
Комсорг занимал половину старой деревянной дачи неподалеку от школы. Поджидая Велиора у калитки, Аус мысленно перебирал страницы личного дела комсомольского секретаря.
Родился в Смоленской области, в учительской семье. Рано потерял отца, жил с матерью. В годы войны – эвакуация, болезнь. В сорок третьем вернулся в освобожденный Смоленск, работал на восстановлении разрушенного города, поступил в ремесленное училище. Начал выделяться на общественной работе, был направлен на курсы при местной Высшей партийной школе. В Ленинграде окончил институт, работал на предприятиях отрасли. В 1951 году направлен на Комбинат в должности освобожденного секретаря комсомольской ячейки. Не женат. С 1946 года числится нештатным сотрудником НКВД.
Ремчуков подходил к дому один, цепко поглядывая по сторонам. Дрогнул ноздрями – почуял запах табака. Аус вышел из-за куста.
– А я-то думаю, кто меня поджидает, – комсорг протянул узкую сухую руку.
– Разрешите войти?
Ремчуков открыл калитку.
– Проходите, у меня от органов секретов нет.
Даже Ауса, привыкшего к походному быту, жилище удивило казарменной, сиротской простотой. Стены выкрашены белой краской по старым, вздувшимся обоям. Самодельный платяной шкаф, потускневшее зеркало, с которого местами осыпалась амальгама. На пороге – обрезанные меховые унты, служащие домашней обувью; пара не новых, но еще крепких сапог. Железная кровать, педантично застеленная армейским темно-зеленым шерстяным одеялом. Стол, покрытый клеенкой, пачка газет, стеклянная чернильница, перо. Портрет Сталина в рамке под стеклом. Вождь в фуражке, поднял руку в приветствии.
В такой комнате может жить или святой – убежденный фанатик, либо же циничный лицемер. Впрочем, подумал Аус, первое нередко уживается с другим.
Сходство с казармой или тюремной камерой разрушал, пожалуй, только раструб граммофона, сверкающий сусальным золотом из угла.
– Неплохая машина. Можно взглянуть?
– Пожалуйста. Граммофон и пластинки остались от прежних жильцов.
– А кто здесь жил до вас?
– При немцах – какой-то генерал. Неподалеку, кажется, был аэродром. Впрочем, вы это знаете лучше. Давайте-ка горячего чайку!
В сенях он налил воды в латунный чайник, разжег примус.
– Сколько у вас патефонных иголок!
Аус взял с полки коробочку, точно такую, как описывал Воронцов.
– Да, представьте, целая пачка в сто штук. Всё это богатство я нашел на чердаке, кто-то спрятал, еще во время войны или раньше.
– Пластинки, я смотрю, в основном немецкие?
– В общем да. Но есть и классическая музыка. Штраус, Верди, Чайковский.
– А что вы предпочитаете?
– Признаться, редко слушаю. Приходится вести большой объем работы. Организация, учет, совещания, встречи. По вечерам самодеятельность, кружки. Много отчетности…
Ремчуков подвинул стулья, вынул из тумбочки два стакана, железную сахарницу.
– Извините, к чаю только баранки.
Сдержанный, но приветливый. Привычка к самодисциплине – скорее положительное качество. Правда, есть в нем что-то неприятное, двойное дно. Майор представил, как секретарь каждый вечер аккуратным почерком составляет доклады в Особый отдел, пересказывая подслушанные разговоры.
Ремчуков присел на стул.
– Что ж… Чем обязан?
– Велиор Николаевич, я хотел задать пару вопросов… про Нину Бутко.
– Я вроде бы всё рассказал… Хотя понимаю, это ваша работа.
Он выглядел слегка растерянным, как и следует человеку, которого застали врасплох. Аус продолжал наблюдение. Некрасивый, блеклый. Оттопыренные уши, бесцветные глаза, средний рост. Такого увидишь в толпе – не запомнишь.
– Нина мне нравилась, я даже пытался ухаживать. Но у нее было много поклонников. Она ездила в Ригу, в Ленинград. Видимо, я казался ей скучным…
Аус помолчал, выдерживая паузу.
– Нормировщица Качкина сообщила, что в конце апреля видела вас вместе с Ниной в таллинском автобусе. Но вы почему-то вышли один, не доезжая остановки.
– Что ж, Нина пару раз просила ее сопровождать за покупками. Она не хотела, чтобы нас видели вместе – сами знаете, сплетни. Маленький город.
Ремчуков поднялся, достал мельхиоровый заварочный чайник.
– Что она покупала?
– Духи… Кажется, «Ландыш». Меховую горжетку. Мы заходили в ателье.
Аус изучал каждое движение собеседника, но не видел ничего необычного. Спокоен, сдержан. Может быть, даже чрезмерно для такой ситуации.
– Мы выяснили, что в Таллине вы с Ниной заходили в ювелирный магазин. Присматривали обручальные кольца. Продавщица узнала вас и Нину по фотографии.
Ремчуков разлил по стаканам чай. Аккуратно поставил на место чайник, чистым полотенцем вытер капли на столе.
– Нина любила украшения. Она выбирала подарок для матери – золотые часики с браслетом. А кольца мы примерили в шутку. Признаться, это я предложил. Хотел, чтобы она понимала, как серьезно я к ней отношусь.
Майор отхлебнул чая. Крепкий, ароматный. Чабрец, мята.
– Травы добавляете?
– Да вот, из месткома женщины принесли.
– Вам ведь и путевку в санаторий в месткоме дали? На майские праздники?
– Смешно вышло с этой путевкой. Самые ответственные дни – майская демонстрация, концерт. На части разрывают, а тут надо ехать в санаторий.
– Но вы всё же поехали?
Велиор развел руками.
– Уговорили, неудобно было отказаться. Усиленное питание, процедуры. А я, признаться, очень устаю на работе.
«Скользит, как уж, и на всё есть ответ». Майор почувствовал некоторую досаду, но тут же одернул себя. Что ж, человек неприятный, начетчик, педант. Но нет у следствия никаких оснований подозревать его в убийстве.
– А вы сами как предполагаете – кто мог убить Нину Бутко?
– Вот уж увольте от предположений. Не я назначен расследовать это дело, вам лучше знать.
– А вот фотограф Кудимов… Вы с ним, кажется, были дружны?
– Не то что дружны, общались по работе… Он рисовал транспаранты к демонстрации. Вел фотоархив.
– Вам не приходилось слышать про лесных партизан?
Ремчуков рассмеялся.
– Вы сказали, хотите задать пару вопросов. А тут целая беседа под протокол.
Аус улыбнулся в ответ, отпил чая.
– Уж извините, но мы навели справки… Такая работа. И выяснили, что в Ленинграде вы часто посещали библиотеку. Нам даже прислали список книг…
Ремчуков шевельнулся на стуле, по его лицу скользнула тень.
– Вы брали книги по истории марксизма-ленинизма, учебники английского, философские работы… И, что мне показалось странным – много книг о мистических культах, о Древнем Египте.
– Да, действительно. Я собирался писать диссертацию.
– Написали?
– Нет, охладел к этой теме.
Хозяин поднялся, подлил гостю заварки из мельхиорового чайника. Аус выпил – отчего-то он чувствовал жажду. И снова сердце тянуло куда-то ноющей болью, било прерывисто, будто отстукивало морзянку.
Ничего конкретного предъявить Ремчукову Аус не мог. Ни улик, ни сколько-нибудь доказательных подозрений. Попрощался, вышел из комнаты с каким-то тягостным чувством. Казалось, упустил в разговоре нечто важное, позволил секретарю перехватить инициативу.
Патефон, коробка с иглами – может, Воронцов намеренно его направил по ложному пути? Нет, рано снимать подозрения с инженера. С такой биографией от человека можно ожидать чего угодно.
Подходя к домику, увидел в саду Жураву. В майке и тренировочных штанах, тот размахивал мускулистыми руками, делал наклоны, отдуваясь. Завидев Ауса, бросил гантели.
– Товарищ майор, а я-то думаю, куда он запропал. Новости у меня интересные. Помните пуговицу с кусочком голубой материи, которую нашли в ателье Кудимова? Так вот, я сегодня видел человека в рубашке с такими же пуговицами!
– Кто же это был?
– Да вы погодите… Я к пуговкам пригляделся, а пиджак у него был застегнут. Я попросил закурить, он, пока искал спички, так и раскрылся! И вот смотрю – на рубашке все пуговки одинаковые, а нижняя возле пояса – другая. И там кусочек материи надставлен… Точно с той рубашки улика, я даже в дело заглянул, чтоб подтвердить.
Сердце опять остро и долго уколола игла. Аус поморщился, в кармане выдавил из пачки еще одну таблетку валидола, потихоньку бросил в рот. Щенячья радость Журавы все больше раздражала.
– Да говори, на ком видел рубашку.
Журава вздохнул, словно жалея расставаться с любимой игрушкой.
– Парень, рабочий. Из эстонцев. Числится в цеху окислителей. Звать его Осе Сепп. У него еще брат есть, близнец. Тоже работает на Комбинате.
– Сепп, – припомнил майор. – Да, это брат той девушки, Эльзе. Надо его допросить.
Снова сердце, на этот раз почти нестерпимо. Земля качнулась под ногами, поплыла. Что такое со мной? – Аус тряхнул головой, взялся за притолоку.
– Так я уже с мастером поговорил, – улыбнулся Журава. – Чтоб завтра его отправили к нам в отделение.
Майор достал папиросу.
– Глупость ты сделал, лейтенант.
– Отчего?
– Предупредил подозреваемого. А вдруг он виновен? Скроется, убежит.
– Да куда он денется с Комбината, Юри Раймондович? Придет на работу, мы его и прихлопнем, как муху. Я сам пойду с утра, приведу его к нам в участок.
– Ладно, – кивнул майор. Он почувствовал тошноту и вспомнил, что ничего не ел с двух часов. – Пойдем-ка, чего-нибудь перекусим. Вобла у нас оставалась?
– Воблы целый мешок! И пиво есть. Будете?
– Буду, отчего же нет?
Аус направился к умывальнику. Снял пиджак, намылил руку, лицо и шею. И, ополаскиваясь, вздрагивая от стылой воды, почувствовал головокружение. Сердце билось тяжко и быстро. Да что со мной?..
Боль сковала всю левую сторону, словно от деревянной руки вся половина тела сделалась деревянной. Аус упал.
Сквозь вату, которой будто обложили голову, что-то кричал Журава. В сумрачном небе показалась широкая полоса света.
О Таисии вспомнил Аус, увидал ее лицо. Нет, то всадник на коне, с копьем, в сияющих доспехах. Скачет Георгий небесным полем, полощется красное знамя. Тянет копье Георгий: «Хватайся, держись!»
Видит Аус – снова на месте вторая рука, когда-то изувеченная осколком. Хватается за копье, вздымается ввысь.
И вот уже он, русский эстонец Юри Аус, большевик и сын большевика, скачет на добром коне среди небесного воинства. Он слышит музыку – играет труба, и поют голоса, будто в церкви. И радость заливает сердце, словно он возвратился домой, к потерянным близким.
Он видит рядом товарищей. И вечность, и свет.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































