Текст книги "Уран"
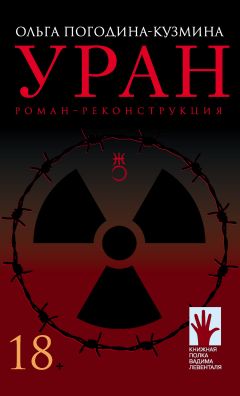
Автор книги: Ольга Погодина-Кузьмина
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 23 страниц)
Тетка Тереза
По вечерам, от ужина до отбоя, в бараке гомон, споры, то ругань, то смех. Бакланы режутся в карты, узбеки молятся, спертый воздух прорезает возглас боли, внезапный гогот, а то заковыристое матерное ругательство. В петушином углу отплясывает Бедка – беззубый чушкарь, побирушка. От его лохмотьев разносится запах мочи и немытого больного тела.
Едет Сталин на свинье, Берий на собаке!
Сталин Берию сказал: «Мы с тобой свояки!»
Фомич Хромой, Кила и Трясогузка с верхнего места глазеют на ужимки юродивого, похохатывают. Луков, помощник смотрящего, шарит по нарам бесцветными, будто вареный овощ, глазами. Авторитет Фомы и Лукова гнилой, держится только на страхе, который внушает имя Голого Царя.
Голод хоть и помещен был в штрафной барак, по неделям не выходил из ШИЗО, но даже так ему удавалось вести свою линию, разными способами устраняя от власти соратников Кости-Капитана, а также «военщину» – бывших фронтовиков. Это была месть якобы за те расправы, которые «суки» чинили над «черными ворами», а на деле – объявление войны начальству лагеря и всем, кто был замечен в сотрудничестве с администрацией. Голод «перекрашивал» лагерь в свою, черную масть.
Назначенный недавно староста, тридцатипятник, осужденный некогда за крупное хищение на производстве, а также командиры всех строительных рот без возражений «легли» под Голода. По вечерам за бараками, в слепой для вышек зоне у забора, шла беспредельная «правилка». Непонятливых или чем-то провинившихся перед новой лагерной элитой били, ломали, опускали без всякого формального разбирательства и правил, которых придерживался покойный Порфирий, воспитанный царским режимом. Почти каждый день в блатной барак долетали известия о жестоком позоре или гибели бывших «положенцев». «Была наша зона „красная“, а стала опасная», – вздыхали шепотком шныри.
В то же время по стенам бараков, строительных объектов и сланцевых карьеров, где работали заключенные, то и дело появлялись наскоро написанные краской и мелом лозунги. Неизвестный «Комитет» призывал лагерников не выходить на работу, не вырабатывать норму, «пока не будет полной амнистии». Даешь забастовку! Требуем правды! Политических – на свободу!
При такой нервозной обстановке Лёнечка сидел будто птица на ветке. Минутка – и вспорхнет в небеса, только его и видали. Однако ждать этой минутки бывало ох как тошно. Подумывал жиган, уж не попроситься ли снова на расконвой к Воронцову, а то и слечь в больничку с кишечной коликой.
В полусне приходила шальная мечта – объявить себя, навязаться в семью к Азначееву, закрутить с молодой женой генерала. Даже имя перекатывал языком, будто пробуя на вкус – Александра. А как натешится жиган – так и подломит папашину квартиру да с вещичками в дальнюю дорогу, до самого Черного моря, в Крым. Там, говорят, и в январе тепло, прямо на траве валяются инжир и абрикосы, а по набережной круглый год гуляют курортники с тугими кошельками и сытыми бабами.
Но трезвым умом понимал, что не выйдет фокус насчет папаши. Пускай живет начлаг, не зная правды. Спокойней так будет и ему, и Лёнечке. На воле много радостей, забудется и зайчик на пальтишке, и горькая, полынная тоска по несбыточному детству.
С такими мыслями после завтрака выходил из пищеблока, когда его отыскал глазами среди прочих и окликнул знакомый надзиратель по фамилии Пестик.
– Маевский, тащи кости на КПП. Свиданка тебе оформилась. По родственной части.
– Брешешь? – изумился Лёнечка.
Надзиратель глянул в сторону вышек, сплюнул под ноги, растер сапогом.
– Шагай, чего зенки лупишь. Тетка до тебя приехала.
И тревожно, и смешно сделалось Лёнечке. Жил-был один как перст, а тут и папаша отыскался, и тетка невесть откуда. На КПП уточнил имя родственницы – Тереза Петровна Маевская, прибыла из города Гомеля.
Вместе с жиганом сдернули на досмотр математика, опущенного еще по воле Порфирия. Студент получил неблагозвучное погоняло Нашмарка – из-за вечно плаксивого лица и мокрого, шмыгающего носа. На губах у него гноились болячки, изношенная вдрызг одежда с чужого плеча распространяла запах гнили. За неопрятность студента не жаловали даже свои петухи.
От Лёнечки Нашмарка отскочил как ужаленный; жиган в насмешку цыкнул зубом, отпустил веселое ругательство.
В комнате свиданий за длинным столом уже гундосили два мурика из пятого барака, один плакался жене, другой мамаше. Завидев жигана, притихли, перешли на шепот. Одиноко сидела девушка – пухлые губки, косы баранками. К ней было сунулся Лёнечка.
– Какая приятная встреча!
Но пупкарь гаркнул в спину:
– Проходи на шестое!
На шестом месте обнаружилась женщина лет пятидесяти, в городском платье, но в деревенском платке с мелкими цветочками. Ее доброе лицо, обсыпанное веснушками, сразу напомнило Лёнечке убитого в блокаду кореша.
Встал жиган как на театре: публика вокруг, в животе бурление от капустной лагерной диеты, на душе, будто окна распахнули, – сквозняк.
– Тетя, Тереза Петровна! – крикнул звонко, улыбкой ослепил. – Какая радость вас увидеть снова!
В глазах ее мелькнуло удивление, но всё же привстала, и он расцеловал женщину в обе щеки, нагнувшись через стол.
– Маевский, сел как положено! – одернул цирик и, дождавшись исполнения приказа, пошел к дверям покурить.
– Как сами, как здоровье? Как родственники наши? – сыпал Май, чувствуя холодок под ее пристальным взглядом.
– Значит, живой ты, Лёня? – спросила, оглядывая, будто с сомнением.
– Да вроде под образами не лежу, – хохотнул натужно Май.
– А нам извещение было, что вы с матерью на Пискаревке похоронены. Я проездом в Ленинграде зашла в жилконтору. Говорят, опознали вас среди трупов в сорок втором году, – тетка вздохнула. – Меня ведь ваш начальник колонии разыскал. Письмо пришло, я и поехала.
Понимая, чем обернется дело, Лёнечка не давал ей опомниться. Показал на сумку.
– Чего там у вас?
Закопошилась, вынула сверток.
– Второпях собрала, гостинца тебе. Пряники, сало, сыр домашний. Хлеб.
– Сыр давайте, – он развернул тряпицу, отломил, начал есть. Нагнулся поближе. – А гроши, тетенька, есть у вас?
– Деньги? – она поджала губы. – Есть маленько. Дать, что ли?
– Одна на вас надежда, – заныл, зажалобил Лёнечка. – Голодуем! Хоть сутками работай, всё одно начислят кукиш с маслом, начальство-то проворовалось… А в промкооперации дороговизна! Одежу я чужую взял, чтобы не позориться. А так в дырявых ботинках хожу, ревматизму нажил – одно мучение!..
Женщина полезла под юбку, где у нее в чулке был спрятан поистертый гаманок. Открыла, хотела отсчитать сколько-то, да вдруг засовестилась, вынула всё.
– На вот, полтораста. Себе на дорогу только возьму…
Май цапнул деньги. Жевал сыр, одновременно в кармане сворачивал купюры тонкой трубочкой, чтобы запрятать в потайное место.
За фанерной загородкой, которыми стол был разделен на шесть частей, тихо зудел Нашмарка. Девушка с пухлыми губками вместо сочувствия лезла советовать – мол, надо лучше работать, поставить себя в коллективе. Лёнечка сообразил – сестра. И схожа на личико, и характер, видать, такой же гордый. Да некому поучить.
– Что про отца-то не спросишь? – тетка слегка отстранилась, снова пристально оглядывая жигана.
– Как здоровье папашино? – ляпнул Лёнечка, думая о своем – пронести бы деньги мимо охраны, не делить с Луковым и новыми положенцами. Времена нынче такие, что каждый за себя.
– Отец твой погиб геройски, при взятии Киева. Награжден орденом Красного Знамени. В школе нашей теперь уголок его памяти… Пионеры стоят в почетном карауле.
– Вот дело! Приеду – погляжу. Где вы живете-то теперь?
– Да всё там же, – настороженно отвечала женщина. – Инда не помнишь?
– Помню, отчего же, – жиган подмигнул сорочьим глазом. – Да только малость смутно.
Тетка замолчала. Он доел сыр, отер руки о тряпицу. Сало развернул – его не спрячешь, надо нести блатарям на общий стол.
– Ножика-то не будет у вас?
За перегородкой Нашмарка вдруг тонко, по-звериному завыл, зарыдал, колотясь головой о стол. Лёня перегнулся, цыкнул:
– Ша, падло, парафин!
Опущенный затих, глотая сопли.
Тетка глядела на жигана, распахнув глаза. Шепнула одними губами:
– Кто ты, парень?
Май прищурился.
– К чему такой вопрос?
– Наш Лёня мальчик был светлый, весноватый. А ты навроде татарина и волосом черный.
Жиган сгреб сало, пряники, сунул котомку за пазуху.
– Война меня обуглила, тетенька. До самых печенок сожгла.
Цирик Пестик выглянул из коптерки, объявил бакланам, что их два часа свиданки истекли. Лёня тоже поднялся.
– На передачке спасибо вам и за прочее беспокойство. Домой поезжайте, родичам кланяйтесь. Да язык-то за зубами держите, а то ведь я найду. И школу имени папаши моего, героя Красной армии, и адресок ваш у начальника спишу.
Женщина покачала головой.
– Бог с тобой, не пугай. Пуганая я.
– Значит, оба мы с вами, тетенька, люди опытные, должны друг дружку понимать.
Через КПП прошел благополучно, пронес и сало, и хрусты. В барак не поспешил, а завернул в секретный угол за кочегаркой, где при Порфирии случались толковища. Тут была щель между двумя кирпичными стенами. Если в нее протиснуться, открывалась ниша вроде колодца, с каменной лежанкой, на которую шло тепло от угольной печи. Тут прятал Лёнечка хороший ножик с наборной ручкой, выигранный в карты у покойного Камчи.
Май почистил щель ногой, отпихнул птичьи кости и перья – остатки кошачьего обеда, скользнул в нишу и прилег. Жевал сало с хлебом, думал о своем житье-бытье. Гадал, пойдет ли тетка доложить начальнику о происшествии, или хватит ей ума не поднимать лишнего шума.
Время шло к поверке, жиган уже собрался вылезти из своей щели, как заслышал неподалеку голоса. Сообразил, что новые хозяева барака – Фомич Хромой, Луков и Кила – завернули в потайное место почирикать на рыбьем языке. Затих, прислушался.
Зэки замышляли оборваться – совершить побег из зоны. План подготовил сам Голод, которому, видно, опостылела давиловка в ШИЗО. Всем прочим участникам сходки тоже маячили впереди немалые срока, вот и решили дернуть судьбу за хер.
Луков сообщал: завтра, в ранних сумерках перед вечерней поверкой, к воротам пойдет машина с тюками грязного белья для прачечной. К этому времени Голода поведет в столовую цирик подмазанный, Коля Моряк. Он изобразит, что растерялся, и даст Голому Царю забрать свой пистолет. Фомич и Кила должны захватить машину, шофера взять в заложники либо убить. И дальше, не дав охране опомниться, таранить ворота и гнать по трассе до ближайших лесов.
Положенцы, видно, не в первый раз обмусоливали подробности побега, спорили. Фома сомневался насчет вертухаев на вышках – мол, положат их очередью из автомата, да и весь сказ. Горе Луковое представил новый аргумент.
– Заложницу берем, в нее стрелять не станут.
– Кого это?
– Хозяйскую кралю, – Луков понизил голос. – Завтрева апелляции разбирают в актовом зале, и адвокатша там будет. Ее к шестому часу вызовут на проходную. Захватим, ей и прикроемся.
– Да как ты ее вызовешь?
– Мол, срочное письмо, из Москвы. Наш человек занесет.
На зоне давно прознали, что московского генерала, папашу жены начлага, причалили по делу Берии. Красючка ходила через зону бледная, со сжатыми губами. В лица заключенных не смотрела – видно, по инструкции. Но охрану не брала, из гордости. Мол, дисциплина в лагере строгая, никто не посмеет обидеть жену начальника лагеря. Этим и решил воспользоваться Голод. Луков распределял роли:
– Вы пойдете в лабаз, вроде купить папирос. Помешкаете там у дверей. Я буду недалече. Как Голода выведут, так подойдет машина. Вы с Фомушкой прыгайте в кабину, давите шофера. Там и красючка подбежит, я ее приму. Заточку ей к шее – и в машину. Голод сам запрыгнет в кузов.
– Я десятку огреб по звонку, а этот облакшить нас хочет, в обратники, срока добавлять! – кипятился Фома. – В петлю голову суем…
– Остынь, яйца в жопе испечешь, – лениво огрызнулся Луков.
– Дело воровское, – сказал как отрезал Кила. – Бог даст, на волю вырвемся.
– А коль не даст?
– Тогда в блатное небесное царство, до корешей любезных на свиданку.
Еще потолковав, полуцветные разошлись, и Лёнечка, повременив, вылез из своего укрытия.
Чужое дело, а застряла заноза в башке. На поверке, пока староста зачитывал газету, Лёня всё поглядывал на Лукова – легко ему рассуждать, а каково на деле выйдет? Фома Хромой стоял как в воду опущенный, зато Кила – тридцатилетний угрюмый вор, зарезавший семью бухгалтера в Подмосковье, выглядел довольным и даже радостным.
Ночью на вагонке жиган ворочался, обдумывал ситуацию. Может, выгорит у Голода оборваться, а может, застрелят их на КПП – куда ни кидай, а бабе Азначеева беда. Случайной пулей убьют или заточкой в шею лебединую. А то в лесу по кругу пустят – и в болото.
Пойти, рассказать Азначееву? Подписать себе навеки приговор, объявиться мосером, предателем блатного братства? По воровскому катехизису донос на корешей карается смертью. Можно, конечно, надеяться, что начлаг его прикроет, не позволит выплыть наружу бумажкам – без описи и прописи вертухаи ведь и шагу не ступят. Пошлют положенцев на строгий режим. Фома, Кила да и сам Луков, может, еще спасибо скажут, что шкуры свои спасли. А там забудется дело, да и Голод иначе как-нибудь нарвется на расстрел.
Да нет, не забываются такие кренделя. На трупах мосеров мочой расписываются каторжане. И хуже смерти бывают кары, которым подвергают перевертыша-доносчика.
Так ничего и не надумал жиган, под общий храп и стон барака уснул.
Крым во сне увидел Лёнечка. Будто он плещется в теплой воде, и тут же плывет лебедицей жена Азначеева в желтом купальном костюме. А может, не она, а та красотка с засаленной журнальной картинки, которая прежде висела над нарами Порфирия, а после пропала, будто нырнула вслед за хозяином в небытие. И Лёнечку плывущего кто-то схватил за лодыжку и дернул вниз. Глядь – а под ним в воде соромная рыжая баба, смеется, осклабив зубы, и тянет жигана на дно, в хрустальную пещеру.
А там уж скачет зайчик с кармана детского пальтишки, и мать, и сестренка, будто живые, сошли с фотографии счастливого семейства.
Проснулся жиган отчего-то в слезах. За всю жизнь не помнил, чтобы так больно жамкала сердце тоска. Решил – а чего решил, и сам не понял.
Макария
Генерал-лейтенант Азначеев наблюдал, как весь уклад лагерной жизни, сложившийся в послевоенное десятилетие, амнистия расшатала за пару летних месяцев. На волю пошли «мужики», осужденные по «бытовым» и хозяйственным статьям, водилы-аварийщики, мелкая блатная сошка. Массово освобождались военнопленные. Именно эти категории заключенных «давали план» и составляли основу кадров Спецстроя.
Без тягловой опоры «мужиков» лагерное сообщество начало разваливаться на два неравных ломтя. Бо льшую, но разнородную и в основном пассивную, запуганную массу составляли «политические», сидящие по доносам или «прицепом», по соучастию в крупных процессах. Меньшую, но могучую и почти бесконтрольную силу представляли уголовники с большими сроками – по Указу от 4 июня 1947 года, прозванному «четыре шестых», за любой рецидив сроки были повышены до двадцати пяти лет. Выделялись опасные бандиты «тридцатипятники», для которых свобода представлялась совсем туманной перспективой.
Урки отвергали тяжелый труд на «общих работах», иногда предпочитая даже смерть. Политические часто были неспособны выполнить норму по состоянию здоровья, с непривычки, из-за отсутствия необходимых компетенций.
Вместе с тем начальство колоний подвергалось суровым мерам воздействия за неисполнение плана строительных работ, лесозаготовок, добычи угля и руды, поэтому в некоторых лагерях затягивали с оформлением амнистий, ожидая из министерства сокращения норм выработки. Повсеместно на работы стали выгонять блатных без разбора иерархии, и борьба за выживание в среде самих уголовников сделалась еще более ожесточенной.
Все эти факторы стали причиной бунтов, неповиновения и «волынки» на зонах всей системы ГУЛАГа начиная с мая 1953 года.
Карта сражений «сучьей войны» растянулась от восточной к западной границе СССР. Нарвский исправительно-трудовой лагерь, содержание в котором по сравнению с другими зонами считалось «курортом», не избежал всеобщего брожения. Откуда-то появлялись самодельные листовки с опасными призывами, участились отказы от выхода на работы, были случаи нападения на надзирателей. Из министерства генералу Азначееву поступали срочные депеши. Начальство требовало усилить дисциплину и агитацию, не допустить массовых выступлений, перевести охранные батальоны на особый режим.
О стычках и убийствах в блатном бараке Азначеев знал от верных доносителей. Много неприятностей доставило так называемое «воцарение» опытного рецидивиста Гольцова по кличке Голод или Голый Царь.
По негласному соглашению руководства лагерей уничтожение внутри зоны «идейных», не подлежащих перевоспитанию уголовников, считалось чем-то вроде санитарной процедуры. Расследование таких убийств велось формально, чаще всего в графе «причина смерти» указывались болезнь или несчастный случай. Однако в последние месяцы число таких смертей в ИТЛ-1 сильно превысило средние показатели. Избиения, насилие и убийства по приказу Голода продолжались даже несмотря на то, что сам рецидивист был помещен на строгие условия содержания и регулярно отправлялся в штрафной изолятор.
Азначеев понимал, что имеет дело с опасным и умным врагом. Голый Царь, окруживший себя верными приспешниками, имеющий связи с уголовным миром по всей стране, пытался взять под контроль и превратить лагерь в одну из «черных» зон, где правит неписаный воровской «закон». В таком лагере человек оступившийся, изначально не имевший преступных склонностей, или погибал, или перенимал идеологию закоренелых уголовников и, следовательно, переставал верить в социалистическую законность.
Азначеев по себе знал, какой это опасный путь – разувериться в справедливости общества, почувствовать себя изгоем. Или, еще хуже, сделаться частью той враждебной силы, которая этому обществу хочет диктовать свои звериные порядки.
Сам попавший в жернова неизбирательной «чистки рядов», Назар смог подняться над личной обидой, осознать безжалостную историческую необходимость. Социализм выметал остатки «прошлых» людей. Метла эта, как французская гильотина, однажды запущенная, сама остановиться не могла.
Если отдельных людей позволено и даже прекрасно убивать по классовому признаку, значит, позволено убить и тех, кто был недостаточно сноровист в убийствах, а после и тех, кто слишком много убивал. За ними следует устранить и свидетелей, и сторонних наблюдателей. И тех, кто просто помнил прежнее устройство жизни, когда убийство еще казалось чем-то из ряда вон выходящим.
Возможно, понимание этих причин и спасло жизнь Назару, хотя, скорее, здесь сыграл роль случай. На допросах его не били, хотя и мучили бессонницей, голодом, жаждой. Но все же доносить на товарищей он отказался, послаблений не просил. По совету сокамерника написал кассацию на приговор, хоть и не рассчитывал на благополучный исход. И вот уже в лагере, где он оказался в начале войны, пришла повестка о пересмотре дела. Попался въедливый адвокат, буквально вытащил Азначеева с нар, опираясь на процессуальные нарушения в ходе дела и несостоятельность обвинения.
Освободили, направили в Кузбасс, назначили в руководство треста по управлению шахтами – фронту и тылу требовался уголь. Работал сутками без сна, налаживал отправку составов в Москву, Курск, под Сталинград. Подал документы о реабилитации. Начал искать семью.
Узнал, что жена после его ареста вернулась к матери в Ленинград. Чтобы детям не носить печать «семьи врагов народа», вернула девичью фамилию – Ненужная. Эвакуироваться из города они не успели или не смогли. Умерли, похоронены где-то в общих могилах.
В конце войны поехал сам, получил свидетельства о смерти. Спустя пять лет, уже работая в системе Спецстроя, встретил юную красавицу Александру, дочку того адвоката, который перед войной спас ему жизнь. Оттаял сердцем, полюбил ее в ответ на преданную, нежданную и незаслуженную, как думалось, любовь.
И вот теперь эта история с молодым уголовником и делом банды «Кушелевка», захваченной на толкучем рынке возле одноименной станции. Бандиты промышляли грабежами, мародерством, торговлей человечиной под видом котлет из собачьего мяса. Главари были расстреляны, торговки отправились в тюрьму, а несовершеннолетние беспризорники – в исправительные интернаты. Но разве кто-то может выправить жестокий вывих человеческой судьбы?
В списке банды нашел Азначеев имя своего малолетнего сына – Леонида Ненужного. Значилось рядом имя его малолетнего товарища Лёньки Маевского – вора, который спустя много лет по случайному совпадению оказался среди заключенных нарвского ИТЛ.
Тетка Маевского, приехавшая в лагерь по письму Азначеева, после свидания зашла к начальнику в кабинет.
– Простите, что беспокою. Только не наш этот парень, не своя кровь.
– По документам ваш, – возразил Назар, поднимаясь из-за стола, придвигая женщине стул.
– Наш был светленький, рябой. У нас вся семья такая, и жена у брата светлая была, – тетка вынула книжку паспорта, из обложки достала мутную фотографию.
И правда, щербатый мальчик, на ней изображенный, имел мало сходства с Маевским. Круглое лицо, веснушки, белые волосики.
– А этот, которого я видела, другой породы. Брови густые, кожа смуглая. С вами схож, уж извините за сравнение.
Сердце стукнуло тяжело, Азначеев почувствовал прилив крови к голове, неприятный тонкий звон в ушах. Давно и сам подметил, думал мучительно об этом сходстве, о потерянном сыне, который мог быть сейчас ровесником заключенного под номером К-789.
Женщина вздохнула, начала перевязывать платок.
– И парень-то, видать, неплохой. Да закрутился. Страшное время им выпало. Уж очень много со всех сторон надвинулось, и всё непрошеное.
Азначеев отдал ей фотографию.
– Да, теперь я вижу, что это ошибка. Мы постараемся разобраться. Извините, что вам пришлось впустую проделать такой долгий путь.
Она улыбнулась – начлаг успел подумать: «Какое доброе, светлое лицо, как у верующих в пасхальный праздник».
– А может, и не впустую. Может, так и надо было, чтобы я приехала. – Женщина посмотрела Азначееву прямо в глаза. – Там ошибок не бывает.
Всю ночь Азначеев поднимался с постели, курил. Язва застарелая крутила желудок, болела, не давала сна.
Что, если насмешливый этот блатарь – и в самом деле сын его, потерянный и вновь обретенный? Напуганный беспризорник, которого поймали в заледенелом, вымершем городе, мог назваться чужим именем. Судьбу поменял, а сознаться не хочет. Что ж делать ему, Назару – тоже молчать?
Уйдет Маевский по амнистии и потеряется навсегда. Зарежут в пьяной драке, или дел наворочает, снова окажется в лагере. А он, Назар, будет жить с чувством вины и ничем уже не сможет оправдаться перед собой. И вроде он не виновен, а на душе – грязь и тяжесть, будто предал память самых дорогих ему людей.
Саша спала беспокойно, бормотала что-то во сне. У нее своя тревога – более ста человек арестованы по делу Берии, трясут всё руководство МВД, отцу ее грозит высшая мера. На маршала и его приближенных спишут теперь все грехи, преступления и ошибки власти.
Как она сказала, эта женщина: «Там ошибок не бывает»?.. Где – там? У Бога?
Уснув уже перед рассветом, наутро Назар твердо решил вызвать Маевского на разговор. Однако день выдался хлопотный – по складам развозили запас овощей на зиму, уплотняли третий барак, чтобы шестой поставить на ремонт, там давно протекала крыша. В красном уголке собирался суд по апелляции группового дела о хищении кожи на сапожной фабрике. И Азначеев всё откладывал личное, находились более неотложные вопросы.
В обед, когда наскоро пил чай в кабинете, надзиратель принес запечатанный конверт, подброшенный в столовую. Печатными буквами был указан адресат: начальнику Азначееву, «лична в руки».
Азначеев достал листок, прочел:
НАЧАЛЬНИК СМОТРИ КРУГОМ
ЖЕНУ ОТ СЕБЯ НЕ ПУСКАЙ
Снова заныл язвенной болью желудок, кровь тяжело прилила к голове, ноги заледенели в сапогах. Сунул записку в карман, по лестнице вниз, по коридору, гулкие шаги.
Велел надзирателю вызвать со слушаний Сашу.
– Без меня из административного здания не выходи. Слышишь?
– Да что случилось? – Жена смотрела прямо, не моргая, и он, как часто бывало, невпопад, залюбовался гармонией ее лица, впитывая всей душой ее красоту, жадно, как пьют в жаркий день прохладный напиток.
– Я получил записку с угрозами. Слышишь меня? Никуда не выходи.
– Ерунда. Показывать, что нас можно запугать – это самое глупое…
Перебила себя, кивнула:
– Ну хорошо, хорошо, после заседания – к тебе. Прости, я сейчас выступаю…
Дверь приоткрылась, голос обвинителя перечислял номера и даты накладных, подшитых к делу. Бедная, ей всё это слушать. Но за каждой этой бумажкой – сломанная жизнь или возможность исправления.
«Есть ли она, эта возможность?» – подумал с горечью. Болело сердце. Да, сын. Уголовник, блатной.
Из курса древних языков, которые изучал на юридическом, помнил мало, но это слово, изобретенное греками – syneidesis – застряло в памяти. Переводили как «сознание долга».
В русском это не долг, а известие, знание, данное каждому в отдельности, но совместно понимаемое людьми. Со-весть – боль души, совместно проживаемая.
Азначеев курил возле окна в кабинете, смотрел на ясный, полносолнечный день, щедро, богато расточающий последнее осеннее тепло.
Сел пересматривать дела новоприбывших, краем уха слышал – прошли под окном заключенные с больничных нарядов, у шестого барака идет перекличка. Проехала машина. Собаки залаяли на КПП.
Собаки мешали сосредоточиться, лай становился всё громче. А вот кричат. Да что там у них?
Свесился из окна – у КПП застряла машина с тюками белья для прачечной. Надрывались собаки. Откуда там женщина, что это? Саша? Кто-то вдалеке кричал пронзительно. Чайка? Азначеев вдруг разобрал слова: «Попишу! Отойди, попишу!» Выстрел.
Назар побежал, схватив с крючка фуражку, на ходу расстегивая кобуру.
Машина протаранила ворота и выехала за периметр, вслед ей стрелял неумело Игнат Котёмкин, разжалованный из младших офицеров за пьянство. Еще два надзирателя бестолково трусили за стремительно удалявшимся грузовиком с криками «Стой! Буду стрелять!». С вышки полилась автоматная очередь, взбила пыль на дороге. Одна из сторожевых собак оборвала веревку и от страха кинулась в сторону бараков.
Кто-то лежал на земле. Александра склонилась над ним, руки и грудь испачканы кровью.
– Что, Саша, ты ранена?! – Назар схватил ее, поднял. – В госпиталь, скорей…
– Нет, нет, – женщина отбивалась. Глаза потемнели – это зрачки, расширившись, почти закрывали серую радужку. – Не меня, его…
Лёнечка Маевский лежал на траве, прижав к животу руки. Из-под его пальцев, булькая, вскипая пеной, вытекала на землю кровь. Завидев Азначеева, он захрипел, будто что-то силился сказать.
– Врача, вызовите врача! – крикнула Саша.
– Не мочи кока, какой мне врач, – явственно и насмешливо произнес умирающий. Изо рта его булькнул фонтанчик крови.
Назар нагнулся и заглянул ему в лицо. Спросил беззвучно, одними губами:
– Ты – сын мой?
На губах его мелькнуло что-то вроде усмешки. Сорочьи черные глаза подернулись пеленой, угасая. Кровь неостановимо проливалась, уходила в землю. Азначеев опустился на колени.
– Скажи, я должен знать.
Парень устало прикрыл веки, шепнул:
– Живи как есть, начальник.
Замолчавшая было собака тихо зарычала, словно почувствовала приближение чего-то неизвестного и страшного.
Лёнечка вдруг ожил, приподнялся, улыбнулся, будто бы от радости нежданной встречи.
– Гляди, Макария… пляшет!
В эту минуту Азначеев вспомнил совсем позабытое – рыжую Макарию, молодую няньку, выписанную из деревни к маленькому Лёне. Веселая, смешливая девка выплясывала перед кроваткой, трясла погремушкой, и мальчик успокаивался, начинал улыбаться.
Сын, был у Назара сын. Но теперь растворился, весь ушел в землю.
Саша схватила и стала трясти Азначеева за плечи.
– Он спас меня, слышишь? Собой закрыл! Они хотели… Он спас!
Назар стоял молча, будто не слышал. Лицо его с глубокими резкими складками возле рта дрожало всеми мускулами. Он плакал тайно, внутри себя, без слез, не издавая звуков.
Через три года Азначеев умрет после операции язвы желудка. Так же, как и Лёнечке, в последний миг ему явится Макария, богиня блаженной смерти. И прощальные слова Назара навсегда останутся загадкой для его безутешной жены.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































