Текст книги "Уран"
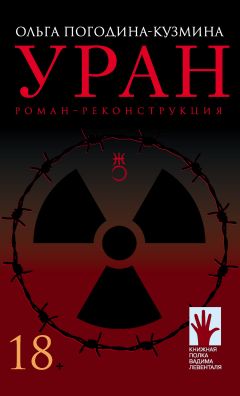
Автор книги: Ольга Погодина-Кузьмина
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 23 страниц)
Богиня Иштар
События государственной значимости катились как с горы, отвлекали от дел ленинградское начальство. А следователь Аус рад был задержаться в эстонском городке. Заручившись письмом от школьного товарища, прокурора республики, он второй раз продлевал свою командировку. Расследование пока не давало результатов, но Юри постепенно сужал круг подозреваемых, изучал людей и текущую обстановку. Он чувствовал, что загадочные убийства на Комбинате могут иметь весьма значимые политические причины.
Жил майор в доме начальника местного отдела милиции. Из вежливости отказывался, но Лозовой настоял на своем. Поставили раскладушку на просторной веранде, снабдили гостя всем необходимым.
Щитовой домик еще дореволюционной постройки, чудом уцелевший при обстрелах, стоял неподалеку от моря, в сосновых дюнах. До войны дом сдавали под дачу, во время оккупации здесь жили немецкие офицеры, и бытовые условия, особенно в сравнении с шумным, не всегда трезвым рабочим общежитием, представлялись майору Аусу настоящим курортом. И сердце не давало знать о себе, почти забылась тянущая боль, которую приходилось укрощать валидолом в самые неподходящие моменты.
Особенно свободно стало, когда жена капитана Лозового, школьная учительница, вместе с двумя ребятишками уехала на каникулы к теще в Тульскую область. В дом приняли молодого оперативника Жураву, который ждал комнаты в новом доме, а пока был рад пожить на природе, в компании опытных товарищей.
Здесь Юри мог делать в саду гимнастические упражнения, обливаться холодной водой, бороться в шутку с молодым сержантом, не пряча от посторонних глаз своей культи. Руку ему оторвало еще до войны, во время облавы на бандитов. Преступник, бывший офицер учебной части, убегая, бросил гранату. Кисть Ауса отрезало осколком, его товарищ погиб. Из-за увечья хотели отправить его на пенсию, но с началом войны вернули в должность – сказалась нехватка специалистов. Деревянная рука хоть и не заменяла живую, но думать не мешала. А в работе следователя главным инструментом всё же оставалась голова.
Холостая жизнь с Лозовым и Журавой сложилась более чем прекрасно. Завтракали кашей, домашним творогом, на ужин варили сосиски или макароны с тушенкой, иногда немного выпивали. По вечерам Журава уходил на свидание к невесте, и майор с капитаном курили на крыльце, вспоминали юмористические случаи из практики, травили анекдоты.
– Слыхал про двух пилотов в воздухе?
– Ну?
– Пилот спрашивает: «Ты карты взял?» Штурман отвечает: «Взял, конечно. Две колоды».
– А тот что?
– Эх, снова по пачке «Беломора» лететь…
Жизнь походная, будто на привале перед атакой.
В глубине души майор Аус убежден был, что именно такая жизнь подходит мужчине, который в молодые годы не обзавелся семьей, не оброс мещанским бытом. Сам он был из таких. Бобыль, закоренелый холостяк.
Впрочем, куда бы он ни поехал, рядом всегда появлялась женщина, готовая принять его в любой час дня и ночи. Даже укорял себя за то, что пользуется бабьей тоской, обездоленностью военной. Много повидал красивых, добрых, одиночеством придавленных женщин.
Задержаться с какой-нибудь из них не случилось, да и не хотелось. Где-то в дальнем углу души майора, очерствелой к людям, вытоптанной подошвами чужого горя, сидел росток мечты о внезапном чувстве. В книжках читал, как это бывает – вдруг окатит, словно дождевой водой с куста сирени, переменит всю жизнь. Но любовь не приходила, да и трудно было представить такое с его работой. По службе приходилось наблюдать простейшие виды женской породы – глупых жен номенклатурного начальства, обманутых девиц, воровок и проституток всяких возрастов и обличий.
Здесь, на Хуторе № 7, впервые за долгое время он встретил женщину, которая сдвинула в душе какой-то важный клапан.
Закуривая самокрутку от одной спички с Лозовым, разворачивая газету «Труд» с панорамой нового германского города Сталинштадта, Аус чувствовал на своем лице прикосновение влажного морского ветра и вместо чтения думал о Таисии Котёмкиной. Вспоминал негромкий, с грудными нотами голос, каштановые завитки волос возле маленьких ушей, румяные свежие губы.
Думал, откуда в русской женщине из крестьянства, не получившей толком образования, битой мужем, принужденной обстоятельствами к тяжелой неблагодарной работе, взялось это чувство такта, собственное достоинство? Выходит, не зря жестокий плуг истории ворочал комья человеческой пашни? Недаром брошены в народ зерна идей справедливости, равенства, братства? Смелость и благородство в этой женщине сформировали уроки советской школы. И фильмы, и книги, и люди, встреченные на житейском пути.
И это лишь первые всходы, а дальше уже колосится жатва новых свободных людей. Побои и воровство, доносы и дикое устройство патриархальной жизни станут для них чем-то чуждым, далеким, как для нас – борона-суковатка, выставленная в музее.
Так размышлял Аус, вспоминая свои угасшие порывы и сомнения, которых не мог избежать человек, переживший то, что довелось ему. Вслух бы не признался в этом, но про себя понимал, что задержался в режимном городке ради Таисии.
Впрочем, помимо приятных надежд, Аус ожидал и нового убийства в городке. И события не заставили себя ждать.
На Комбинат прибыли молодые рабочие, выпускники ремесленного училища, всем требовалось оформить пропуска. Из месткома сигнализировали, что фотографическая мастерская закрыта в рабочее время. Хватились фотографа. Соседи сообщили, что он третий день не ночует в своей комнате. Майор Аус с Журавой выехали на место.
Ателье фотографа находилось в здании общественной бани, рядом с парикмахерской. Слесарь вскрыл дверь при понятых. Труп обнаружили в проявочной лаборатории. Мужчина стоял на коленях, в неестественной позе, свесив голову – удавился на веревке, накинутой на гвоздь, вбитый в дверную притолоку.
Журава осмотрел место происшествия под протокол. Отметил, что единственное в помещении окно, выходящее на пустырь, заросший кустами, только прикрыто и рама не защелкнута шпингалетами. Край тюлевой занавески оборван с крючков. На столе коробки с листками заказов и отпечатанными снимками. Фотографии в коробках перепутаны, словно их рассыпали и собирали в некоторой спешке. Ножки стола сдвинуты – на пыльном дощатом полу обнаружились следы.
Аус разглядел в углу под шкафом пуговицу от мужской сорочки, вырванную, что называется, «с мясом» – вместе с кусочком голубоватой ткани. Вспомнил, что в этом деле ему уже попадались схожие улики. При осмотре леса, в котором обнаружили тело шофера Ищенко, у корней большого ясеня, майор заметил и собрал четыре черных стеклянных пуговки. Выяснилось, что такую галантерею используют слишком уж широко, от дамских блузок до школьной формы, которую изготовляли местные портнихи. И всё же следователь чувствовал, что эта находка еще сыграет в деле свою роль.
Предполагаемый самоубийца Кудимов, человек немолодой, склонный к злоупотреблению спиртным, по совместительству работал на комбинате художником. Оформлял киноафиши, некрологи. Вел фотолетопись предприятия. Здесь же, в ателье, хранил коробку с красками, подрамники, этюды и наброски.
Но главная находка обнаружилась в просторном кармане довольно засаленного пиджака самоубийцы. Несколько фотографий среднего формата, приведшие в смущение понятых, да и самого Жураву. Погибшая секретарша Нина Бутко представала на снимках в самом необычном виде.
Голову ее украшал убор, напоминающий короны египетских царей, плечи покрывало широкое ожерелье-воротник, частично нарисованное на коже, частично составленное из полукруглых предметов, напоминающих вареные яйца, разрезанные пополам. На фотографиях она стояла прямо, вытянув руки вдоль туловища, спиной или лицом к фотографу. Или сидела на стуле в позе древних фараонов – их статуи Юрию приходилось видеть в Эрмитаже. На всех снимках Нина представала обнаженной. Она улыбалась, ничуть не стесняясь своей наготы.
Рассматривая полноватое, свежее тело девушки, Аус невольно вспоминал изуродованный труп, вынутый из отхожей ямы. Эти фотографии – не есть ли первый шаг к ее гибели?
Закончили осмотр молча, подписали протоколы. Потом, уже в машине, Журава дал волю чувствам.
– Слыхал я прежде, мол, человек «допился до чертей». Но чтоб такими делами заниматься… Сам бы не видел – не поверил.
– Какие версии? – спросил майор.
– Ну какие… Закрутил голову девчонке. Она же в актрисы метила – вот тебе и карточки. А как узнал, что она ждет ребенка, испугался, запаниковал. Убил ее, может, случайно, по пьянке. А после совесть замучила. Ну и вот. Наложил на себя руки.
Аус кивнул.
– Да, правдоподобная картина. Или кто-то подводит нас к этой логике. А вот могла ли Нина польститься на такого незавидного ухажера?
– Художники, болтуны они все. Задурил девке мозги. Мифы какие-то, сказки.
– А в комнате ни одной книги. И рисунки – в основном пейзажи, виды городские. Портреты рабочих, старухи. Почему он не пытался ее нарисовать?
– Может, пытался, а ей не понравилось?
– Зато фотографии удались. Да, Журава, тут надо подумать.
Аус сложил фотокарточки и пуговицу в конверт, убрал в папку с делом Кудимова. И, подмигнув, запел куплет, отчего-то пришедший на ум:
Шел баркас, капитан на борту
Синий дым извлекает из трубки.
А в далеком английском порту
Плачет девушка в серенькой юбке.
Украденное счастье
Всё вышло, как задумала Эльзе. Матушка записала ее на курсы домоводства, и Павлик приехал на Комбинат, чтобы провести у моря каникулы – до самого сентября.
После занятий в клубе, а иногда вместо них Эльзе садилась на раму велосипеда, и они с Павлом ехали вдоль побережья на дальние пляжи. Бродили по лесу, горстями ели поспевшую землянику, искали в прибрежном песке янтарь.
Сбивчиво и горячо Павел пересказывал прочитанные книги, фильмы про шпионов. Читал стихи. Особенно любил он большую поэму, герой которой, мальчик-пионер, был убит своими родными в русской деревне.
Эльзе понимала не все слова. Семейная драма Павлика Морозова казалась загадочной, как события древних сказок. Но воодушевление чтеца передавалось ей, заставляя замирать от предчувствия жуткой развязки.
Леса и леса… за Уралом,
Где зимы намного длинней,
Деревня в лесах затерялась.
Лишь звезды да вьюги над ней.
Павлик часто вспоминал Москву, своих дворовых приятелей, товарищей по спортивной секции. Все они разъехались на лето, но в сентябре соберутся снова и будут гонять в футбол, запускать воздушных змеев. Но больше всего Эльзе любила слушать про чудеса советской столицы. Павел рассказывал, как сносят древние халупы, а вместо них возводят самые прекрасные в мире дома, самые широкие дороги, самые веселые парки отдыха – и девочке виделось райское царство, где повсюду красота, простор и золотое сияние. Нет на свете вкуснее московского мороженого, а газировку разливают чудо-машины, а в закусочной-автомате Моснарпита комплексный обед сам собой выскакивает из витрины.
Павел заставил ее верить в существование метро и в будущее счастье человечества. Ей тоже захотелось, чтобы все народы планеты когда-нибудь объединились в планетарный Коминтерн. Все слова, которые мать называла лживыми речами чужаков, по-новому открылись Эльзе.
Юный комсомолец из Москвы говорил, что все республики Советского Союза равны и уважаемы одинаково, а все национальности – узбеки, татары, украинцы, эстонцы – должны вместе, общим трудом, строить справедливый мир. Захват Эстонии в 1940 году он называл освобождением от капиталистического гнета и совсем ничего не знал о людях, которые прятались от советской власти в лесах по всей Прибалтике.
Вспоминая своего отца, погибшего на Украинском фронте, юноша однажды спросил, как пережила войну семья Сеппов. Когда Эльзе ответила, что ее братья и отец ушли в партизаны, Павел улыбнулся и кивнул. В его голове и настоящее, и прошлое было устроено совсем иначе, чем в детских воспоминаниях Эльзе и в рассказах матери. Владельцы заводов и фабрик – угнетатели, красноармейцы и коммунисты – спасители народов мира, немцы – звери, палачи.
Павел увлекался химией и инженерным делом, мог часами рассказывать о футболе, но не знал самых простых вещей. Эльзе учила его отличать съедобную «заячью капусту» от несъедобной травы, вытягивать за колосок и прикусывать нежные концы травяных стеблей, отдирать и жевать ароматную смолку на вишневых деревьях. Он даже не знал, что можно выдергивать перышки клевера и высасывать сладкий сок – и ему очень понравилось это занятие.
Они купались в холодном море, лежали на песке и говорили, говорили обо всем на свете. Вернее, Павлик говорил, а Эльзе слушала и размышляла. Изредка она задавала вопросы.
Как-то решилась спросить, почему каждый народ не может жить отдельно, в независимой стране. Павел показал ладонь.
– Ты видишь каждый палец по отдельности? Его можно взять и сломать, это просто. Но ты не сломаешь кулак, – он сжал руку и ударил ей воздух. – Нам для защиты нужен крепкий кулак, которого боятся капиталисты.
– Но раньше Эстония жила отдельно, и многим людям так было лучше.
Павлик нахмурился.
– Не знаю, кому было лучше. Богатеям, кулакам? Это им выгодно делить людей по национальностям и сталкивать между собой. Как ты не понимаешь, в мире будущего совсем не будет границ! Как сейчас в СССР. Например, ты можешь приехать ко мне в Москву точно так же, как я приехал к тебе в Эстонию. Ты можешь учиться в Ленинграде, работать в Сибири, отдыхать в Крыму… У нас одна большая родина. Раньше каждый народ владел лишь малым клочком земли, а теперь мы вместе владеем огромными просторами.
Они стояли на высоком берегу над морем, и Павел обвел рукой все окружающее пространство.
– Эстония, Латвия и Литва, Бурятия и Краснодар, Москва и Якутия – всё это одна большая Россия. Наша с тобой земля.
Эльзе видела, что его слова идут из глубины души. Но как совместить эти мысли с тем, что думала и чувствовала она? В такие минуты ее сердце разрывалось. Она знала, что нарушает свои клятвы, предает семью, мать и братьев, когда слушает чужака.
По ночам, лежа в постели без сна, Эльзе вспоминала руки Павла, запястья с широкими косточками, всю его стройную широкоплечую фигуру в плавках с золотым якорем. Представляла его лицо с пухлыми по-детски губами, пшеничными бровями и чуть раскосым разрезом голубых, как ясное море, глаз.
Парнишка русоволосый,
Очень похожий на мать…
Павел был чужак, исконный враг ее народа, такой же, как шофер Ищенко, напавший на девочку в лесу. Но Эльзе отбрасывала эту мысль. Любовь распускалась в ее душе, будто нежный цветок, внушая неизвестные прежде надежды.
Она продолжала носить еду в бункер, но вместо радости встречи с братьями теперь испытывала лишь чувство вины и тревоги. Ей всё меньше верилось, что откуда-то с Запада к ним придут помощь и освобождение.
Разве другим далеким народам есть до них дело? А русские в Эстонии строили города, заводы, военные части. Они готовились жить на этой земле, защищать ее вместе с теми эстонцами, кто перешел на сторону коммунистов. А таких становилось всё больше в поселках и городах.
Братья не могли не видеть этого. Осе тайком рассказал, что два партизанских отряда из соседней волости сдались властям и успели попасть под амнистию.
– Разве это жизнь – сидеть в лесу, гнить заживо? Сталин умер, заключенных выпускают. Если бы мы сдались раньше, нас бы простили. Но теперь, конечно, другое дело.
Еще зимой они ограбили почту, убили женщину-почтальона. Мешки с деньгами хранятся в бункере под столом. Худой сказал, что тратить их пока опасно – номера купюр переписаны в банке. Нужно переждать хотя бы год.
В марте Худой по приказу из центра заставил их убить семью коммуниста, председателя колхоза в дальнем уезде. Погубили пять человек, вместе с детьми. Вальтер оставил на месте знак «Ориона» и табличку с угрозами.
– За это дадут большой срок, – сокрушался Осе. – Но лучше уж отсидеть и выйти на волю свободными людьми.
Сам Осе не участвовал в тех убийствах. Правда, он вместе со всеми казнил шофера Ищенко, но это была месть за сестру.
Осе признался, что встречается с девушкой с Комбината, хочет жениться и уехать из этих мест. Бежать в Россию, взять фамилию жены – может, так его не найдут. Он знал, что это разобьет сердце матери, но еще больше боялся Худого. Говорил, что тот не оставит их в покое, пока все они не погибнут.
Разговор с братом случился у большого ясеня, Saar, где когда-то на Эльзе напал шофер. Девочка всей кожей чувствовала страх и отчаяние Осе и ужасалась за Вайдо, Арво и других братьев. Ей вспомнились стихи про детей, убитых в лесу:
А листья, краснее меди,
На мертвых летят и летят.
Уже не придется Феде
Вступать в пионерский отряд.
Смысла этой поэмы Эльзе так и не поняла до конца, но чувствовала, что история пионера Морозова как-то связана с ней, с ее братьями в лесном бункере и неизбежностью выбора между ними и Павлом, который становился ей все ближе.
Сердце ее томилось посреди безмятежного лета и словно украденного счастья.
Однажды ей стало по-настоящему страшно. Проезжая по городу вместе с Павлом, на велосипедной раме, она увидела Худого. Тот стоял на другой стороне улицы и ждал, пока они подъедут ближе.
Оборотень смотрел на девочку внимательным и бесстрастным взглядом. Как из пойманной рыбы вынимают крючок вместе с внутренностями, так этот взгляд доставал из ее груди все тайные мысли. Эльзе быстро отвернула лицо, но чувствовала спиной взгляд чужака, пока велосипед не повернул на лесную тропинку.
Лето, когда Бог простил нам все грехи
Вечерами Воронцов лежал в дюнах у берега, смотрел на пенистое море. Думал: всё в этом мире – волна. Свет, звук его собственного голоса, биение крови в венах. Гамма-излучение урана, незримо проникающее сквозь дерево, металл и костную ткань.
Возможно, Бог – тоже волна, и душа человека принимает его пульсацию, как резонатор, а затем отражает в мыслях, чувствах, словах.
Лёнька Май лежал рядом на песке, голый по пояс, в подвернутых штанах. Дремал, иногда вздрагивая всем своим загорелым гладким телом, зевал по-собачьи. Воронцов где-то читал: мозг посылает телу электрический разряд, чтобы проверить, уснул человек или начинает умирать. Это причина сонной судороги.
Павел, племянник Гакова, приезжал на велосипеде по лесным, умягченным хвоей тропинкам. Огибая корни, удивлял случайных зрителей, вскакивая на седло, поднимая на дыбы железную раму.
Лёнечка пытался повторить его трюки, но всякий раз ронял велосипед, падал на песок, заливаясь звонким смехом на высоких, женских нотах. Павел помогал ему подняться, тот закидывал руку мальчику на плечо, что-то шептал в самое ухо. Они вдруг срывались с места к воде, на бегу сбрасывая одежду.
Воронцов смотрел на них, так по-разному прекрасных, словно два полюса летнего безвременья. Зэк, смуглый вор с сорочьими глазами, и белокурый, белокожий комсомолец, названный отцом в честь Павки Корчагина, – одновременно ясный, но и таящий в себе загадку.
Иногда Павел приезжал не один – вез на передней раме хрупкую, застенчивую девочку-эстонку. Тогда велосипедные фокусы и купанье отменялись. Воронцов наблюдал за парой с меланхолическим чувством. Несбывшейся, прелестной казалась эта жизнь, их молчаливая любовь – словно из книжек Александра Грина.
А Лёнечка, зевая, подмечал, что снова натащили к берегу досок от разломанных сараев – для костров. Рядом валяются бутылки, помятые куски железа. Лёнечка лежит на расстеленной спецовке, подставив лопатки вечернему солнышку, читает на облезлой жести бледные буквы: «При ожоге кислотой обработай пораженное место водой и раствором соды». Нарисован кулак, вода из крана, банка с раствором.
Тянется Лёня глотнуть пива из почти пустого бидончика, касается руки Воронцова. Тот отдергивается, будто и правда кислотой обжегся. Интеллигент, вечно с книжкой. Но через минуту сам придвигает руку. Лежат теперь рядом, касаясь друг друга словно невзначай, и сквозь точку соприкосновения проходит по всей коже горячая волна.
Вроде как дружба у них. Разговоры о бабах, о детстве. О книгах прочитанных, о научных явлениях. По части образования Воронцов, конечно, дока. Но кто из них двоих лучше понимает жизнь, тут еще вопрос.
Инженер будто в прятки играет. Под лестницей, в темноте, когда его целует Лёнечка, стоит зажмурившись и дышит мелкими глотками. Мол, нету его, и не с ним всё это происходит. Понятно, страх – могут и срок нахлобучить за эти глупости. Опять же, позор перед людьми. Ладно бы с каким студентом, а то с вором, в подчиненной себе бригаде.
А Маевскому забава. Прищурит сорочий глаз с поволокой, закусит сосновую веточку и жует, глядит неотрывно. Воронцов терпит, кусает губы, молчит.
Один раз, в темноте, после самой горячей интимности, хрипло спросил про Циммермана. Мол, что да как у тебя с доктором-лепилой, отчего такая дружба? Эх, дорогой ты мой гражданин ученый, про то вам знать не обязательно. Однако Лёнечка почувствовал приятность, вроде как ревность у инженера к дружку сердечному, миленочку заветному.
Весь день жарило, и вечер опустился томный, светлый, хотя времени уже десятый час. Павлушка – смешной же кутенок – покатил свою маруху к автобусу. Лёнечка поднялся, чтоб окунуться напоследок в бухту, ухнуть с головой на глубину. Другой кусок заржавелой жести привлек его внимание. Штакетиной с ржавым гвоздем Маевский перевернул плакат. Изображен скорченный вроде как от боли, а может, и мертвый фраер в спецовке, а рядом мужик при усах, замахнувшийся топором. Смешно Маевскому, что за история такая. Читает Лёня по слогам: «Умей освободить пострадавшего от тока. При невозможности отключения руби провода». А проводов-то никаких на картинке и не видно, осыпались вместе с кусками ржавчины.
После купания с Воронцовым шли обратно через рощу. На прощанье Лёня повернулся, поцеловал инженера в губы, будто надолго прощался. Тот остался стоять возле дерева, а Маевский пошел, насвистывая «Танго соловья».
А утром заявился на работы Григорий Луков по кличке Горе Луковое, нарядчик из блатных. Пока Лёнечка расписывался в табелях, сунулась ему в руку свернутая бумажка. То была малява от смотрящего Порфирия, писанная округлым старательным почерком кого-то из подручных – молодого Ёршика, а может, бывшего церковного старосты Тырсова.
Там значилось: «Лёнечка, с нашим благорасполажением и ласковым приветом. Прибуть к завтрему на хату по наиважнейшему разговору, только берягися чужых людей. На сем остаемся твои любезныя кореша и сам руку приложил Порфирий Иваныч».
«Вам легко оно – прибудь!» – Маевский сплюнул от досады. Будто не знает старик хода лагерной бюрократии, в которой хоть имеется множество лазеек и поблажек, но напролом не попрешь, кости обломаешь. Однако и не выполнить предписания смотрящего Лёнечка не мог, нет у него пока такой силы, чтоб «забуреть» и отвечать Порфирию отказом. Да и дело, видно, серьезное, раз собирает титулованный вор «своих» по дальним командировкам. Не иначе как пошел в открытую против Голода, чей авторитет у бродяг, как слышал Лёнечка, неуклонно возрастал.
Ох, до чего не хотелось подыматься с теплого места, от морского берега; возвращаться в блатной барак, недаром прозванный джунглями. Там, как в обезьяннике, дух несвежих человечьих тел, хворобный пот, моча и злоба пропитали воздух. Мыслями уж давно он был на воле, да и привык проводить дни за картами, за болтовней с подавальщицами в столовой, а вечера на речке, гоняя мяч с местной ребятней или потягивая пиво с инженером.
Кроме прочих дел он было закадрил заведующую гастронома, пергидрольную блондинку лет сорока, всю обвешанную побрякушками, с золотыми коронками в глубине накрашенного рта. У козырной мадам можно покантоваться недельку-другую после освобождения, налопаться от пуза копченой колбасы. И тут малява Порфирия была ему некстати, мешала довести любовь до нужной степени кондиции.
Подумывал уже, не обойтись ли как-то хитростью, не подстроить ли, чтоб задержала его комендатура или хоть не отпустил инженер. Но Луков уже подсуетился, принес списать заявление, в котором Лёнечка просил командировать его к замначлагу для уточнения вопроса о досрочном освобождении.
Воронцов появился на стройке после обеда, узнав уже от бригадира, что Маевский просится отбыть в головной лагерь. Лёнечку с утра подначивали две разбитные малярши, перекидывались шуточками, сверкали – та, что помоложе, влажными зубами, старая – стальными фиксами. Воронцов не подошел, даже не глянул в их сторону, зато сорвался на безответных рабочих-урюков. Раскипятился, припомнил пропажу инструмента, который положенцы сбагрили «налево».
Пока инженер бестолково матерился, Лёнечка с ведром обойного клея поднялся на третий этаж, в ту приметную квартиру, где вместо постели были навалены старые телогрейки. Поглядывал из окна вниз, поджидая, пока гнев инженера пройдет и сменится печалью. Знал, что так будет – вначале сердится, после грустит каждый, у кого отнимают желанную игрушку, не дав натешиться вволю. Заслышав шаги на лестнице, Май встал за дверью, прижался к стене.
Алексей заметил его. Напугать не получилось, но Лёнечка всё равно оскалил зубы в беззвучном смехе, закружил по комнате.
– Какой черт тебя в лагерь-то несет? – зашипел Воронцов.
– Дела-делишки уркаганские, – обнимая, смеялся Лёнечка. – О тех делах тебе, дядя, лучше не знать.
– Глупо! Я столько потратил времени, чтоб тебя вытащить…
– Ты вот что, денег мне раздобудь. Задолжал я каторжанам, на себя забожился.
Инженер отпрянул.
– Денег? Сколько тебе нужно?
– Много нужно, дроля мой сердечный. Долги-то непрощенные, порвут мне жилы кореша, а то – заточку в печень. Две тыщи рубликов мне к вечеру добудь.
Инженер отпрянул.
– Таких денег у меня нет.
– Найди, где взять. Грешили вместе, чего ж мне одному страдание? А то гляди, я такой, что за собой на зону утащу!
Май засмеялся. Воронцов побледнел как известка, дернул щекой.
– Ты ничего от меня не получишь.
Дрогнул пол под ногами, прокатился волной гулкий звук удара – на соседнем участке вколачивали сваи. Лёнечка ткнул инженера в живот кулаком – не сильно, для острастки. Скрутил ворот телогрейки, приблизил к нему лицо.
– Да ты не лягайся, лягушечка! По-немецки лопотать-то не разучился, гнида подзалупная? Что, думаешь, я не слыхал?..
Глаза Воронцова заледенели, и Лёня успел удивиться, не обнаружив в них признаков страха.
– Ты, может, не понял? Так я проясню. Майор однорукий давно к тебе имеет интерес… Может, ты и есть тот диверсант? К вечеру неси лары, хоть рыжьем, хоть царскими червонцами…
С неожиданной хваткой Алексей сжал и отцепил от себя руки уголовника.
– Ты… Не смей. Не смей меня трогать!..
– А то чего, простудой заразишь? – жиган вдруг решил, что будет благоразумнее перевести разговор в шутку.
Но инженер даже не взглянул в его сторону. Повернулся, пошел вниз по лестнице тяжелыми шагами. Пережитое между ними оставило неприятный, нервный осадок. «Не испугался. Может, и правда – диверсант?» Чтоб сбросить тяжелое впечатление, Лёнька Май выглянул в окно и затянул на всю округу:
Дроля в лагере находится, красивое лицо,
Облягнувши на винтовочку, читает письмецо!..
Воронцов обернулся. В его взгляде было столько холодной ненависти, что Лёнечка чуть опешил, отступил от окна.
Молча инженер повернулся и направился в сторону охранного батальона. Маевский смотрел на его худую, долговязую фигуру, которая всё уменьшалась на дороге, и чувствовал, как душу заполняет неуютная пустота.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































