Текст книги "Фридрих Ницше. Трагедия неприкаянной души"
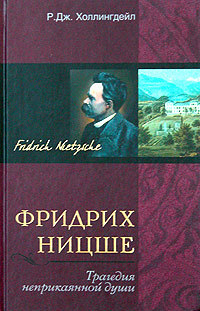
Автор книги: Р. Холлингдейл
Жанр: Зарубежная образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 23 страниц)
«На моем горизонте восходят идеи, подобных которым я никогда не видал, – писал он Гасту 14 августа 1881 г. из Сильс-Марии. [Речь идет об идее вечного возвращения, возникшей у него в том же месяце.] – Определенно, мне придется пожить еще несколько лет!.. Напряжение моих чувств бросает меня в дрожь и заставляет смеяться – пару раз я не мог выйти из комнаты по странной причине, что мои глаза воспалены… Накануне во время прогулок я каждый раз подолгу рыдал, не слезами жалости, а слезами ликования; и когда я плакал, я пел и молол чепуху, полон новых прозрений… Если бы я не обладал способностью находить силы в себе самом, если бы я ждал рукоплесканий, поддержки, утешения, где бы я был? чем бы я был? Конечно, случались моменты и даже целые периоды в моей жизни (например, 1878 г.), когда крепкое слово поддержки, рукопожатие согласия были бы для меня мощнейшим средством восстановления – и именно тогда все покинули меня в бедственном положении… Теперь я более не жду этого и испытываю лишь несколько смущенное удивление, когда, к примеру, думаю о письмах, которые сейчас получаю, – все это настолько несущественно… То, что люди мне говорят, исполнено заботы и хорошего отношения, но далеко, далеко».
2«Этой книгой я открываю кампанию против морали», – писал Ницше в «Ecce Homo» о «Рассвете» (EH-P, 1), но тон этой книги не агрессивен, как предполагает само заявление: на самом деле, нигде более он не обнаруживает такого покоя и ясного взгляда, такой свободы от словесных ухищрений и чрезмерностей, как здесь. «Человеческое, слишком человеческое» и его приложения были перегружены неразработанными идеями, что придает им скорее видимость компендиума, нежели самостоятельных наработок, но ко времени написания «Morgenro te» («Рассвета») Ницше вычленил из массы идей те, которые, по его мнению, могли привести к нескольким конкретным выводам: особенно его занимала мысль о том, что мораль развилась из жажды власти и страха неподчинения, и работа «Рассвет» в основном посвящена исследованию морали с этих позиций.
Первая трудность «проблемы морали», с которой столкнулся Ницше, состоит в том, что до сих пор ее вообще не считали проблемой. В предисловии ко второму изданию 1886 г. он объясняет неудачи всех предшествующих философов именно этой причиной:
«Почему начиная с Платона и далее каждый архитектор философии в Европе строил напрасно?.. Правильный ответ, вероятно, в том, что все философы строили под дезориентирующим влиянием морали… что они явно стремились к определенности, «истине», на самом же деле – к «величественным моральным построениям» (Р, предисловие, 3).
Универсальная идея такова, что мораль есть нечто «данное», что она существует как часть познаваемого мира; но это не так:
«Когда человек наделял родом все вещи, он воспринимал это не как игру, а как глубокое прозрение… Равным образом человек все связал с моралью и облек мир в этическую значимость. Однажды это будет иметь не большую ценность, чем сегодня имеет вера в мужское или женское начало солнца» (Р, 3).
Человечество гордится своей моралью и отрицает ее в животном мире; мораль – одна из основных гарантий божественного происхождения человека. Но животный мир воспринимает ситуацию иначе:
«Мы не считаем животных моральными существами. Но полагаете ли вы, что животные считают нас моральными существами? Животное, которое смогло бы заговорить, сказало бы: «Гуманность – предрассудок, от которого мы, животные, по крайней мере, свободны» (Р, 333).
И все же, если мораль считать обычаем, у животных она есть – причем такая же, как и у людей:
«Животные и мораль. Поступки требуют вежливого общества: осмотрительного избежания всего странного, оскорбительного, наглого; подавления собственных достоинств, а также наиболее сильных наклонностей; приспособления, самоумаления, подчинения порядку рангов – вся эта социальная мораль присутствует в грубой форме даже в глубинах животного мира, и только на этой глубине становится понятна цель всех этих милых предосторожностей: желание уйти от своих преследователей и быть удачливым в преследовании собственной жертвы. По этой причине животные научаются владеть собой и менять форму, так что многие, к примеру, принимают окраску окружающей их среды… Так индивид укрывается в общем понятии «человека», или общества, или приспосабливается к государям, классам, партиям, мнениям своего времени и места: и все искусные способы в желании казаться удачливым, благодарным, властным, влюбленным легко обнаруживают свои соответствия в животном мире… Начатки справедливости, благоразумия, умеренности, храбрости – короче, всего, что мы называем сократическими добродетелями, – все это животное: последствия побуждения, которое учит нас добывать пищу и уходить от врага… Не будет ошибочным считать все целиком явление морали животным» (Р, 26).
Это не только попытка, к тому времени ставшая у Ницше инстинктом, оценить «метафизические» качества с неметафизических позиций, но также и составная «дарвинизма»: люди произошли от животных, так же и их мораль; истоки морали – страх и жажда власти, и в этом люди сходны со всем животным миром:
«Разве происхождение морали не следует искать в таких отвратительно мелких суждениях, как: «что плохо для меня, то зло (само по себе); что выгодно мне, то хорошо (выгодно и полезно само по себе)…»? O pudenda origo!» (Р, 102).
Морали, как ее обычно понимают, не существует:
«Если моральны только те действия… которые производятся ради другого и только в его пользу, тогда моральных действий не бывает!» (Р, 148).
«Я отрицаю мораль, как я отрицаю алхимию, то есть я отрицаю их исходные условия; но я не отрицаю, что были алхимики, которые верили в эти исходные условия и действовали в соответствии с ними. Я также отрицаю аморальность: не то, что многие люди чувствуют себя аморальными, но то, что есть реальная причина чувствовать себя таковыми. Само собой разумеется, я не отрицаю – если я не дурак, – что многие действия, которые считаются моральными, следует исполнять и поддерживать, – но я думаю, что одно следует поддерживать, а другого избегать по иным причинам, нежели принято» (Р, 103).
Мораль утверждается, становясь обычаем, и это истоки цивилизации: «Первое правило цивилизации… всякий обычай лучше, чем отсутствие обычая» (Р, 16). Ницше предполагает два фундаментальных основания, почему люди действуют в соответствии с обычаем: из страха и из жажды власти; и в «Рассвете» приводится огромное количество опытов с обоими. «Все действия можно возвести к оценкам, все оценки либо оригинальны, либо приняты – последние гораздо более распространены, – пишет он. – Почему мы их принимаем? Из страха» (Р, 104). Таким образом, он предполагает, что человечество выработало институт симпатии («сочувствия») на основе возникшей потребности понимать смысл поведения других людей и животных:
«…человек, по причине своей чувствительной и уязвимой природы, самый робкий из всех существ, через свою робость познал сочувствие и быстрое понимание чувства других существ (в том числе и животных). На протяжении долгих тысячелетий он видел опасность во всем незнакомом и живом: наблюдая это, он напрямую копировал черты и позы и делал выводы относительно злого умысла, скрытого в этих чертах и этой позе… Радость и приятное удивление, наконец, чувство нелепого – это отпрыски сочувствия и юное потомство страха» (Р, 142).
Подобным образом, полагает он, безопасность, которая была продуктом морального поведения в обычном его понимании, составляет предмет этого морального поведения:
«За основным законом действующего морального кодекса – «моральные действия продиктованы сочувствием к другим» – я вижу социальное воздействие робости, скрытой под интеллектуальной маской: она жаждет, прежде всего и более всего, устранить из жизни все присущие ей опасности, и чтобы каждый способствовал этому всеми силами: отсюда только те действия, которые способствуют общей безопасности и чувству безопасности общества, должны соответствовать понятию «добра»!» (Р, 174).
В раннем афоризме, где напрямую связаны страх и обычай, Ницше дает определение «аморального» человека, по которому можно проследить долгий путь, ведущий к пониманию термина «имморалист», который Ницше употреблял по отношению к самому себе. Говоря об «основном законе», а именно: «мораль есть не что иное, как (и потому не более чем!) подчинение обычаю», – он продолжает:
«Свободный человек аморален, потому что он настроен во всем полагаться на себя, а не на традицию: в каждом примитивном государстве человечества «зло» означало то же, что и «индивидуум» – «свободный», «спорный», «непривычный», «непредсказуемый», «непрогнозируемый»… Что такое традиция? Высший авторитет, которому подчиняются не потому, что он указывает, что следует считать полезным, а потому, что он указывает… Изначально все было обычаем, и тот, кто хотел над ним подняться, становился законодателем и врачевателем и чем-то вроде полубога: иначе говоря, он был обязан делать обычаи… Те моралисты, которые, следуя по стопам Сократа, предлагают индивидуальности мораль самоконтроля и умеренности в качестве средства ему же на пользу, как его личный ключ к счастью, являются исключениями… они оторвались от сообщества, как люди аморальные, и в самом прямом смысле суть зло. Так, добродетельному римлянину старой закалки каждый христианин, который «пекся в первую очередь о собственном спасении», казался злом» (Р, 9).
Поэтому «прогресс» в моральной сфере означает изменения, отчеканенные людьми, которые поначалу воспринимались как зло:
«…история имеет дело почти исключительно с… плохими людьми, которых позже объявляли хорошими людьми!» (Р, 20).
«В сфере морали идет постоянная хлопотная и потная работа – эффект успешных преступлений (среди которых, например, все нововведения в суждения о морали)» (Р, 98).
«В прославлении «труда», – пишет он, – я усматриваю… страх к индивидуальному. Есть коренное убеждение… что труд – лучший полицейский» (Р, 173).
Поскольку индивид является антитезой группе – независимо от того, племя это или современное государство, – и, следовательно, единственным источником аморальности (то есть непослушания обычаю), то его боятся все, кто свято чтит обычай.
Со временем Ницше откажется от концепции страха как положительной силы в том смысле, в каком она видится ему в «Рассвете», и расценит его как на негативный аспект жажды власти, то есть как тождество чувства бессилия или как подчинение власти кого-то или чего-то другого. Даже в «Рассвете» власть, по причине ее позитивного воздействия, начинает казаться более плодотворным полем исследования, чем страх. «Не необходимость, не желание, – говорит он, откликаясь Гоббсу, – нет, любовь к власти является демоном человечества» (Р, 262). И он высказывает ряд соображений о происхождения морали из любви к власти, например:
«В чем мы наиболее искусных. Поскольку вещи (природа, орудия, собственность всякого рода) в течение многих тысяч лет воспринимались как наделенные жизнью и душой, чему власть всегда вольна нанести ущерб… чувство безвластия было гораздо сильнее… среди людей, чем следовало… Но из-за того, что чувство беспомощности и страха было столь велико… чувство власти стало столь утонченным, что в этом отношении человек мог соперничать с самым хрупким равновесием. Оно стало самым сильным его инстинктом; средства, открытые для обретения этого чувства, почти составляют историю культуры» (Р, 23).
«О, в сколь большой степени чрезмерная жестокость и вивисекция произошли от тех религий, которые изобрели грех! И от тех людей, которые жаждали с его помощью обрести высшее наслаждение властью!» (Р, 53).
«К естественной истории прав и обязанностей. Наши обязанности – это права других, что над нами… Мои права – часть моей власти, которую другие не просто уступили мне, но которую они хотят, чтобы я удержал… Права – признанные и гарантированные степени власти… Права других представляют уступку части нашего чувства власти чувству власти тех других» (Р, 112).
«Бороться за отличие означает бороться за превосходство над ближним, даже если оно весьма косвенно, или просто чувство, или даже мечта» (Р, 113).
«Если война оказывается неудачна, всегда ищут «виноватого» в этом… Вину всегда ищут в случае провала; ибо провал всегда несет с собой подавленность духа, против которого инстинктивно применяется единственное средство: свежее возбуждение чувством власти – и его находят в осуждении «виноватого». Этот виноватый не просто козел отпущения за вину других: он жертва слабым, униженным и угнетенным, которые хотят каким-то образом продемонстрировать, что в них все еще сохранилась кое-какая сила. Осуждение себя может также быть средством восстановления чувства силы после поражения» (Р, 140).
«Сколько бы превосходства и тщеславия… ни было задействовано в большой политике, самый сильный прилив, влекущий ее вперед, есть потребность в чувстве власти… Когда человек ощущает чувство власти, он ощущает и называет себя благом: и в то же время те, на кого он желает излить свою власть, ощущают и называют его злом!» (Р, 189).
«Безграничное честолюбие… быть «разоблачителем мира» наполняло мечты мыслителя: так, философия была чем-то вроде возвышенной борьбы за тираническое господство духа» (Р, 547).
«Полевая богадельня души. Каково сильнейшее средство? Победа» (Р, 571).
Последняя цитата устанавливает связь – и в этом Ницше усматривал все большую важность – между счастьем и ощущением власти: «Первое действие счастья состоит в чувстве власти» (Р, 356), пишет он; и далее:
«Есть два вида счастья (ощущение власти и ощущение покорности)» (Р, 60).
Еще более важным для разработки теории воли к власти является отношение к власти как средству обретения господства над собой, самообладания:
«Мы все еще на коленях перед силой… и все же, когда степень достоинства определена, степень разумности силы может оказаться решающей: следует измерить степень преодоления даже самой этой силы чем-то еще более высоким, на службе у которого она теперь состоит как средство и инструмент!.. Возможно, самое прекрасное пока еще только на мгновение появляется из темноты и, будучи едва рождено, погружается в вечную ночь, – я имею в виду тот аспект силы, который использует гения не для труда, а для себя самого как объекта труда; то есть для обуздания самого себя, для очищения воображения, для наведения порядка и выбора в потоке задач и впечатлений» (Р, 548).
Отрывок не вполне ясный, и Ницше продолжает разговор о силе, «превзойденной чем-то более высоким», хотя он уже утратил право на выражения такого рода; но именно через постижение этого аспекта побуждения к власти он позже сумел предложить решение проблемы предназначения человека:
«Прежде велись поиски смысла величия человека, с указанием на его божественное происхождение: теперь это запретная стезя, ибо у ее врат стоит обезьяна… Нынче поиски приняли обратное направление: тот путь, по которому движется человек, должен послужить подтверждением его величия и родства с Богом. Увы, в этом тоже нет смысла! В конце пути стоит погребальная урна последнего человека… Как бы высоко ни был развит человек… переход в следующий порядок невозможен для него точно так же, как не возможен он для муравья или уховертки в конце их «земного пути», чтобы возвыситься до родства с Богом и вечности. Становление постоянно тащит за собой минование» (Р, 49).
3«Веселую науку» часто воспринимали как апекс «сократического» периода Ницше, периода, когда он еще верил в разум и логику. Считается, что с написанием книги «Так говорил Заратустра» в Ницше произошла перемена: он стал иррационален, стал превозносить и нахваливать зло и умышленно переворачивать с ног на голову все каноны суждений из чистого циничного упрямства – одним словом, сочли, что он повредился рассудком. Такое мнение неоправданно. Положительные утверждения «Заратустры» и его последователей являются следствием критических экспериментов, предложенных в книгах «Человеческое, слишком человеческое», «Рассвет» и «Веселая наука», а не противоречием им. Более того, «сократические» книги ни в коей мере не однородны в стилистическом отношении: даже холодная, сдержанная манера работы «Человеческое, слишком человеческое» иногда уступает страстному речению, в котором угадывается будущий «Заратустра»; «Рассвет» выдержан в стиле гораздо более теплом и экспансивном; а в «Веселой науке» Ницше достигает очень широкого диапазона звучания, от строго «научной» точности «Человеческого» до высокой и пылкой проповеди «Заратустры». Последняя часть оригинального издания «Веселой науки» почти идентична началу «Заратустры», а язык афоризмов, которым впервые сказано о вечном возвращении (ВН, 341), очень близок языку соответствующего отрывка из «Заратустры» (З, III, 2, 2). Ни стиль, ни мысль «Заратустры» не являются причудливым отклонением от прочих трудов Ницше.
В «Веселой науке» Ницше продолжает экспериментирование, начатое в предыдущих работах, но его заключительные концепции – воля к власти, сверхчеловек и вечное возвращение – уже присутствуют здесь в зачаточном состоянии. Кроме того, в сознании четко удерживается исходная основа всего этого экспериментирования – исчезновение метафизического мира. Новая космическая ситуация человечества выражена в яркой форме притчи под названием «Сумасшедший»:
«Неужели вы не слышали о том сумасшедшем, который зажег фонарь ясным утром, побежал на рыночную площадь и непрестанно кричал: «Я ищу Бога! Я ищу Бога!» Так как многие из тех, кто не верил в Бога, стояли там, он возбудил сильный смех. «Так что, ты его потерял?» – сказал один. «Не сбился ли он с пути, как малое дитя?» – сказал другой. «А может, он прячется? Может, он боится нас? Он отправился в путешествие? Или эмигрировал?» Так они шумели и смеялись. Сумасшедший бросился в самую гущу толпы и буравил их взглядом. «Куда ушел Бог? – кричал он. – Я скажу вам.
Мы его убили – вы и я. Все мы его убийцы. Но как же мы сделали это? Как сумели мы выпить море? Кто дал нам губку, чтобы вытереть весь горизонт? Что мы делали, когда освобождали эту землю от оков солнца? Куда она движется теперь? Куда мы теперь движемся? Прочь от всех солнц? Разве мы не падаем непрерывно? Назад, в стороны, вперед, во всех направлениях? Есть ли еще верх и низ? Разве мы не блуждаем в бесконечном ничто? Разве мы не чувствуем дыхание пустого пространства? Разве оно не стало холоднее? Не надвигается ли все больше и больше ночь? Разве не нужно зажигать фонарь по утрам? Разве мы не слышим что-то вроде звука могильщиков, которые хоронят Бога? Разве мы еще не обоняем разложение Бога? И боги подвержены разложению. Бог мертв. Бог остается мертв. И мы убили его. Как будем мы, убийцы из убийц, утешаться? Тот, что был самым святым и могущественным из всех, кем обладал этот мир, смертельно истек кровью под нашими ножами – кто сотрет с нас его кровь? Какой водой нам очиститься? Какие празднества искупления, какие священные игры нужно нам изобрести? Величие такого деяния не слишком ли велико для нас? Не было вовеки более великого деяния, – и кто бы ни был рожден после нас, ради этого деяния он будет частью истории, превосходящей всю прежнюю историю». Здесь сумасшедший умолк и снова взглянул на своих слушателей, и они тоже молчали и взирали на него в изумлении. Наконец он бросил фонарь на землю, и тот разбился и угас. «Я пришел слишком рано, – сказал он тогда. – Мое время еще не пришло. Это грандиозное событие все еще свершается, все еще в пути – оно еще не достигло человеческих ушей. Молнии и грому требуется время, свету звезд требуется время, деяниям требуется время, прежде чем, содеянные, они смогут быть зримы и слышимы. Это деяние от них пока дальше, чем самые удаленные звезды – и все же они сами содеяли его». Позже рассказывали, что в тот же день сумасшедший ходил по разным церквам и пел там requiem aeternam deo[45]45
Реквием вечному Богу. (Примеч. пер.)
[Закрыть]. Выходя и успокоившись, он, говорят, каждый раз возглашал: «Что теперь эти церкви, как не гробницы и склепы Бога?» (ВН, 125).
«Бог мертв», но этот факт пока не осознан и не воспринят: люди все еще мыслят так, как если бы Бог по-прежнему оставался реальностью:
«После того как Будда умер, его тень веками все еще маячила в пещере – огромная, пугающая тень. Бог мертв: но поскольку люди остались тем, что они есть, то, возможно, еще тысячелетия будут существовать пещеры, в которых будет маячить его тень. И нам – нам тоже до сих пор приходится покорять его тень» (ВН, 108).
В следующем разделе в общих чертах дан характер этой тени: механистические и гуманистические свойства переданы «природе», сама идея «природы» – царство порядка и целесообразности:
«Будем настороже, когда говорят, что существуют законы природы: некому указывать, некому подчиняться, некому их преступать» (ВН, 109).
«Когда же, – восклицает он, – у нас будет полностью обезбоженная природа?»
Мораль, лишенная всякого метафизического происхождения или сверхъестественной директивы, не может обладать «вечной ценностью», но должна быть следствием «необходимости», ощущаемой теми, кто ее оформляет и по ней живет: действительно, существуют системы морали, но существует и отсутствие морали:
«Когда бы мы ни столкнулись с моралью, в ней мы всегда находим оценки и иерархию рангов человеческих побуждений и действий. Эти оценки и иерархия рангов всегда являются выражением потребностей сообщества и стада… Посредством морали индивидуум вводится в жизнь как функция стада и приписывает ценность себе самому только как функции. Поскольку условия поддержания сообщества сильно отличались от таковых в ином сообществе, существовали совершенно несхожие системы морали» (ВН, 116).
В результате современная мораль изобилует противоречиями, которые обнаруживают себя, когда какая-то конкретная мораль претендует на представительство морали вообще:
«Добродетели человека называются благом не в связи с тем воздействием, которое они оказывают на него самого, а в связи с воздействием, которое, как мы полагаем, они будут оказывать на нас и на общество… Ибо, в противном случае, пришлось бы признать, что достоинства… в большинстве своем вредны для их обладателей, как импульсы, которые правят ими слишком сильно… Если вы обладаете добродетелью, поистине совершенной добродетелью (а не просто слабым позывом к добродетели!), – вы ее жертва! Но именно поэтому ваши соседи превозносят вашу добродетель!.. «Сосед» хвалит самоотверженность, потому что он извлекает из этого выгоду!.. Основное противоречие той морали, которая в настоящее время в большом почете, таким образом, налицо: мотивы, которые диктуют эту мораль, противоречат ее принципам!» (ВН, 21).
«Самопреодоление» христианской морали и веры, по убеждению Ницше, есть просто признание факта, что нечто, называемое моралью, по существу, таковой не является:
«Отчетливо видно, что именно одерживает победу над христианским Богом: сама христианская мораль, концепция истинности, принимаемая все более и более строго, конфессиональная утонченность христианского сознания, переведенная и сублимированная в научное сознание, в интеллектуальную ясность, во что бы то ни стало» (ВН, 357).
То, что это может привести к нигилизму, против которого Ницше пытается бороться, – новая ипостась того самого «справедливо, но смертельно»: он говорит о «чудовищной альтернативе» грядущего поколения:
«…либо покончить с вашим почитанием, либо – с вами самими! Последнее, пожалуй, нигилизм; но разве не нигилизм – первое? Это наш знак вопроса» (ВН, 346).
Он смог отважиться ответить на этот вопрос не раньше, чем оформилась его теория воли к власти.
Поскольку всякая мораль обладает только относительной ценностью, различие между добром и злом тоже должно быть условным, а не абсолютным: не существует гарантий в признании злых действий, как таковых, – напротив, они так же ценны, как и добрые действия, поскольку последние являются следствием первых:
«Самые сильные и самые злые души до сих пор продвигали человечество более всех: они вновь и вновь возжигали уснувшие страсти, – все упорядоченные общества убаюкивают страсти, – они вновь и вновь пробуждали чувство сравнения, противоречия, восторга к новому, к риску, к неизведанному; они вынуждали человечество выдвигать мнение против мнения, идеал против идеала. В основном это случалось силой оружия, опрокидыванием пограничных столбов, насилием над благочестием: но также и новыми религиями и моралью!.. Новое… при всех условиях зло… только старое – благо! Добрыми людьми каждой эпохи были те, кто глубоко закапывался в старые идеи и кормился ими, – земледельцы духа. Но всякая почва, в конце концов, истощается, и лемех зла должен возвращаться снова и снова… злые импульсы столь же полезны, необходимы и спасительны для видов, сколь и добрые: только у них иная функция» (ВН, 4).
И снова проходит идея конфликта как динамической силы культуры: конфликт есть «зло», но без него нет культуры:
«Исследуйте жизнь лучших и наиболее плодотворных людей и народов и спросите себя, может ли дерево, если оно гордо стремится к небу, обойтись без плохой погоды и бурь; и не являются ли жадность, сопротивление извне или же ненависть, зависть, недоверие, суровость, алчность и насилие теми благоприятными условиями, без которых великий подъем – даже добродетели – едва ли возможен» (ВН, 19).
«Добрая Эрида» Гесиода – позывы зависти, жадности и вражды, направленные на соревнование, – и по сей день богиня – управительница культуры. В книге «Человеческое, слишком человеческое» Ницше уже обращался к существованию «доброй Эриды», называя ее сублимацией «плохой», но, хотя он держит эту идею в поле зрения в «Веселой науке»,
«там, где слабое зрение уже не различает злых побуждений, как таковых, по причине их утонченности, человечество устанавливает царство добра» (ВН, 53),
он пока не может дать какое-либо обоснование сублимации как реального события: это обоснование должно дождаться его теории воли к власти.
И он постепенно продвигается в направлении этой теории. В одном из его ранних афоризмов, озаглавленных «К теории о чувстве власти», он допускает, что и добрые, и дурные действия вытекают из побуждения властвовать:
«Благодеянием и злодеянием человек осуществляет свою власть над другими… Злодеянием – над теми, кого мы еще должны заставлять чувствовать свою власть… Благодеянием… над теми, кто в чем-то от нас зависим… мы желаем усилить их власть, поскольку этим мы усиливаем свою… И то, жертвуем ли мы чем-либо, поступая хорошо или плохо, не меняет конечной оценки наших действий; даже если мы кладем жизнь, как это делает мученик во имя церкви, – это жертва нашему стремлению к власти… Тот, кто чувствует «Я обладаю истиной», – какими владениями он не пожертвует, только чтобы удержать это чувство! Чего только он не выбросит за борт, чтобы остаться «на высоте» – то есть над другими, лишенными этой «истины» (ВН, 13).
Также и любовь, так называемое неэгоистическое чувство, коренится в желании осуществлять наивысшую степень власти над любимым человеком:
«Наша любовь к ближним – разве это не стремление к новой собственности?.. Удовольствие от самих себя ищет возможности сохраниться, снова и снова трансформируя что-нибудь новое в нас самих – вот что означает обладание… Когда мы видим, как кто-то страдает, мы рады ухватиться за предоставленную таким образом возможность, чтобы овладеть им; так действует, например, великодушный и сострадательный человек, и он тоже называет «любовью» возникшее в нем желание заполучить что-то новое… Однако наиболее отчетливо выдает себя как стремление к собственности любовь полов: любовник хочет безусловного, всецелого обладания желанной личностью, он хочет безусловной власти над ее душой, как и над ее телом, он хочет, чтобы любили только его; жить и царить в ее душе представляется ему самым высоким и самым желанным… Удивительно, что эту беспощадную алчность и несправедливость любви полов славили и обожествляли во все времена до такой степени, что из этой любви и впрямь должно было возникнуть представление о любви как противоположности эгоизму, тогда как она есть, несомненно, самое безудержное проявление эгоизма» (ВН, 14).
Отречение, то есть аскетизм, теперь тоже видится как атрибут жажды власти:
«Что делает аскет? Он стремится в более высокий мир, он хочет лететь дальше, и дольше, и выше, чем все люди убеждений, – он отбрасывает многое из того, что могло бы препятствовать его полету, и среди прочего многое такое, что для него ценно и приятно: он жертвует этим во имя стремления к высотам» (ВН, 27).
В «Веселой науке» также впервые появляются сверхчеловек и вечное возвращение. Образ сверхчеловека еще весьма расплывчат, но уже проявляются отдельные конкретные черты: Ницше нащупывает путь к «образу человека», который воплощает властный порыв и каким-то образом использует его ради созидательных целей. В довольно странном афоризме он напрямую связывает «возвышение» человека со «смертью Бога»:
«Есть озеро, которое однажды отказалось изливаться и воздвигло плотину в том месте, где ранее вытекало: с тех пор это озеро поднимается все выше и выше… может быть, и человек начнет подниматься все выше и выше с того момента, как перестанет изливаться в Бога» (ВН, 285).
Восхождение через некое ограничение, практику проявления воли по отношению к себе самому – именно такое направление получает в то время мысль Ницше:
«Придать стиль» своему характеру – великое и редкое искусство! В нем упражняется тот, кто, обозрев все силы и слабости, отпущенные ему природой, затем оформляет их в некий артистический план, пока все не претворится в искусство и смысл, так что даже слабости покажутся восхитительными. Здесь следует прибавить побольше от второй природы, здесь – отторгнуть часть природы изначальной… Это будут сильные, властные натуры, которые испытают утонченное удовольствие, осуществляя подобные настройки, в подобном принуждении и совершенствовании, согласно их собственному закону» (ВН, 290).
Когда мы читаем это, мы понимаем, что он все еще говорит на языке статьи «О будущем наших образовательных учреждений», языке «Рождения трагедии» и «Несвоевременных размышлений»; понимаем, что есть линия непрерывного развития от его ранней философии к более поздней; и что на протяжении всего деструктивного периода «Человеческого…» и «Рассвета» он удерживал в голове позитивную цель всех своих вопрошаний: установить новое значение человеку в мире, ставшем бессмысленным. Исчезновение божественных санкций на моральные ценности, вновь говорит он, предполагает, что человек должен сам создавать собственные ценности и что следует отыскать основу для этих ценностей:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































