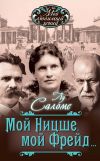Текст книги "Фридрих Ницше. Трагедия неприкаянной души"
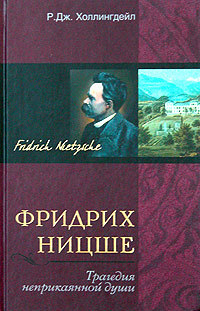
Автор книги: Р. Холлингдейл
Жанр: Зарубежная образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 23 страниц)
«…под конец я стал жертвой безжалостной мстительности, тогда как мои внутренние помыслы противятся всякой мести и наказанию… Мне долее даже нежелательно писать письма сестре – только самого невинного толка. Возможно, самым роковым моим шагом во всей этой истории было довериться ей – теперь я вижу, что она восприняла это как оправдание своей мести фрл. Саломей».
На этом, по сути, и закончилась эта история. Ницше вернулся к прежнему образу жизни и уже никогда более не встретился с Лу и Рее, хотя иногда и переживал сентиментальные настроения по их адресу. В письме Овербеку из Ниццы от 7 апреля 1884 г., к примеру, он говорит, что надеется собрать там вокруг себя друзей, в том числе, «может быть, д-р Рее и фрл. Саломей, с кем мне хотелось бы наладить то, что разладила моя сестра». Если кому-то придет в голову определять долю вины каждого, это проще простого: виноваты все. И может быть, Ницше больше всех. Элизабет, скованная, религиозно настроенная старая дева, с ее ограниченным моральным кодексом и мстительной ненавистью к женщине менее ограниченной и более свободной, чем она сама, умела только преследовать такую женщину со всей злостью, на какую была способна оскорбленная добродетель. Ницше, как никто, знал это, но, вместо того чтобы отстранить ее, поощрял. Вероятно, ему было стыдно за это, так как в конце он возложил всю ответственность за происшедшее на сестру. «Мне хотелось бы наладить то, что разладила моя сестра», – говорит он, но никто не поверит, что он был только орудием в руках Элизабет: отношения между ними носили иной характер, поскольку он всегда был доминантной личностью. И в конечном итоге, если его отношения с Лу Саломей под конец увязли в потоках грязи и оскорблениях, то виноват в этом именно он.
Нужно добавить, что исследователь, который ищет в этой истории указаний на продолжение, будет разочарован. Сам Ницше, когда бы ни упоминал о Лу в письмах – что случалось не часто, – скрывает свою эмоциональную заинтересованность и говорит о ней только как о друге. Существует только одно прямое упоминание о ней в «Ecce Homo», и оно имеет конкретную цель: предупредить неправильное понимание стихотворения «Гимн жизни». Ницше объясняет, что это стихотворение, положенное им на музыку в 1882 г., принадлежало не ему, а перу «молодой русской госпожи, фрейлейн фон Саломей, с которой я в то время был дружен» (ЕН-З, 1).
Книга Лу Саломей «Фридрих Ницше в его сочинениях», опубликованная в 1894 г., обходит молчанием события 1882–1883 гг.; ее мемуары, вышедшие посмертно, уже в 1957 г., также ничего не проясняют. Когда ее однажды, много лет спустя, спросили, поцеловал ли ее Ницше во время их путешествия к Монте-Сакро, она ответила, что не помнит.
Идея вечного возвращения держалась в резерве, чтобы в результате стать кульминацией «Заратустры»: она вводится в третьей части, написанной в январе 1884 г. в Ницце. С точки зрения поэтической мощи шестнадцать глав, составившие эту часть, превзошли все, что было написано Ницше прежде: местами он впадает в ложный пафос, но это не более чем естественный риск писателя, который пытается выдержать стиль на высокой отметке заданной им выразительности. Четвертая часть, написанная осенью и зимой 1884/85 г., задумывалась как первая часть второй трехчастной группы. Она явно уступает в стиле и не содержит новых идей, и Ницше хватило мудрости прервать работу: блистательное заключение третьей части – это настоящая вершина книги и печать, скрепляющая факт окончательного формирования к этому времени завершенного философского мировоззрения.
Глава 11
Заратустра
Я обучил их всем моим искусствам и стремлениям: собирать воедино и вместе свести то, что есть фрагмент, и загадка, и ужасная случайность в человеке.
Ф. Ницше. Так говорил Заратустра
Между сочинениями «Веселая наука» и «Так говорил Заратустра» Ницше вышел на гипотезу о том, что все действия мотивированы жаждой власти. Пользуясь терминологией Шопенгауэра, он назвал свой принцип «воля к власти» и теперь с его помощью пытался дать картину возможной реальности без какой бы то ни было опоры на метафизику.
Понятие воли к власти впервые введено в главе под названием «О тысяче и одной цели». До сих пор существовало много людей, соответственно, много «целей», иначе говоря, видов морали; причина, по которой каждый народ имел ту или иную мораль, объясняется волей к власти – не только к власти над другими, но и, что более существенно, к власти над собой:
«Много стран и много народов видел Заратустра – так открыл он добро и зло многих народов. Большей власти не нашел Заратустра на земле, чем добро и зло. Ни один народ не мог бы жить, не оценивая; но если хочет он сохранить себя, он не должен оценивать так, как оценивает сосед.
Многое, что казалось благом одному народу, другому казалось стыдом и позором – так нашел я. Многое, что нашел я, называлось злом в одних краях, в других облекалось в пурпурную мантию достоинств…
Скрижаль добра висит над каждым народом. Вглядись, это скрижаль преодолений его; вглядись, это голос его воли к власти. Достойно хвалы то, что называет он трудным; все необходимое и трудное называет он добром; а то, что избавляет от величайшей нужды, редкое и самое трудное – славит он как священное. Все, что способствует его господству, победам и блеску, на страх и зависть своим соседям, – все это считает он возвышенным, первостепенным, мерилом и смыслом всех вещей» (З, I, 15).
Мораль, если ее понимать как тождество обычаю, теперь представляется самопреодолением народа: стадо обращает свою жажду власти против себя, он покоряет себя, научается подчиняться собственным велениям и в этом подчинении становится «народом». С самого начала своих философских писаний Ницше всегда чувствовал оправданность применения к индивидууму тех же критериев, что он применял к государству; он всегда рассматривал отдельную личность как нечто вроде государства в миниатюре, с теми же побуждениями к труду и теми же потребностями. Поэтому во второй части «Заратустры» он применил свою теорию воли к власти к индивидууму:
«Все живое проследил я; я прошел великими и малыми путями, чтобы познать его природу… Где бы ни находил я живые существа, там же я слышал язык послушания. Все живые существа суть существа подчиняющиеся. И второе: тот, кто не умеет подчиняться себе, будет подчиняться велениям других… И третье слышал я: что повелевать сложнее, чем подчиняться… Попыткой и дерзновением казалось мне всякое приказание: и живое существо всегда рискует, повелевая. Да, даже когда он повелевает собою: должен он также искупить свое веление. Ему суждено стать судьею, и мстителем, и жертвой собственного закона. Как же это случилось? – так спрашивал я себя. Что заставляет живые существа повиноваться и повелевать и, даже повелевая, повиноваться? …Где бы ни встречал я живые существа, там же находил я и волю к власти; и даже в воле слуги находил я волю быть господином. Воля слабого убеждает его служить тому, кто сильнее; и все же его воля желает быть господином над теми, кто еще слабее: лишь от этой единственной радости он не волен отказаться. И как меньший отдает себя большему, так, чтобы радоваться и властвовать над наислабейшим, так и сильнейший покоряется и ради воли к власти ставит на карту – жизнь… И там, где жертвоприношение и служба и любящие взоры, там также и воля быть господином. Там слабый тайными путями пробирается в замок и в самое сердце сильнейшего – и крадет власть. Жизнь поведала мне тайну. «Смотри, – сказала она, – я то, что должно снова и снова преодолевать себя. Конечно, вы называете это волей к творению или стремлением к цели, более высокому, далекому, более сложному: но все это одна единая тайна. Я лучше погибну, чем отрекусь от этого: и, воистину, где гибель и опадание листьев, там – вглядись! – жизнь жертвует собой – во имя власти! …Также и ты, ты, познающий человек, всего только тропа и след моей воли: воистину, моя воля к власти ступает в ногу с твоей волей к истине!.. Лишь там, где есть жизнь, есть воля: не воля к жизни, но… воля к власти! Живое существо многое ценит выше, нежели саму жизнь; но в самой этой оценке говорит – воля к власти!» Так некогда научила меня жизнь: и с этой наукой я разрешил загадку ваших сердец, ваших, мудрейшие… Своими ценностями и вероучением о добре и зле вы осуществляете власть, вы, оценщики ценностей… Но еще более могучая власть и преодоление вырастает из ваших ценностей… И тот, кому суждено быть созидателем добра и зла, воистину, должен вначале быть разрушителем и взламывать ценности. Так величайшее зло принадлежит величайшему благу…» (З, II, 12).
Чтобы понять, насколько органично эта теория является продолжением более ранних опытов Ницше, нужно вспомнить, что он писал о подчинении и господстве, о самопожертвовании ради власти, о взаимозависимости добра и зла:
«Те способности, которые представляются ужасными и считаются антигуманными, на самом деле, возможно, и есть та плодотворная почва, на которой единственно и может произрасти все гуманное в побуждении, действии и деянии» («Состязание Гомера»).
«[Добродетельный человек] всегда восстает против слепой воли фактов, против тирании происходящего и подчиняет себя законам, которые не являются законами исторического потока… либо борясь со своими страстями, как ближайшими брутальными проявлениями своего существования, либо посвящая себя целомудрию» (НИ, 8).
«От св. Луки 18: 14, исправленное. Унижающий себя желает возвыситься» (ЧС, 87).
«Существует вызов самому себе, утонченным проявлением которого являются многие формы аскетизма» (ЧС, 137).
«Когда человек ощущает чувство власти, он ощущает и называет себя благом…» (Р, 189).
«…Философия была чем-то вроде возвышенной борьбы за тираническое господство духа» (Р, 547).
«…Тот аспект силы, который использует гения не для труда, а для самого себя как объекта труда; то есть, для обуздания самого себя…» (Р, 548).
«…Оценка и иерархия рангов человеческих побуждений и действий… всегда является выражением потребностей сообщества и стада» (ВН, 116).
«Самые сильные и самые злые души до сих пор продвигали человечество более всех… злые побуждения столь же полезны, необходимы и спасительны для видов, сколь и добрые» (ВН, 4).
С позиций воли к власти Ницше теперь смог увидеть в борьбе за выживание дарвиновского учения особый случай борьбы за господство:
«Желание сохранить себя есть выражение состояния бедствия, нехватки поистине главного побуждения к жизни, которое стремится к распространению власти и с учетом этого довольно часто подвергает сомнению целесообразность самосохранения и жертвует им… в природе господство является состоянием не бедствия, а избытка и расточительности, иногда граничащее с абсурдом. Борьба за существование – это лишь исключение, временное ограничение основной воли к жизни; борьба, большая и малая, направлена повсюду на превосходство, рост и распространение, на власть, согласно воле к власти, которая и есть самая воля к жизни» (ВН, 349 – в книге пятой написанной после «Заратустры»).
«Физиологам следует вновь задуматься, прежде чем выдвигать инстинкт самосохранения в качестве кардинального стимула органического существа. Живая особь хочет прежде всего испытать свою силу – сама жизнь есть воля к власти: самосохранение – это только одно из косвенных и наиболее частых следствий этого. Словом, здесь, как и везде, следует остерегаться излишних телеологических принципов! – таких, как инстинкт самосохранения» (ДЗ, 13).
Теперь он может попытаться объяснить то, что отказывался объяснять раскритикованный им некогда Давид Штраус: происхождение «хороших» качеств из «злых» в том мире, каким он оказался после Дарвина.
«Хорошие» качества суть сублимированная, утонченная страсть, а страсть теперь следует понимать как волю к власти:
«Когда-то у тебя были страсти, и ты называл их злом. Но теперь у тебя есть только добродетели: они выросли из твоих страстей… Когда-то были свирепые псы у тебя в подвалах: но, в конце концов, они превратились в птиц и сладостных певцов. Из своих ядов ты приготовил себе бальзам; ты подоил свою корову – бедствия, – теперь ты пьешь сладкое молоко ее вымени» (З, I, 5).
Чтобы стала возможна добродетель, необходимо дать волю «злым» страстям, ибо они являются единственным источником добродетелей, единственной движущей силой. Отсюда враждебность Ницше по отношению к тем, кто искореняет страсти, поскольку такие представляют опасность: он не отрицает, что воля к власти опасна, но ее следует контролировать, «сублимировать», а не ослаблять и не уничтожать:
«Недостаточно того, что молния более не причиняет зла. Я не хочу устранять ее: ее следует обучить – работать на меня» (З, IV, 13, 7).
Вот почему он осуждает слабость, как бы она ни маскировалась – например, как «умеренность»:
«Не ваш грех, но ваша умеренность вопиет к небу, ваше убожество в грехе вопиет к небу!» (З, I, предисловие, 3).
Большое зло даже предпочтительнее слабости, ибо оно дает почву надежде: где великое преступление, там и великая энергия, великая воля к власти, следовательно, возможность «самопреодоления». Ницше совершенно недоступен пониманию до тех пор, пока не придет понимание того, что преодоление себя он рассматривал как самую сложную из всех задач, вместе с тем и как самую желаемую; что он считал волю к власти единственным живым стимулом в человеке; что сильная воля к власти всегда требовалась там, где решались сложнейшие задачи; и что поэтому человек с сильной, но неуправляемой волей к власти предпочтительнее человека, чья воля к власти ослаблена, хотя первый конечно же более «опасен». Поскольку «добро» есть сублимированное «зло», зло носит позитивный характер, и искоренение злых побуждений не пройдет бесследно и для добра – оно тоже исчезнет. Уничтожить «добрую Эриду» означает уничтожить человечество, которое выросло таким, каким выросло, через соперничество. И потому «лучше… Чезаре Борджиа, чем Парсифаль» (ЕН, III, 1): лучше злодей, чем тот, чья добродетель состоит в беззлобности, неспособности творить зло. Те, кто полагает, что Ницше восхищался Чезаре Борджиа как таковым, не поняли его: восхищавшими его людьми были те, чья воля к власти была сильна, но сублимирована в созидательность, люди, которые «стали теми, каковы они есть», сверхлюдьми (Ubermenschen):
«Я обучаю вас о сверхчеловеке. Человек есть нечто, что следует превзойти. Что сделали вы, чтобы превзойти его? До сих пор все существа создавали что-то выше себя: а вы хотите быть отливом этой великой волны и скорее вернуться к состоянию животного, нежели превзойти человека?.. Сверхчеловек – это смысл земли. Пусть ваша воля скажет: сверхчеловек да будет смыслом земли! Заклинаю вас, братья мои, оставайтесь верны земле» (З, I, предисловие, 3).
Сверхчеловеком является тот, кто достигает в себе того, что однажды достигли нации, когда поднимали себя над уровнем стад:
«Можешь ли ты обеспечить себе свои добро и зло и повесить над собою собственную волю как закон? Можешь ли ты быть сам себе судьей и мстителем закона?..
Самым злейшим врагом, какого ты можешь повстречать, всегда будешь ты сам; ты залег в ожидании самого себя в пещерах и лесах» (З, I, 17).
Все существа желают власти, но только человек может желать власти над собой; только человек обладает достаточным запасом энергии, чтобы стать господином самому себе. Различие между человеком и животным, уничтоженное Дарвином, восстановлено – без обращений к сверхъестественному; моральные ценности, лишенные божественных санкций, получают теперь новую природную санкцию: количество власти. Человеческая психология теперь излагается на языке власти; «добро» следует понимать как сублимированное «зло», потому как злые и добрые чувства, в сущности, являются одним и тем же, то есть волей к власти. Новый взгляд в сжатой форме подытожен в «Антихристе»:
«Что есть добро? Все, что способствует чувству власти, воле к власти, самой власти в человеке. Что есть зло? Все, что исходит от слабости. Что такое счастье? Чувство, что власть возрастает – что сопротивление преодолено…» (А, 2).
Все люди хотят счастья, потому что все хотят чувства усиления власти; наивысшее усиление власти влечет наивысшее счастье; наибольшая власть требуется для преодоления себя; самый счастливый человек тот, кто преодолел себя – сверхчеловек.
Весь смысл философии, которая произвела на свет сверхчеловека, делает очевидным, что новый «образ человека», должный противостоять нарастающему нигилизму современной Европы, – это образ человека, который более не является животным. Предполагается, что «цель» человечества состоит в «создании сверхчеловека», то есть в трансформации самое себя в не-животное. Тогда человек будет обладателем позитивной ценности, сам термин «человек» приобретет особую коннотацию, принципиально отличающую его от животного мира в целом, и тогда станет возможным снова говорить о «добре и зле» как о «вечных» свойствах – как оценочных суждениях, значимых для всего мира, поскольку их будет устанавливать уже подлинно высшее существо:
«Когда я пришел к людям, я нашел их сидящими на старом предубеждении: все они верили, что давно уже знают, что для человека добро и что для него зло… Я встряхнул эту сонливость, когда стал учить, что никто до сих пор не знает, что есть добро и что есть зло – если только сам творец.
Но творец тот, что создает цель для человечества и дает земле ее смысл и ее будущее: тот, кто создает качества добра и зла в вещах» (З, III, 12, 2).
Именно в этом смысле сверхчеловека можно назвать «наследником Бога»:
«Некогда говорили вы «Бог», глядя в далекие моря; но теперь я научил вас говорить «сверхчеловек». Бог – предположение: а я хочу, чтобы ваши предположения простирались не далее, чем ваша созидательная воля. Могли бы вы создать бога? Но вы, несомненно, могли бы создать сверхчеловека… Бог – предположение: но я хочу, чтобы ваши предположения лежали бы в пределах мыслимого. Можете ли вы мыслить бога? Но пусть воля к истине означает для вас, что все непременно должно превратиться в человечески-мыслимое, человечески-видимое, человечески-ощутимое… И вы сами должны создать то, что до сих пор вы называли Миром… Ни в непостижимом, ни в иррациональном не можете вы быть дома» (З, II, 2).
Во вселенной, где вырос Ницше, Бог был верховным существом, и человеку, которого возвысило над животными божественное дыхание и который милостью Божьей удерживался в этом приподнятом состоянии, было обещано, что жизнь его вечна и смерть – это всего лишь переход из одного состояния существования в другое. На третьем десятке Ницше пришлось принять ту вселенную, которая была прямой противоположностью первой: там верховное существо вовсе отсутствовало, люди были всего лишь продолжением животных, а в конце была смерть. Не в состоянии отрицать научные основы этой картины мира, он в свои тридцать лет пришел к выводу, что «смерть Бога» означала необходимость формирования нового миропонимания, где метафизическому миру не было места. На четвертом десятке он выдвинул три гипотезы, которые, независимо от его намерений, предлагали природную замену Богу, божественной милости и вечной жизни: вместо Бога – сверхчеловек; вместо божественной милости – воля к власти, а вместо вечной жизни – вечное возвращение.
Воля к власти и сверхчеловек появились в связи с потребностью объяснить некоторые следствия неметафизической действительности; но вечное возвращение не является следствием неметафизической реальности, как таковой: оно возникло из того обстоятельства, что, как это понимал Ницше, метафизический мир является не чем иным, как противоположностью миру кажимости, метафизический план – не что иное, как антитеза плану земному, а сама идея метафизической реальности – часть феноменального мира; вот почему он считал его венцом своей философии. Поначалу Заратустра страшится вечного возвращения и делает все от него зависящее, чтобы оттянуть день, когда ему предстоит постичь его возможную истину. Наконец, в третьей части книги он повествует о ночном кошмаре, где воображаемая вечность предстает ему в качестве врат с двумя ведущими в противоположных направлениях тропами:
«Взгляни на эти ворота… у них два лица. Две дороги сходятся здесь: еще никто не достигал их конца. Этот долгий путь позади: он длится целую вечность. А этот долгий путь впереди – другая вечность. Эти пути противоречат один другому, они сталкиваются – и именно здесь, у этих врат, они сходятся. Название врат написано над ними: «Мгновение». Но если кто-то пошел бы по ним дальше – все дальше и дальше: думаешь ли ты… что эти два пути оставались бы в вечном противоречии?.. Взгляни на это Мгновение!.. От этих врат Мгновение ведет долгий, вечный путь назад: позади нас лежит вечность. Не должно ли было все, что умеет двигаться, уже однажды пройти этот путь? Не должно ли было все, что может случиться, уже сбыться, миновать? И если все это уже было, что ты думаешь об этом Мгновении?.. Не должны ли и эти врата уже однажды быть здесь – ранее?
И не связаны ли все вещи так прочно, что это Мгновение влечет за собою все грядущее? А потому – и самое себя тоже?
Ибо все, что способно ходить, должно было еще раз пройти по этому долгому пути вперед? И этот медлительный паук, ползущий в лунном свете, и сам это лунный свет, и я, и ты, что шепчемся у врат, шепчемся о вечном, – разве все мы уже не существовали когда-то? – и не должны ли мы вернуться и пройти этот другой путь, что впереди нас, этот ужасающе долгий путь, – не должны ли мы возвращаться вечно?» (З, III, 2, 2).
И только ближе к концу третьей части Заратустра обретает смелость посмотреть на эту идею в холодном свете дня, и даже тогда его символические животные, его орел и змея, должны объяснить ему во всех подробностях, что именно означает это возвращение:
«Пой и радуйся, о Заратустра, врачуй свою душу новыми песнями: чтобы ты мог нести свою великую судьбу, которая не была еще судьбою ни одного человека! Ибо твои звери хорошо знают, о Заратустра, кто ты и кем должен ты стать: смотри, ты учитель вечного возвращения, в этом теперь твое назначение!.. Смотри, мы знаем, чему ты учишь: что все вещи возвращаются вечно и мы сами вместе с ними и что мы уже существовали бесконечное число раз и все вещи вместе с нами. Ты учишь, что существует великий год становления, чудовищно великий год: он должен, подобно песочным часам, переворачиваться снова и снова, чтобы стекать вниз и опять становиться пустым. Так что все эти годы похожи сами на себя в большом и малом. И если бы тебе предстояло умереть теперь, о Заратустра: смотри, мы знаем также, что стал бы ты тогда говорить самому себе… «Теперь я умираю и исчезаю… и через мгновение стану ничем… Но связь причинности, в которую я вплетен, вернется – она вновь сотворит меня!.. Я снова вернусь, с этим солнцем, с этой землей, с этим орлом, с этой змеею – не к новой жизни, или лучшей жизни, или к жизни подобной прежней: я буду вечно возвращаться к той же самой жизни, в большом и малом, чтобы снова учить о вечном возвращении всех вещей…» (З, III, 13, 2).
Основанием идеи вечного возвращения служит то, что метафизический мир – это только «представление», принадлежащее миру феноменальному; иначе говоря, он не существует: кажимость и есть реальность. Когда мы вычитаем все, что можно назвать кажимостью, у нас ничего более не остается; следовательно, «прорыва» на другой «уровень» реальности не может быть – такие выражения бессмысленны, ибо, как бы мы ни «углублялись» в феноменальный мир, выбраться из него не удастся.
От этой мысли до мысли, что все является повторением, один шаг. Говорить о «безвременном мире» означает пользоваться характерно отрицательным языком метафизики: «метафизический мир» – это всего лишь отрицание реального мира; реальный мир существует во времени, поэтому одним из свойств метафизического мира должно стать безвременье (точно так же, как и «невоплощенность», бестелесность, беспространственность). Если нам никогда не вырваться из действительности, которую мы ощущаем, тогда мы привязаны к реальности, одним из свойств которой является время; то есть время вовсе не иллюзия, скрывающая «безвременную действительность». Другим атрибутом реальности, с которой мы связаны, является «становление»: реальность всегда «настает» и никогда не «существует». Поскольку действительность «настает» во времени, то, если бы было возможно конечное состояние, оно давно бы уже наступило; но на практике все не так. Более того, если не существует конечного состояния, то не могло быть и начального, поскольку и оно являлось бы статическим состоянием, «бытием». На практике наше существование временно и нестабильно: время реально, изменения реальны, и нам ничего не известно о существовании, лишенном времени и перемен. Тогда, если мы не можем установить ни начала, ни конца времени, то и за нами и перед нами должна простираться бесконечность во времени; реальность должна быть бесконечной длительностью, из которой никогда не возможен прорыв в состояние, где нет длительности. Но мы не можем с той же определенностью утверждать, что число возможных форм, в которых проявляется наша постоянно меняющаяся реальность, бесконечно. Этого не допускает здравый смысл: как бы ни был велик созданный кем-то калейдоскоп, сколько бы кусочков цветной бумаги туда ни положили, число возможных композиций не будет бесконечным; когда-то настанет момент, что количество вероятных положений, число возможных чередований этих положений истощится и узоры начнут повторяться.
Сравнение реальности в «становлении» с калейдоскопом может показаться неуместным, но оно действительно отражает представление Ницше о той картине, которую влечет за собой «становление». Он не допускает, чтобы Бог или метафизика вламывались в его мысль через черный ход: отвергнув Бога, он отказывается признавать какой-либо непроверенный принцип, который мог бы внезапно оказаться замаскированным Богом. Неудачи других «вольнодумцев» принять меры предосторожности вызывали лишь его презрение: их поведение он приписывал трусости. Но мир, понимаемый как «становление» в рядовом смысле, как наступление чего-либо, как осмысленное становление – что это, если опять не Бог и не метафизика? Можно ли доказать, что природа движется в каком-то направлении? Что перемены, которые мы наблюдаем повсюду и постоянно, управляются законами или направлены к некоей цели? Есть ли во Вселенной что-то, что можно считать направляющей силой? Ответ Ницше был – «Нет»; нет ничего подобного рода, на что можно было бы указать: напротив, если бы у Вселенной была такая цель, она была бы уже достигнута. «Вся природа мира – это… вечный хаос» (ВН, 109) – ибо кто или что может привести ее в порядок? Каждый упорядочивающий принцип, будь то Бог, «природа» или «история», должен налагаться извне – и все же это «вне» является феноменом. «Становление» для Ницше – абсолютно беспорядочные изменения: это и есть конечное следствие «смерти Бога», которое другие отказывались признать в качестве вывода, неизбежный результат исчезновения из мира «указующего перста Божьего»; и именно на это он намекает, когда говорит, что человечество должно установить свою собственную цель, ибо до тех пор, пока люди не определят своих устремлений, они будут продолжать жить так, как жили до сих пор – в хаосе.
Ницше рассматривает Вселенную как калейдоскоп изменений, и, как ни велико возможное количество различных состояний, в которые может впадать Вселенная, их число должно быть конечным. Но время бесконечно, и потому нынешнее состояние Вселенной должно быть повторением одного из предыдущих ее состояний, как и того, что было до него, и того, которое за ним последует: все события должны повторяться бесконечное число раз.
Следствием такого положения дел для жизни любого человека, который это понимает, говорит Ницше, является то, что это знание сминает его, если только он не сумеет достичь кульминации существования, ради которого он согласится изменить всю свою жизнь. Тогда зло и боль в его жизни станут положительными началами, поскольку они необходимы для достижения этого главного момента: если убрать хотя бы одно событие, все последующее изменится. Жизнь, к которой следует стремиться, несет в себе огромное количество радости – радости чувства, что власть возрастает, что очередное препятствие преодолено. Поэтому сверхчеловек как человек, чья воля к власти превзошла все, победив самое трудное, является самым радостным человеком и оправданием существования. Такой человек будет утверждать жизнь, любить жизнь и говорить «Да» даже нужде и страданию, потому как он понимает, что радость, которую он познал, была бы невозможна вне боли, которую он также познал; и, поскольку его не ужасает мысль, что радость жизни будет повторяться бесконечно, он не станет уклоняться от знания, что его боль также должна повторяться:
«Вы когда-нибудь говорили «Да» радости? О, друзья мои, тогда вы также говорили «Да» и всем горестям. Все вещи связаны и переплетены… Если вы когда-либо говорили: «Ты мне желанно, счастье, миг, мгновение!», то вы хотели, чтобы вернулось все!» (З, IV, 19, 10).
Чувство возрастания власти, чувство радости сами по себе уже оправдывают вечное возвращение, ибо радость желает вечности:
О человек, внимай!
Чем речь полуночи полна!
«Я почивал,
Но пробудился ото сна:
Сей мир глубок,
Днем эта бездна не видна.
Бездонна скорбь,
Но радость глубже, чем она.
Скорбь гонит: прочь!
Но радость вечности верна
И в глубь нее устремлена!
(З, III, 15, 3; IV, 19, 12)
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.