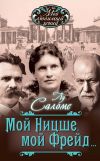Текст книги "Фридрих Ницше. Трагедия неприкаянной души"
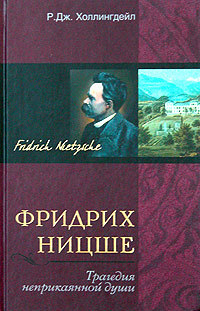
Автор книги: Р. Холлингдейл
Жанр: Зарубежная образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 23 страниц)
В разделе 3 книги «Человеческое, слишком человеческое» заявлена перемена метода, с помощью которого Ницше намерен вести исследования:
«Оценка незаметных истин. Признаком высшей культуры является умение ценить маленькие, скромные истины, найденные строгими методами, более высоко, чем выигрышные и ослепительные заблуждения, обязанные своим происхождением метафизическим и художественным эпохам и людям».
Природа проблемы, подлежащей этому отличному от других исследованию книги «Человеческое, слишком человеческое» и двух ее приложений, представлена в разделе 10:
«Как только религия, искусство и мораль будут описаны таким образом, что их можно будет сполна понять без допущения метафизических вмешательств… прекратится сильнейший интерес к чисто теоретической проблеме вещи-в-себе и «явления». Ибо… через религию, искусство и мораль мы не касаемся «сущности мира в себе»; мы находимся в области «представлений», и никакая «интуиция» не может увлечь нас дальше».
Осознание сути проблемы влечет за собой решение той «задачи», перед которой стоят Ницше и остальное человечество:
«С тех пор как утрачена вера в то, что Бог правит судьбами мира… человечество само должно ставить себе вселенские, объемлющие всю землю, цели… Если человечество не хочет погубить себя сознательным подчинением такому универсальному правилу, оно должно в первую очередь достичь беспрецедентного знания предварительных условий культуры как научного мерила для всемирных целей. В этом состоит огромная задача великих душ [Geister] наступающего века» (ЧС, 25).
Как приступить к решению этой проблемы и этой задачи? Ницше говорит, что «Человеческое, слишком человеческое» посвящено «образу человеческого, слишком человеческого – или, согласно заученному выражению, психологическому наблюдению» (ЧС, 35). Сразу же он поясняет, что именно понимает под психологией и почему психологическое исследование может помочь объяснить мир в неметафорических терминах:
«Психология – это наука, которая углубляется в происхождение и историю так называемых моральных чувств. [Пауль Рее писал в своем «Происхождение моральных чувств»: «Моральный человек стоит не ближе к интеллигибельному (метафизическому) миру, чем физический человек]». Это положение, отвердевшее и отточенное под ударами молота исторического познания, в некоем отдаленном будущем, возможно, послужит топором, который подсечет корень «метафизической потребности» человека.
Станет ли это больше проклятием, нежели благословением, – кто может ответить на это? Но в любом случае это будет иметь самые значительные последствия, одновременно и плодотворные, и страшные, обращенные к миру тем двойным ликом, который присущ всем великим прозрениям» (ЧС, 37).
Человечество гордится своими «моральными чувствами», потому что они представляются надежными гарантами вторжения «высшего мира» в низший: если наши представления о том, что такое хорошо и что такое плохо, не от Бога, тогда откуда они? В первом разделе (процитированном в главе 5) Ницше высказал свою версию: «хорошие» качества – это сублимированные «плохие». «Плохое» качество, продолжает он свое исследование, – это воля к власти, и далее задает вопрос: какие хорошие качества могут объясняться сублимацией воли к власти? Такой подход возник у него благодаря знанию Греции:
«Художники Греции, например трагики, поэтизировали с целью покорить; все их искусство немыслимо вне контекста состязания: добрая Эрида Гесиода – честолюбие – придавала им крылья» (ЧС, 170).
«[Греческие философы] обладали непоколебимой верой в себя и свою «правду», и с ней они опрокидывали всех соседей и предшественников; каждый из них был ярым и воинственныим тираном… каковым желал стать каждый грек… Деятельность законодателя – это еще более сублимированная форма тирании» (ЧС, 261);
и знанию психологии Вагнера:
«Влияние, несравнимое влияние – как? над кем? – с той поры стало вопросом и запросом, неотступно занимающим его ум и сердце» (MV, 8).
Теперь определимся, что из идей Ницше относительно власти является новшеством, а что не более чем подтверждением высказывания Гоббса: «Я полагаю общей склонностью человечества непрестанную и неуемную жажду все большей власти, что прекращается только со смертью». Вряд ли возникает сомнение в том, что жажда власти в той или иной степени является естественной потребностью человека или что часто она удовлетворяется довольно скромными масштабами. Этот очевидный факт не слишком заботил Ницше, хотя сама его очевидность являлась подспорьем в достоверности его философии. Его больше интересовала вероятность того, что действия и ощущения, казалось бы не имеющие к жажде власти никакого отношения, на самом деле были ею подсказаны. Для Гоббса власть означает политическую власть, которая в конечном итоге сводится к грубой силе; для Ницше власть – это психологическая потребность, которую человек стремится удовлетворить косвенными путями, если прямое удовлетворение претит им. Такая концепция сродни той, что воплощена в персонаже Диккенса по имени Урия Гип:
«Отец стал могильщиком ценой своей скромности. «Будь смирен, Урия, – говорит мне отец, – и ты преуспеешь. Это то, что всегда вбивали в школе в тебя и меня; это то, что срабатывает наилучшим образом. Будь смирен, – говорит отец, – и ты преуспеешь». Дела у меня и впрямь недурны… Я и теперь смирен, мастер Коперфильд, но обладаю кое-какой властью».
Урия задуман как сознательный лицемер, ханжа, и Диккенс не верит, что все человечество фальшиво; Ницше тоже не считает, что все человечество сознательно практикует ханжество. Но та мысль, что видимость самоуничижения Урии на самом деле является средством достижения кое-какой власти, то есть противоположностью того, чем кажется, повторяет мысль, заложенную в афоризме Ницше:
«От св. Луки, 18: 14 исправленное: Унижающий себя желает возвыситься» (ЧС, 87). (У Луки: «…унижающий себя возвысится».)
«Человеческое, слишком человеческое» не делает каких-либо обобщений относительно происхождения человеческих качеств из желания властвовать; оставаясь верен своему новому методу, Ницше просто исследует частные случаи. Он допускает, что благодарность может быть рафинированной формой мести (ЧС, 44); что слабые и страдающие могут желать пробудить сочувствие, потому что это дает им ощущение, что, несмотря на свою слабость, они «обладают хотя бы одной формой власти: властью причинять боль» (ЧС, 50). То, что справедливость является одним из «реально существующих» хороших качеств, как он некогда говорил Давиду Штраусу, можно понимать как соглашение между силами, обладающими приблизительно равной властью (ЧС, 92); что те, кто дает бесплатные советы, поступают так с целью распространить свою власть на тех, кому они советуют (ЧС, 299); что дразнить означает выставлять напоказ власть над тем, кого дразнишь (ЧС, 329); что приобретение знаний сопровождается чувством удовольствия, потому что оно одновременно сопровождается чувством возрастающей власти (ЧС, 252); что правду предпочитают неправде, так как руководствуются мыслью, что «власти и славы трудно добиться, прибегая к заблуждениям или лжи» (ЗМ, 26).
Но есть и другой аспект вопроса о власти. Ницше уже высказывал предположение, что личность представляет собой что-то вроде состояния и что культурная личность – это тот, кто упорядочил «хаос» внутри себя, как поступили греки в общенациональном масштабе. Поскольку это предполагает овладение самим собой, то не является ли самоконтроль, размышляет он, аспектом волевого побуждения?
«Существует вызов самому себе, наиболее утонченным проявлением которого являются многие формы аскетизма. Ибо некоторые люди чувствуют столь огромную потребность применять свою силу и властолюбие, что, за неимением иных объектов или из-за того, что их усилия в других направлениях всегда оканчивались провалом, пришли наконец к тому, чтобы тиранить некоторые отделы собственной натуры» (ЧС, 137).
«Святой упражняет то упорство в борьбе с собой, которое близко родственно властолюбию и которое дает ощущение власти даже самому одинокому человеку» (ЧС, 142).
Это «овладение собой» позже покажется Ницше самым главным аспектом воли к власти.
Мораль как таковая – суждение; что одно действие благостно, а другое губительно, также экспериментально объяснимо на языке отношений власти:
«Двойная предыстория добра и зла. Понятие добра и зла имеет двойную предысторию. Во-первых, в душе господствующих родов и каст. Тот, кто в состоянии воздать добром за добро и злом за зло и кто действительно чинит возмездие и потому слывет благодарным и мстительным, называется хорошим; тот, кто бессилен и не может совершать возмездия, признается дурным. В качестве хорошего принадлежишь к «благу», к общине, обладающей корпоративным интересом, ибо все члены ее связаны между собою понятием возмездия. Как дурной человек относишься к «злу», к толпе бессильных людей, лишенных корпоративного чувства. Хорошие суть каста, дурные – масса. Уже долгое время добро и зло означают практически то же, что знатный и подлый, господин и раб. С другой стороны, врага не считают дурным: он способен к возмездию. У Гомера троянцы и греки одинаково хороши. Не тот, кто причиняет нам вред, а тот, кто вызывает презрение, считается дурным… Во-вторых, в душе порабощенных и бессильных. Здесь всякий иной человек считается враждебным, бессовестным, принуждающим, жестоким, хитрым, будь он знатного или низкого происхождения. «Злой» здесь эпитет для каждого человека, даже для воображаемых живых существ, например Бога… Признаки благости, готовности помочь, сострадания воспринимаются… как утонченная злоба» (ЧС, 45).
Не вполне соответствующей этой теории, но впоследствии согласованной с ней является разработка той мысли, что добро есть утонченное зло и практически неотделимо от него:
«Все благие мотивы… какие бы высокие названия мы им ни давали, произросли из тех же корней, которые мы считаем ядовитыми; между добрыми и злыми поступками нет родового различия, разве только различие в степени. Хорошие поступки суть утонченные дурные; дурные поступки суть более грубые и глупые хорошие. Единственное стремление личности – это стремление к самоудовлетворению, и именно оно (включая сюда страх его утраты) проявляется при всех условиях… в тщеславии ли, мести, наслаждении, пользе, злобе, хитрости, самопожертвовании, сострадании, познании… Многие действия получают название злых, тогда как они всего лишь глупы, ибо степень разумности, которою они определены, была весьма низкой. В известном смысле еще и теперь все действия глупы, ибо высшая степень человеческой разумности, которая достижима теперь, несомненно, будет превзойдена в будущем: и тогда ретроспективному взору все наши поступки и суждения покажутся столь же ограниченными и необдуманными, сколь ограниченными и необдуманными поступки и суждения диких народов представляются сейчас нам» (ЧС, 107).
«Циклопы культуры. При виде глубоко изборожденных котловин, в которых лежали ледники, кажется почти невозможным, что наступит время, когда на том же месте будет простираться долина, поросшая лесом и травою, омытая ручьями. Так случается и в истории человечества; путь прокладывают самые дикие силы, которые в большинстве своем разрушительны, и, тем не менее, их деятельность нужна, чтобы позднее могли утвердиться более мягкие нравы. Ужасные энергии – то, что зовется злом, – суть циклопические архитекторы и укладчики путей гуманности» (ЧС, 246).
Вести себя морально означает подчиняться определенному кодексу, иначе говоря, мораль – это обычай:
«Быть моральным, нравственным, этичным – значит повиноваться издревле установленному закону или обычаю. При этом безразлично, подчиняются ли ему насильно или охотно: достаточно того, что подчиняются. Хорошим называют того, кто действует в соответствии с обычаем, как если бы по природе, в результате длительного наследования, и потому легко и охотно… Быть дурным – значит быть «не связанным с обычаем», безнравственным, действовать вопреки устоям, восставать против традиции, при этом не важно, разумна она или нет» (ЧС, 96).
Обычай полезен преимущественно сообществу:
«Происхождение обычая имеет в своей основе два положения: «сообщество имеет большую ценность, нежели индивидуум» и «более долгосрочная выгода предпочтительнее, нежели преходящая»; отсюда вывод, что долгосрочная выгода сообщества имеет безусловное превосходство над выгодой индивидуума» (ЗМ, 89).
Поскольку мораль – это обычай, наше сознание вмещает команды, внедренные еще в детстве:
«Содержание нашего сознания таково, каковым, без дачи каких бы то ни было объяснений, оно постоянно требовалось от нас в детстве людьми, которых мы уважали или боялись» (СТ, 52).
По существу, Ницше объясняет сознание очень близко тому, как это впоследствии сделал Фрейд: как «супер-ego».
Важнейшей задачей книги «Человеческое, слишком человеческое» было дать объяснение действительности, не опираясь на метафизические положения, и, объяснив ее, выйти на понимание «пред-условий культуры». Метод, принятый в работе, – «экспериментализм». Ведущей тенденцией является опровержение «высших качеств» (то есть тех, для которых предполагается внеземное происхождение) через осознание их как трансформации качеств «низших» (то есть общих у людей и животных). Особым качеством, требующим наибольшего внимания при разработке, является жажда власти. С этих позиций книга «Человеческое, слишком человеческое» представляет собой подлинную первую ступень совершенно особой и легко узнаваемой философии Ницше.
Глава 9
Скиталец
Мы покинули землю и взошли на корабль! Мы сожгли мосты – более того, мы сожгли свою покинутую землю! Что ж, кораблик, держись! Вокруг тебя океан; конечно, он не всегда рычит и порой лежит, как если бы весь был шелковый и золотой и добрый, благосклонный сон. Но будут времена, когда ты узнаешь, что он бесконечен и что нет ничего страшнее бесконечности… Жаль, если ностальгия по суше овладеет тобой, словно там было больше свободы, – ведь «суши» – то больше и нет!
Ф. Ницше. Веселая наука
1
«Мое существование – страшная ноша, – писал Ницше своему доктору Отто Айзеру во Франкфурт-на-Майне в январе 1880 г. – Я бы давно сбросил ее, если бы не занимался самыми поучительными исследованиями и экспериментами в интеллектуально-моральной сфере, будучи совершенно в том же состоянии страдания и почти полной отрешенности. Эта радость поиска знаний несет меня к вершинам, где я преодолеваю все мучения и всю безнадежность. В целом я счастливее, чем когда-либо в жизни: и все же! Постоянная боль; по многу часов в день я испытываю сильную слабость; полупаралич, затрудняющий мою речь, чередующийся с бешеными приступами (во время последнего меня рвало трое суток подряд, я мечтал о смерти)».
Три месяца, проведенные в Наумбурге, не принесли улучшения, и теперь Ницше хотелось поехать на юг, где погода всегда хороша и где он мог бы часы бодрствования проводить исключительно в ходьбе, – он все еще был уверен в целительной силе мышечной активности. Единственным препятствием на пути осуществления этого плана было то, что в его болезненном состоянии требовалась помощь компаньона. Им мог бы стать Пауль Рее, долго гостивший в Наумбурге в январе; Рее напомнил о том, что в то время в Венеции находился Петер Гаст. Беспримерная преданность Гаста Ницше была хорошо известна знакомым по Базелю, и Рее конечно же вполне резонно предположил, что преданный Гаст и есть как раз тот человек, который нужен. Случилось так, что 26 января Гаст получил от Рее неожиданный подарок в 200 марок, а с ним и письмо, в котором сообщалось о назначении этих денег. Ницше, писал Рее, едет на юг и остановится в Риве; не хочет ли Гаст составить ему компанию; если да, то расходы на проезд и содержание прилагаются. Гаст был раздосадован столь бесцеремонным обращением: он пытался завоевать признание как композитор и в 1880–1881 гг. работал над многочисленными музыкальными проектами (некоторые из них он начинал с Ницше). Его рассердило, что знакомым он интересен только в роли «секретаря и друга Ницше»[43]43
О письмах, из которых мы узнаем о делах и чувствах Гаста в тот период, см. главу 6.
[Закрыть]. Но, как всегда, любовь к Ницше подавила все менее достойные чувства, и он согласился на предложение Рее.
Тем не менее, ему пришлось дожидаться сообщения о том, когда следует приступать к обязанностям. 4 февраля Франциска написала ему, что ее сын все еще не готов к отъезду из-за плохой погоды, и только 19 февраля пришло известие от самого Ницше, – он уже в Риве. Туда и направился преданный Гаст. В день его приезда, 23 февраля, шел снег с дождем. На утро следующего дня Ницше пришел к нему в комнату в половине шестого, чтобы сообщить, что если они настроены прогуляться в этот день (а он был настроен), то им лучше всего отправиться тогда-то и туда-то, поскольку все говорило за то, что снова пойдет мокрый снег. «Исполняющий обязанности самаритянки» – так Гаст описывает своему австрийскому другу свою деятельность в Риве с начала пребывания там вплоть до 13 марта, когда они с Ницше направились в Венецию, в гости к Гасту. Он предвидел, что его помощь будет постоянно востребована, – так и случилось. 15 марта он в спешке нацарапал:
«Пишу эти строки в кафе; я на несколько минут оставил Ницше. Вчера я абсолютно не мог писать; когда я добрался до дома, я просто упал в постель. Сегодня с утра то же самое. Ты не представляешь, какого напряжения… стоит мне присутствие Ницше».
В конце марта странная пара пополнилась еще одним членом – приятелем по имени Минутти, который незамедлительно заболел сам. 8 апреля Гаст жалуется:
«То, что я вчера не писал, объясняется полным отсутствием времени, от чего я теперь страдаю. Я сыт по горло жалобами двух больных в течение всего дня. Если я в конце концов потеряю терпение от этой собачьей жизни, то уеду из Венеции… и пусть больной лечит больного подобно тому, как мертвым положено хоронить мертвых. Я скоро и сам слягу».
Он не уехал, несмотря на то что его композиторская деятельность, по сути, застыла на мертвой точке. 11 мая он писал:
«Почти не переставая идут дожди. Каково Ницше, который чувствителен к каждому облачку, появившемуся в небе, можешь себе представить».
В письме от 24 сентября Гаст рассказывает, как он провел пять или шесть дней с Ницше за чтением и беседами:
«Ты себе не представляешь, что я претерпел… сколько ночей я лежал и пытался уснуть, но, перебирая в мыслях все, что случилось за день, понимал, что ничего не сделал для себя, а все только для других; и меня порой охватывала такая ярость, что я впадал в безумие и призывал смерть и проклятия на Ницше. Мне никогда не было так плохо, как тогда… А потом, когда в четыре или пять часов утра мне наконец удавалось уснуть, Ницше частенько появлялся у меня в комнате в девять или десять и просил, не поиграю ли я ему Шопена».
Какое облегчение он должен был ощутить, когда увидел, как 29 июня его друг отбывает поездом в Мариенбад. Восхищаться острым умом и интеллектуальной энергией Ницше было одно, а опекать измученную оболочку, в которую они были заключены, – другое. Ницше и сам прекрасно понимал, какой пыткой он был для Гаста, и послал ему письмо с извинениями из Мариенбада. Снова среди лесов и гор, говорит он, он чувствует себя прежним, и снова за работой, «усердно разрывая мои моральные копи» (письмо от 18 июля). Но хорошая погода, которой он искал, обходила его стороной.
«Я все еще в Мариенбаде… – писал он Гасту 20 августа. – С тех пор как я прибыл сюда 24 июля, ежедневно идут дожди, часто весь день напролет. Дождливое небо, дождь в воздухе, но прогулки по лесу приятны».
В том же письме он признается, как сильно до сих пор он переживает отчуждение с Вагнером:
«Я… ужасно страдаю, если не нахожу сочувствия; к примеру, за последние годы ничто не может мне возместить утрату сочувствия Вагнера. Как часто он снится мне, и всегда мы снова вместе и по-прежнему близки. Между нами никогда не было сказано ни одного злого слова, а сколько при этом было приветственных и ободряющих; и я, наверное, никогда ни с кем так не смеялся, как с ним. И все это ушло – и что хорошего в том, что во многом я прав, будучи его противником! Как будто это может стереть память его утраченного сочувствия!.. Как это глупо – хотеть быть правым ценой любви».
Нет нужды комментировать неточность его воспоминаний: здесь, как и в «Ecce Homo», он воссоздает цельное ощущение, и в ретроспективе ссоры с Вагнером кажутся пустяковыми.
В начале сентября он вернулся в Наумбург, где прожил пять недель, и 8 октября снова уехал за солнцем в Италию: на этот раз он отправился в Стрезу на озеро Маджоре, по пути завернув в Базель и насладившись свиданием с Овербеком. В Стрезе он пережил рецидив болезни и пять недель спустя уже был на пути в Геную, где остался на зиму. Состояние его было плачевно, но он учился жить с ним.
«Все мои усилия направлены сейчас на осознание идеала мансардного уединения [Dachstuben-Einsamkeit], в котором все необходимые и простейшие запросы моей натуры, которым я научен долгой-долгой болью, получают все надлежащее, – писал он в ноябре Овербеку. – И может быть, я достигну его! Ежедневная борьба с головными болями и смехотворные колебания моего самочувствия требуют такого внимания, что мне грозит опасность стать мелочным – но это противовес тем глобальным, возвышенным устремлениям, которые имеют надо мною такую власть, что без некоего противовеса им я стал бы просто дураком. Я оправляюсь от тяжелого приступа, и едва отступает двухдневная немощность, как моя глупость снова уносится в погоню за невероятным, с момента, как я снова воскрес… Помоги мне сохранить это затворничество… ибо мне приходится достаточно долго жить без людей, в городе, язык которого мне незнаком; мне приходится – повторяю; не волнуйся за меня! Я живу, словно века ничто, и следую моим мыслям, не обращая внимания на даты и газеты».
Его мансардное уединение в Генуе было бедственным периодом. Зима 1880/81 г. выдалась холодная, а денег у него едва хватало на роскошь согреться. «Мои конечности часто замерзают», – писал он Овербеку 22 февраля. Весной он вновь присоединился к Гасту и провел с ним месяц в Рекоаро с конца апреля до конца мая; после отъезда Гаста он пробыл там до середины июня и затем вернулся в Сен-Морис. 23 июня Овербек получил письмо с нового курорта: Сильс-Мария, в Обер-Энгадин. «Я не знаю ничего, что бы подходило моей натуре больше, чем этот горный уголок», – писал Ницше; и действительно, в этой альпийской деревушке Сильс-Мария он нашел место, которое в его последние годы стало почти постоянным местом его жительства. Он снимал комнату, примыкающую к дому бургомистра, и столовался в сельской гостинице, а кругом были горы и лесная тишина, всегда более созвучная ему, нежели мансардное уединение в городе. Конечно, и здесь все обстояло не столь прекрасно.
«Даже здесь мне приходится многое выдерживать, – писал он, – лето в этом году намного жарче и более наполнено электричеством, чем обычно, что для меня губительно».
Но в целом Сильс-Мария снискала его расположение, и снова заметим, что целью его было не бегство от уединения, а поиски его: жители деревни были безграмотными крестьянами, для которых он был всего лишь туристом, приехавшим надолго погостить, так что во всех отношениях он был совершенно один.
Ницше скитался вот уже два года, а его здоровье едва ли улучшилось: бесспорно, отчасти в этом была повинна ущербность медицины 1880-х гг., но основная доля ответственности за отсутствие улучшения в лечении ложилась на обстоятельства, о которых идет речь в письме, написанном из Сильс-Марии матери в середине июля. Мать постоянно заботила и тревожила его неотступная болезнь, и, похоже, она упрекала его в недостаточном внимании к своему здоровью. Он пытается обнадежить ее, но его возражения, если читать их, зная, каково на самом деле было его состояние, оборачиваются полной противоположностью его заверениям.
«Не было, наверное, человека, к которому слово «подавлен» подходило бы менее, – писал он. – Тот, кто в большей степени догадывается о задаче моей жизни и ее непрекращающихся требованиях, считает меня если не счастливейшим человеком, то, по крайней мере, наиболее мужественным. У меня есть более весомые нужды, чем забота о здоровье, и потому я готов терпеть также и это. Выгляжу я, во всяком случае, превосходно; в результате моих походов моя мышечная система стала почти как у солдата; желудок и живот в порядке. Моя нервная система, учитывая огромное напряжение, которое ей приходится выдерживать, отменна и поразительна, очень тонка и очень сильна… Очень трудно диагностировать, что не в порядке с головой; изучив все научные материалы, необходимые для этого, я теперь осведомлен лучше, чем любой врач. И вообще, мою гордость как человека науки оскорбляет, когда ты предлагаешь все новые средства и даже говоришь, что я «не обращаю внимания на болезнь». Доверяй мне немного больше в этих вопросах! Я лечусь всего лишь два года, и если ошибался, то всегда потому, что уступал давлению чужих советов и пытался их опробовать… Как бы там ни было, каждый здравомыслящий врач ясно дает понять, что я могу излечиться только по прошествии долгого периода, к тому же я должен стараться избавиться от дурных последствий всех этих лжелечений, которым подвергался так долго… Отныне я намерен стать врачом себе самому, и люди скажут обо мне, что я был хорошим врачом… Всякий, кто способен понять, как мне удается сочетать заботу о выздоровлении с продвижением моих великих задач, окажет мне немалую честь. Я живу не просто очень смело, но и в высшей степени разумно, опираясь на широкие медицинские знания и непрестанное наблюдение и исследование».
Та же история, что в годы пребывания в Базеле: любая форма лечения, которая подразумевает перерыв в работе, «ложна»; излечиться можно только работой, следовательно, только он может влиять на выздоровление, ибо только он знает, как ему следует работать. Трудно принять всерьез его ссылки на свои «медицинские знания» (он сам прекрасно понимал, что их нет), как и на то, что он должен уделять особое внимание отменному состоянию своей «мышечной системы» и что его нервная система являет пример несоответствия практически всем его «наблюдениям и исследованиям» болезни. Если задуматься о глубинных причинах того, почему Ницше постоянно болел начиная приблизительно с 1872 г., мы столкнемся с фактом, что он не делал серьезных попыток следовать советам врачей; а если мы зададимся вопросом, почему он этого не делал, ответ, я полагаю, таков: он с самого начала был убежден, что неизлечим, и боялся, что умрет прежде, чем напишет все, что задумал. Обязательный характер его работы, о котором речь шла выше, вероятно, коренился в его страхе.
Он пробыл в Сильс-Марии до 1 октября и на зиму вернулся в Геную: как бы неуютно там ни было, но альпийская зима была бы для него, наверное, слишком суровой. Его второе пребывание в Генуе длилось до конца марта следующего года. Эти месяцы он посвятил работе над фрагментами, которые позже вошли в «Веселую науку», и, вероятно, не случайно большая часть ее стилистического своеобразия и богатства по сравнению с предыдущими работами проявилась одновременно с открытием «антитезы» и стилистического противовеса все еще доминировавшему Вагнеру: «Кармен» Бизе. Впервые он увидел ее в ноябре и повторил этот опыт месяц спустя. 5 декабря он писал Гасту:
«Я слушал «Кармен» во второй раз – и снова она произвела на меня впечатление Novelle первого класса… Для меня это творение равноценно поездке в Испанию – творение в крайней степени южное! Не смейся, старина; с моим «вкусом» меня вовсе непросто окончательно сбить с толку… Я и впрямь был болен, но излечился с помощью «Кармен».
В письме, на которое Ницше и ответил подобным образом, Гаст что-то сообщил ему о деятельности Вагнера, и Ницше заверяет его: «Время от времени (почему это так?) я испытываю почти потребность получать какие-нибудь общие и конкретные новости о Вагнере, и лучше всего от тебя!» Второй фестиваль в Байрейте, посвященный представлению «Парсифаля», уже находился на стадии разработки, и хотя Ницше, как и все, не видел последней оперы Вагнера[44]44
Ницше так и не увидел ее, поскольку постановка в Байрейте так и не состоялась на протяжении остатка его жизни, да и присутствие его было бы там нежелательно. В январе 1887 г. (в Монте-Карло) он слышал оркестровую увертюру к опере и был искренне восхищен. «Написал ли Вагнер что-либо лучше?» – писал он Гасту 21 января; прямота утверждений и психологическая точность в ней «как ножом, режут душу». Между этим утверждением и «Падением Вагнера» нет противоречия: то, что Вагнер не был гениальным композитором, допускал не один Ницше.
[Закрыть], он прочел текст, и антитеза «Парсифалю» – «Кармен» – стала для него символически значима, что он впоследствии использовал в полную силу.
Для себя он уже решил не ездить на фестиваль 1882 г., хотя придавал некоторое значение поездке туда Элизабет: возможно, сказывалась та самая потребность – знать о том, чем занят Вагнер. В письме от 10 февраля 1882 г., где он советует ей, как приобрести билеты, есть также упоминание о состоянии его здоровья, из которого явствует, насколько странным стало его существование. Его навестил Пауль Рее, но самочувствие Ницше не способствовало удовольствию:
«В первый день все шло очень хорошо; я выдержал и второй, приняв все тонизирующие средства, что имелись у меня. На третий день – переутомление, пополудни – потеря сознания; в ту ночь у меня был приступ; четвертый день я провел в постели; на пятый я снова встал, только чтобы днем лечь опять; на шестой и далее – постоянные головные боли и слабость».
В 1880–1882 гг. Ницше полностью написал «Рассвет» и «Веселую науку». Рукопись «Рассвета» отправилась к Гасту для копирования в самом начале а сама книга появилась в июне. «Веселая наука» заняла почти всю зиму 1881/82 г., и в письме к Лу Саломей от 2 июля 1882 г. Ницше сообщает, что накануне завершил последнюю часть рукописи, «а с ней и шестилетний труд (1876–1882), все мое «свободомыслие»!».
Как автор «Рождения трагедии» и полемики со Штраусом он приобрел довольно скорую известность; как автор работ «Человеческое, слишком человеческое», «Рассвет» и «Веселая наука» он остался незамечен и неизвестен: эти творения мастера вызвали еле заметный интерес вне непосредственного круга общения Ницше. Это обстоятельство, даже и теперь, не вполне понятно. Даже просто с литературной точки зрения «Рассвет» был самой замечательной публикацией на немецком языке 1881 года, «Веселая наука» – 1882-го. Язык «Рассвета» – это образец того, что можно достичь в современном немецком языке с точки зрения точности и ясности, а «Веселая наука» – произведение стилистически виртуозное, непревзойденное в рамках немецкого языка. В этих работах не только Ницше – сам немецкий язык обрел новое звучание. Почему хранители языка, которые несколько лет назад превозносили заурядную работу Давида Штрауса как «классику», не сумели разглядеть появление величайшего мастера немецкой прозы со времен Гете, остается загадкой; но если искать объяснение высокой самооценке Ницше, то ключ ее – в отсутствии таковой со стороны других. В то время он уже начинал обнаруживать волнение в своих работах, и с годами оно становилось все сильнее:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.