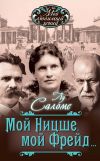Текст книги "Фридрих Ницше. Трагедия неприкаянной души"
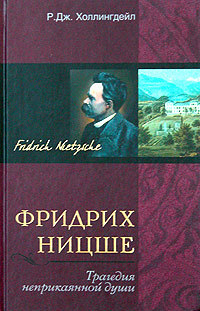
Автор книги: Р. Холлингдейл
Жанр: Зарубежная образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 23 страниц)
Глава 15
Поэт
Художники постоянно славят – они ничего более не делают: они славят все условия и вещи с репутацией способности заставить человека почувствовать себя хорошим, или великим, или опьяненным, или веселым, или счастливым, или мудрым.
Ф. Ницше. Веселая наука
Даже в годы своей зрелости Ницше никогда не переставал писать стихи, и хотя его успехи в стихосложении не могут сравниться с достижениями в прозе, все же они представляют интерес как параллельное выражение двух граней его личности, которые я назвал сократической и гераклитовой. На одном полюсе находятся краткие, в духе эпиграмм, стихи, самыми известными из которых являются те, что предваряют «Веселую науку»; на другом – не имеющие определенной формы стихи в духе «Дифирамбов Диониса». Между этими двумя крайностями – строго ритмическая рифмованная форма, развитие стиля его юношеской поэзии, способного выразить и сократическое, и гераклитово начало.
Стихи-эпиграммы – это в основном интенсификация, при помощи метра и рифмы, афоризмов объемом в одно предложение, впервые появившихся в книге «Человеческое, слишком человеческое», и их развитие, например:
«Испытание хорошего брака. Брак можно считать хорошим, если он способен вытерпеть «исключение» (ЧС, 402).
«Враги истины. Убеждения – для истины враги более опасные, чем ложь» (4C, 483).
«Благородный лицемер. Никогда не говорить о себе – весьма благородная форма лицемерия» (4C, 505).
«Плохая память. Преимущество плохой памяти состоит в том, что одними и теми же хорошими вещами можно по нескольку раз наслаждаться впервые» (4C, 580).
«Скромность человека. Как мало нужно удовольствия, чтобы большинство людей сочло жизнь хорошей; как скромен человек!» (СТ, 15).
«Преамбула к веку машин. Печатная пресса, машина, железная дорога, телеграф – все это преамбула, тысячелетних выводов которой ни у кого так и не нашлось храбрости извлечь» (СТ, 278).
«Самый опасный член партии. Самым опасным членом партии является тот, чье поражение способно развалить всю партию: а потому это лучший член партии» (СТ, 290).
Целью афоризма является легкость его запоминания, которая достигается за счет сжатой выразительности, и самая успешная в этом отношении работа Ницше – «Сумерки идолов», где ему удается свести высказывание к абсолютному минимуму слов, например:
«Даже самый храбрый из нас редко отваживается на то, что он действительно знает» (СИ, I, 2).
«Из военной школы жизни. Что не убивает меня, то придает мне силы» (СИ, I, 8).
«Немецкий ум [Geist]»: уже восемнадцать лет contradictio in adjecto» (СИ, I, 23).
«Формула моего счастья: да, нет, прямая линия, цель» (СИ, I, 44).
Но легкости запоминания способствует также размер и рифма, именно этому обстоятельству мы обязаны появлению дюжины крошечных метрических афоризмов 1880-х, например:
Fur Tanzer
Glattes Eis
Ein Paradeis
Fu r den? Der gut zu tanzen weiss.
(Для танцоров. Гладкий лед – рай для того, кто умеет хорошо танцевать) (ВН, Vorspiel 13).
Aufwarts.
«Wie kommt ich am besten den Berg hinan?» —
Steig nur hinauf und denk nicht dran!
(Вверх.
– Как лучше подняться на гору ту мне?
– Ты просто ступай и о том не думай!)
(ВН, Vorspiel 13).
Der Nachste
Nah hab den Nachsten ich nicht gerne:
Fort mit ihm in die Ho h und Ferne!
Wie wu rd er sonst zu meinem Sterne?
(Мой ближний. Мне не очень приятен мой ближний. / Пусть прочь летит, в высь и даль! / Как иначе стал бы он моей звездой?) (ВН, Vorspiel 30).
Урбанизм, характерный для эпиграмм, также очевиден и в стихах более традиционного стиля, ранними примерами которого могут служить «Ohne Heimat» («Без Родины») и «Dem unbekannten Gott» («Неизвестному Богу»)[84]84
Цит. в гл. 2.
[Закрыть]. Хороший пример 1880-х – стихотворение «Unter Freunden» («Среди друзей»), помещенное во втором издании книги «Человеческое, слишком человеческое»:
Sсhon ists, miteinander schweigen,
Schoner, miteinander lachen, —
Unter seidnem Himmels-Tuche
Hingelehnt zu Moos und Buche
Lieblich laut mit Freunden lachen
Und sich weisse ZКhne zeigen…
(Хорошо молчать друг с другом,
Лучше – вместе посмеяться,
Под шелковым неба кровом,
Развалясь во мху под буком,
Любо хохотать с друзьями,
Зубы белые являя.)
(Хорошо молчать друг с другом, Лучше – вместе посмеяться, Под шелковым неба кровом, Развалясь во мху под буком, Любо хохотать с друзьями, Зубы белые являя.)
Однако во время написания «Веселой науки» Ницше начал все больше и больше использовать этот вид стиха в качестве средства выражения своих природных эмоций: восторженные, экстатические ноты наиболее отчетливо слышатся в «Идиллиях Мессины» (написанных в 1882 г. и вошедших в приложение ко второму изданию «Веселой науки»), а также в других стихах того же периода, например в «Nach neuen Meeren» («Новым морям»):
Dorthin – will ich; und ich traue
Mir fortan und meinem Griff.
Offen liegt das Meer, ins Blaue
Treibt mein Genueser Schiff.
Alles glКnzt mir neu und neuer,
Mittag schlКft auf Raum und Zeit;
Nur dein Auge – ungeheuer
Blickt mich’s an, Unendlichkeit!
(Я в себя и выбор верю
И стремлюсь куда-то вдаль.
В синь летит, покинув берег,
Генуэзский мой корабль.
Все мне ново. Мир полдневный
Спит в пространстве временном;
Твой лишь взор неимоверный,
Бесконечность, предо мной!)
(ВН, Anhang 12)
Еще один пример – стихотворение «An den Mistral» («К мистралю»), ставшее классическим образцом динамичного ритма:
Mistral-Wind, du Wolken-JКger,
Trubsal-Morder, Himmels-Feger,
Brausender, wie lieb ich dich!
Sind wir zwei nicht eines Schosses
Erstingsgabe, eines Loses
Vorbestimmte ewiglich?
Hier auf glatten Felsenwegen
Lauf ich tanzend dir entgegen,
Tanzend wie du pfeifst und singst:
Der du ohne Schiff und Ruder
Als der Freiheit frei’ster Bruder
Uber wilde Meere springst…
(Вей, мистраль, до туч охотник,
Смерть хандры, небесный дворник,
Забияка, мне родной!
Мы не первенцы ли оба,
Не одной ли мы утробы,
Мы судьбы ли не одной?
Вверх к тебе по тропам твердым
Я бегу, танцуя, в горы
Под дуду твою и свист;
Без ладьи и без руля ты
Воле самым вольным братом
В бурном море рвешься ввысь…)
(ВН, Anhang 14)
Тенденция, намеченная в этих стихах, усилилась в годы создания «Заратустры», и кульминация ее пришлась на полумистические экстатические строки «Auf hohen Bergen»(«C высоких гор»):
O Lebens Mittag! Zweite Jugendzeit!
O Sommergarten!
Unruhig GlЁuck im Stehn und SpКhn und Warten!
Der Freunde harr ich, Tag und Nacht bereit,
Der neuen Freunde! Kommt! ‘s ist Zeit! ‘s ist Zeit!
Dies Lied ist aus – der Sehnsucht sЁusser Schrei
Erstab im Munde:
Ein Zauber tat’s, der Freund zur rechten Stunde,
Der Mittags-Freund – nein! Fragt nicht, wer es sei —
Um Mittag war’s, da wurde Eins zu Zwei…
Nun feiern wir, vereinten Sieg gewiss,
Das Fest der Feste:
Freund Zarathustra kam, der Gast der GКste!
Nun lacht die Welt, der grause Vorhang riss,
Die Hochzeit kam fЁur Licht und Finsternis…
(О жизни полдень! О мой летний сад!
И вновь цветенье!
Стан счастья в созерцанье, предвкушенье!
И день и ночь друзей встречать я рад,
О новый друг! Приди! Уж время! время!
Иссякла песнь – желанья сладкий крик
Застыл в гортани:
То маг содеял в час предугаданный,
Полдневный друг – не суть, каков твой лик —
Один двумя предстал в полдневный миг.
Мы нынче правим общую победу,
Пир всем пирам:
Друг Заратустра здесь, гость всем гостям!
Отринут страшный занавес бесследно,
Ликует мир на свадьбе Тьмы со Светом.)
(ДЗ, Nachgesang, заключительные строки)
Напряженность чувства в стихотворении «Aus hohen Bergen» едва не взламывает метрическую форму и сдерживающие рамки рифмы, прорываясь в белый стих; и действительно, для заключительного поэтического стиля Ницше характерно обилие самых разнообразных организационных принципов, за исключением метра:
Still! —
Von grossen Dingen – ich sehe Grosse! —
soll man schweigen oder gross redden:
rede gross, meine entzЁuckte Weisheit!
Ich sehe hinauf – dort rollen Lichtmeere:
o Nacht, o schweigen, o totenstiller Larm!..
Ich sehe ein Zeichen, – aus fernsten Fernen
sinkt langsam funkelnd ein Sternbild gegen mich…
(Тихо! – / Из больших вещей – я вижу большее! / Должно молчать или великое речь: / реки великое, моя восхитительная мудрость! // Гляжу я вверх – / там катит море света: / о ночь, о немота, о мертвенно-покойный шум!.. / Я вижу знак, – / из дальнего далека / нисходит медленно, мерцая, созвездье предо мной…) («Ruhm und Ewigkeit», 3; ДД, 8)
Zehn Jahre dahin, —
kein Tropfen erreichte mich,
kein feuchter Wind, kein Tau der Liebe
– ein regenloses Land…
Nun bitte ich meine Weisheit,
Nicht geizig zu werden in dieser Durre:
stro me selber u ber, traufle selber Tau;
sei selber Regen der vergilbten Wildnis!..
(Минуло десять лет – / ни одна капля не достигла меня, / ни влажный ветер, ни роса любви / – безводная страна… / Теперь свою молю я мудрость / не быть скупой в той засухе: / сама пролейся, сама стекай росой по каплям; / сама дождем пройди по пожелтевшей пустоши!..) (Из «Von der Armut des Reichsten»; ДД, 9)
Однако это состояние размытости границ между прозой и поэзией – характерная черта позднего периода. Фрагменты высокой, «поэтической» прозы встречаются во всех сочинениях Ницше, например в разделе 292 книги «Человеческое, слишком человеческое»:
«Если вы достаточно проницательны, чтобы разглядеть дно вашей природы и вашего знания, тогда вам, вероятно, может также явиться отражение отдаленных созвездий грядущих культур. Полагаете ли вы, что такая жизнь, с такой целью, слишком утомительна, слишком лишена того, что доставляет удовольствие? Значит, вы еще не постигли того, что нет меда слаще, чем мед познания, ни того, что вам придется превратить облака печали, сгустившиеся над вами, в сосцы, питающие вас молоком вашего обновления».
И еще один отрывок из «Рассвета»:
«Мы воздухоплаватели духа! Все те храбрые птицы, что улетают в даль, в далекую даль – конечно же! Так или иначе, они не смогут более двигаться далее и приземлятся на вершину мачты или голую скалу – и будут даже благодарны за это скудное пристанище! Но кто отважится сделать из этого вывод, что перед ними не открывалось огромное свободное пространство и что они не залетали так далеко, как только могли? Все наши великие учителя и предшественники в конце концов останавливались… и то же самое произойдет с вами и со мною? Но что за дело до того и вам, и мне! Другие птицы полетят дальше! Это наши прозрение и вера соперничают с ними в полете вверх и вдаль; они поднимаются над нашими головами и над нашей немощью в высоты и оттуда озирают даль и видят перед собою стаи птиц, которые, гораздо более сильные, чем мы, пробиваются туда, куда стремились мы и где все кругом море, море, море! И куда же двигаться нам? Пересекать ли море? Куда повлечет нас это могучее томление, это томление, которое нам много дороже, нежели любое из удовольствий? Почему именно в этом направлении, именно туда, куда доселе уходили все светила человечества? Не скажут ли и о нас когда-нибудь, что и мы тоже, следуя курсом к западу, надеялись достичь Индии, – но что нам была судьба потерпеть крушение о вечность? Или, братья мои? Или?..» (P, 575).
В «Заратустре», которого часто называют «поэмой в прозе», можно встретить разнообразие стилей, от самой что ни на есть прозаической прозы до рифмованного метрического стиха[85]85
Первая часть «Второй песни-танца» (З, III, 15, 1) написана в необычной форме рифмованной прозы.
[Закрыть]; а многие фрагменты и некоторые главы целиком производят впечатление белого стиха: их не только возможно расположить особым образом – как белый стих, не нарушив внутренней гармонии, но при таком расположении еще отчетливее проявляется их ритм:
Die Feigen fallen von den BКumen, sie sind gut und sЁuss;
und indem sie fallen, reisst ihnen die rote Haut.
Ein Nordwind bin ich reifen Feigen.
(Смоквы падают с деревьев, они хороши и сладки; /
и во время их падения разрывается их красная кожица. /
Я северный ветер для спелых смокв) (З, II, 2).
Nacht ist es:
nun reden lauter alle springenden Brunnen.
Und auch meine Seele ist
ein springender Brunnen.
Nacht ist es:
nun erst erwachen alle Lieder der Liebenden.
Und auch meine Seele ist
das Lied eines Liebenden.
(Ночь, / теперь говорят громче все журчащие источники. /
И душа моя тоже / Журчащий источник.
Ночь: / только теперь пробуждаются песни влюбленных. /
И душа моя тоже / Песня влюбленного) (З, II, 9).
«Dort ist die GrКberinsel, die schweigsame;
dort sind auch die GrКber meiner Jugend.
Dahin will ich einen immergrЁunen Kranz des Lebens tragen».
Also im Herzen beschliessend,
fuhr ich Ёuber das Meer. —
(«Там мрачный остров, молчаливый остров; / там и гробницы юности моей. / Оттуда я вечнозеленый венец жизни унесу». Так в сердце заключив, / Пустился я по морю) (З, II, 11).
O du mein Wille! Du Wende aller Not,
du meine Notwendigkeit!
Bewahre mich vor allen kleinen Siegen!
Du Schickung meiner Seele, die ich Schicksal heisse! Du In-mir! Uber-mir!
Bewahre und spare mich auf zu einem grossen Schicksale!
(О, моя воля! Ты порог всех нужд, / моя необходимость! Храни меня от малых всех побед!
Ты рок моей души, что я зову судьбою!
Нутро мое! Сверх-я! / Храни меня и береги меня для участи великой!) (З, III, 12, 30).
Still! Still! Ward die Welt nicht eben vollkommen?
Was geschieht mir doch?
Wie ein zierlicher Wind, ungesehn,
auf getКfeltem Meere tanzt,
leicht federleicht: so —
tanzt der Schlaf auf mir.
(Тише! Тише! Разве мир не совершенен стал? / Что сделалось со мной? / Как грациозный ветер, невидимый, / по ровному танцует морю / легчайший, как перо, и точно так / танцует сон по мне) (З, IV, 10).
Шаг от прозы такого рода до свободной поэзии «Дифирамбов Диониса» ничтожно мал. Неограниченная свобода, которую позволяет себе Ницше, является, вероятно, причиной их меньшего успеха по сравнению с теми фрагментами, которые я только что процитировал. Особенно заметно отсутствие всякого сдерживающего начала в четвертой части «Заратустры», и низкое качество огромного числа написанных в подобном стиле фрагментов, опубликованных уже после постигшего Ницше кризиса, дает основания полагать, что ему отказало сдерживающее влияние размера. И тем не менее, одно из его прекраснейших стихотворений относится к числу последних: это белый стих лирического содержания, в котором Ницше сумел поведать нам о себе больше правды, чем во всех мечтаниях Диониса, вместе взятых:
An der Brucke stand
jungst ich in brauner Nacht.
Ferner kam Gesang;
goldener Tropfen quoll’s
uber die zitternde FlКche weg.
Gondeln, Lichter, Musik —
trunken schwamm’s in die DКmmrung hinaus…
Meine Seele, ein Saitenspiel,
sang sich, unsichtbar berЁuhrt,
heimlich ein Gondellied dazu,
zitternd vor bunter Seligkeit.
HЁorte jemand ihr zu?
(На мосту стоял / недавно я в бурую ночь. / Издали дошла песнь; / золотые капли набухли / над дрожащей поверхностью. / Гондолы, светильники, музыка – / опьяненные, выплывают из сумрака…
Моя душа, струнный инструмент, / пропела про себя, незримо задета, / тайно песнь гондолы, / дрожа от разноцветного счастья. / Слышал ли кто-то ее?) (EH, II, 7)
Глава 16
Кризис
Но я хочу полностью открыть вам мое сердце, друзья мои: если боги существовали, как удержался бы я, чтобы не быть богом! Следовательно, нет богов. Я и вправду пришел к такому выводу; но теперь он выводит меня.
Ф. Ницше. Так говорил Заратустра
Когда утром 3 января 1889 г. Ницше выходил из своей наемной квартиры, он увидел извозчика, который избивал лошадь у стоянки на Пьяцца Карло Альберто. С криком он бросился через площадь и обнял животное за шею. Потом он потерял сознание и сполз на землю, все еще держась за измученную лошадь. Собралась толпа, и владелец квартиры, привлеченный уличной сценой, узнал своего постояльца и перенес его в дом. Долгое время он находился в бессознательном состоянии. Очнувшись, он уже перестал быть самим собой: сначала он пел и что-то выкрикивал, барабаня по фортепьяно, так что его хозяин, уже успевший вызвать доктора, грозил вызвать полицию. Потом он немного успокоился и принялся писать знаменитую серию посланий дворам Европы и своим друзьям, оповещая о своем прибытии в качестве Диониса и Распятого. Трудно сказать, сколько именно таких посланий он сочинил. В тех, которые он направил общественным деятелям, говорилось, что он, «Распятый», направляется в Рим «во вторник» (8 января), где должны были собраться принцы Европы и папа римский: записка по этому поводу поступила и секретарю государства Ватикан. Однако Гогенцоллернов следовало исключить из числа присутствующих, а остальным наследникам германских домов было предложено не иметь с ними ничего общего: даже теперь рейх все еще враг немецкой культуры.
Петер Гаст получил единственную строку:
«Моему маэстро Пьетро. Спой мне новую песнь: мир изменился, и небеса возрадовались. Распятый».
Брандесу – послание немного длиннее:
«После того как ты меня обнаружил, отыскать меня было уже несложно: теперь сложность в том, чтобы не потерять меня… Распятый».
Письма также поступили (в числе прочих) к Стриндбергу, Мальвиде, Бюлову, Шпиттелеру и Роде. Козима получила единственную строку:
«Ариадна, я люблю тебя. Дионис».
Буркхардту тоже пришло послание от Диониса, а позже (6 января) – гораздо более долгое послание на четырех страницах с пометками на полях:
«В своем последнем пристанище я был скорее профессором Базеля, нежели Богом; но я не смел в своем эгоизме заходить столь далеко, чтобы пренебрегать творением мира. Видите ли, человек должен жертвовать, как бы и где бы он ни жил… Я хожу везде в своей студенческой куртке, накидываю ее на плечи того или иного человека и говорю: siamo contenti? Son dio, ho fatto questa caricatura…[86]86
…вы довольны? Я Бог и создал эту карикатуру (ит.).
[Закрыть]Остальное для фрау Козимы… Ариадны… Иногда случаются чудеса… Я заключил Кайафу в оковы; а в прошлом году меня распинали немецкие доктора страшно долгим изнурительным способом. Вильгельм, Бисмарк и все антисемиты отменяются. Можешь использовать это письмо по своему усмотрению, если только это не нанесет урона моей репутации во мнении жителей Базеля».
Буркхардт принес это письмо к Овербеку, которого знал как близкого друга Ницше, и Овербек понял, что это результат психического отклонения, если не безумия. Он незамедлительно написал Ницше, умоляя его вернуться в Базель. На следующий день, 7 января, ему и самому пришло письмо из Турина:
«Несмотря на то что до сих пор ты был низкого мнения о моей способности платить долги, я все же надеюсь доказать, что я из тех, кто отдает должное – например, тебе… Только что я расстрелял всех антисемитов… Дионис».
Он направился прямиком к базельскому психиатру Вилле; тот прочел оба письма и посоветовал доставить Ницше к нему в лечебницу, и как можно скорее. В тот же день Овербек выехал в Турин. 8 января днем он приехал к Ницше на квартиру и нашел ее в состоянии полного беспорядка. Ницше снова пел и играл на фортепьяно и так шумел, что его хозяин уже решительно нацелился идти в полицию, когда появился Овербек. По его словам, он прибыл «в последний момент, когда еще можно было беспрепятственно вывести его из этого состояния»[87]87
Письмо Гасту от 15 января.
[Закрыть]. Он сидел в углу и читал корректуру «Ницше против Вагнера», или создавал видимость чтения, кода вошел Овербек; узнав своего друга, Ницше крепко обнял его и расплакался.
На следующий день Овербек и слуга проводили его на железнодорожный вокзал и путем уговоров и обмана сумели без инцидентов усадить в поезд. По прибытии в Базель 10-го числа его доставили в клинику нервных заболеваний доктора Вилле, где он пробыл до 17 января. Его поведение свидетельствовало о полном ментальном коллапсе, хотя физически он был крепче, чем в иные времена. Диагноз Вилле гласил: «Paralysis progressiva» – и в дальнейшем этот диагноз подтвердился.
14 января Ницше навестила его мать. Он узнал ее и вел вполне осмысленную беседу о семейных делах, пока, наконец, не закричал: «Вглядись в меня, тиран Турина!» – и разговор пришлось прервать. Мать пожелала забрать его домой в Наумбург, но доктор Вилле категорически воспротивился этому: Ницше требовался особый надзор, а порой и особые меры, и обеспечить их можно было только в особом учреждении. В качестве компромисса доктор предложил перевести его в клинику поближе к дому, и Овербек направил письмо Отто Бинсвангеру, директору университетской клиники в Иене, с просьбой принять Ницше у^себя. Тот согласился, и 17 января Ницше был переведен в Иену, куда прибыл поездом в сопровождении врача, слуги и матери. Поначалу он был очень спокоен, но не успели они доехать до Франкфурта, как он разразился приступом ярости против матери и оставшуюся часть пути был беспокоен и шумен. 18-го числа он прибыл в Иену, и уже в полдень был помещен в местную психиатрическую лечебницу.
Вернувшись в Базель, Овербек был совершенно подавлен мыслью о будущем своего друга. «Я никогда прежде не видел столь страшную картину коллапса», – писал он Гасту 11-го числа. Теперь, 20 января, он говорил, что «актом подлинной дружбы» было бы лишить его жизни, а не помещать в дом умалишенных.
Он пишет Гасту:
«У меня нет иного желания, как только скорейший его уход, – продолжает он. – Я не испытываю ни малейшего сомнения, говоря это, и полагаю, что абсолютно все, кто был со мной в эти дни, чувствовали то же самое. С Ницше все кончено!»
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.