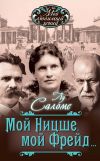Текст книги "Фридрих Ницше. Трагедия неприкаянной души"
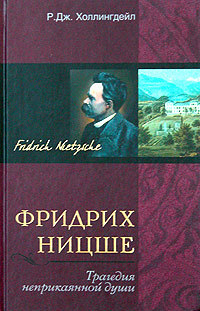
Автор книги: Р. Холлингдейл
Жанр: Зарубежная образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 23 страниц)
«Давайте же ограничим себя… чистотой наших мнений и оценок и созданием своих собственных новых таблиц ценностей… Мы… хотим стать теми, кто мы есть, – новыми, уникальными, несравненными, теми, кто устанавливает для себя собственные законы, теми, кто творит себя сам!» (ВН, 335).
Создание законов для себя самих и творение себя – это все еще загадочное занятие: мы пока не знаем, с помощью какой силы можно осуществить это. Но из другого афоризма Ницше становится ясно, что в его сознании по-прежнему живы побуждающие силы «Рождения трагедии»: обуздание страсти; и динамический фактор прогресса – конфликт. Люди должны научиться «жить опасно»:
«Я приветствую все признаки того, что наступает более человечный, более воинственный век, который, помимо всего прочего, вновь возведет в почет отвагу! Ибо ему предстоит проложить путь еще более высокой эпохе и собраться с силами, которые эта эпоха однажды потребует – эпоха, которая привнесет героизм в познание и станет вести воину во имя идей и их последствий. Для этого теперь требуются многие храбрые пионеры… люди, которые умеют быть молчаливыми, одинокими, решительными… которые внутренне предрасположены к поиску во всем того, что следует преодолеть в себе: люди, которым жизнерадостность, терпение, простота и презрение к великой суете присущи в той же мере, как и великодушие в победе и снисходительность к малым суетам побежденных… люди со своими праздниками, своими буднями, своими днями плача, привыкшие и способные повелевать и равным образом готовые при необходимости подчиняться приказу, равно достойные в первом случае, как и во втором, равно исполняя собственные задачи: люди более рискованные, люди более плодотворные, более счастливые люди! Ибо поверьте мне! – тайна осознания величия плодотворности и величайшее наслаждение бытия – это: жить опасно! Стройте свои города на склоне Везувия! Направляйте свои корабли в неизведанные моря! Живите в конфликте с равными вам и с самими собою! Будьте разбойниками и грабителями, если не можете быть правителями и собственниками, вы, люди знания! Скоро пройдет то время, когда вы могли довольствоваться скрытной, лесной жизнью, подобно пугливым оленям!» (ВН, 283).
Язык этого афоризма может служить примером «боевого» стиля Ницше. Те немногие отрывки, где он использует лексикон войны, нанесли его репутации больше зла, чем все остальные произведения, вместе взятые. Вырванные из контекста, они звучат как призыв к вооруженному конфликту и часто приравниваются к таковому; в контексте же они часто вмещают немногим более того, что он некогда написал, будучи еще учеником Пфорташуле: «Борьба – это постоянная пища души»; и обычно (как и в вышеприведенной цитате) его воинственный словарь связан с самыми невоинственными устремлениями, с философией. На самом деле в этом и кроется ключ к пониманию, почему он считал уместным вводить столь воинственные выражения в свои работы. Немецкая философия прекрасно уживалась с установленным в Германии порядком – но философы не должны уживаться с установленным порядком; до сих пор немецкие философы писали книги и не причиняли вреда – но философы не должны не причинять вреда. Страстный, активный человек восхитителен, но он не умеет мыслить, – философ должен к своей способности мыслить добавить способность действовать, он должен соединить мышление и страсть, он должен жить своей философией, не только мыслить ею, он должен стать воином, разбойником, грабителем знаний – вот что имеет в виду Ницше, когда ассоциирует философию с войной. Locus classicus[46]46
Расхожая цитата (лат.). (Примеч. пер.)
[Закрыть] Ницше о войне представляет глава «О войне и воинах» в «Заратустре». Знакомые строки:
«Вы должны любить мир как средство для новых войн. И краткий мир более, чем долгий… Вы говорите, что хороший предлог освящает даже войну? Я говорю вам: это хорошая война освящает каждый предлог. Война и храбрость свершили больше великих дел, чем благотворительность» (З, I, 10).
Менее известны строки, которые придают этим воинственным выражениям то значение, которое он в них вкладывает:
«И если вы не можете быть святыми знания, будьте хотя бы воинами. Они союзники и предвестники такой святости… Вы должны искать своего врага, вы должны разжигать свою войну – войну за ваши мнения. И если ваше мнение терпит поражение, ваша честность все равно должна торжествовать! Вы должны любить мир как средство для новых войн…» и т. д.
Другая линия приближения к сверхчеловеку состоит в том, что развитие человеческих личностей упростилось с тех пор, как вера в единого Бога исчезла:
«Монотеизм… этот окоченелый вывод из учения о некоем стандарте человека – а значит, и веры в некий стандарт Бога, за исключением которого все прочие боги не более чем ложь и подделка, – представлял, возможно, наибольшую опасность для человечества, с которой ему когда-либо приходилось сталкиваться: человечеству угрожал преждевременный застой, в каковой, насколько мы можем видеть, уже давно впали другие виды животных» (ВН, 143).
Ницше пришел к теории вечного возвращения вследствие двух потребностей: необходимости дать объяснение миру и необходимости принять его. Первая является потребностью всех философски настроенных умов, вторая – особой потребностью философа, чьи изыскания могут привести к нигилизму: понять необходимый характер всех явлений, даже – и особенно – «зла», означало бы избежать логически абсурдной позы «отторжения» мира, который не может быть иным, чем он есть. Часть пути к этому заключению вымостило представление Ницше о «злых» страстях как «циклопах культуры», но теперь он видит эту проблему более с позиций психологии личности:
«Что же? Конечная цель науки в том, чтобы доставлять человеку как можно больше удовольствия и как можно меньше страданий? Однако представьте, что удовольствие и страдание столь тесно переплетены друг с другом, что тот, кто хочет иметь как можно больше первого, должен также получить и как можно больше второго… И вполне вероятно, что так оно и есть! Во всяком случае, так полагали стоики, и были последовательны, когда желали иметь как можно меньше удовольствия, чтобы получить от жизни как можно меньше страдания» (ВН, 12).
В двух афоризмах более решительно, чем когда-либо, Ницше отразил свое видение мира на тот момент – мира кажимости, откуда невозможно осуществить «прорыв» в «более высокую реальность», – и свою решимость видеть этот мир таким, каким его следует видеть, – «приемлемым»:
«Осознанность кажимости. В каких чудных и новых и в то же время ужасных и иронических отношениях с полнотой бытия я ощущаю в себе это знание! Я обнаружил для себя, что старый человеческий и животный мир, да и вся предыстория и прошлое чувственного бытия, продолжает работать, любить, ненавидеть, мыслить во мне. Я внезапно пробудился в середине этого сна, но лишь для того, чтобы осознать, что я сплю и вынужден спать дальше, чтобы не подвергнуться разрушению: так приходится спать лунатику во избежание падения. Что мне теперь кажимость! Конечно, не противоположность некоей форме бытия – что я могу вообще сказать о какого-то рода бытии нечто, что не является предикатом его кажимости! Конечно, не посмертная маска, надетая на неведомый «х», которую при желании можно снять! Кажимость для меня – активная и живая сущность, которая столь далеко заходит в самоиронии, чтобы позволить мне почувствовать, что нет ничего, кроме кажимости и призрачной надежды и мерцающего танца духов; что среди этих сновидцев также и я, «человек знания», есть средство разворачивания земного танца и в этом отношении один из церемониймейстеров бытия и что возвышенная последовательность и единство знания, вероятно, есть и останутся первейшим средством сохранения универсальности сна и всеобщего взаимопонимания всех этих сновидцев, а тем самым и длительности сновидения» (ВН, 54).
«Я хочу более и более учиться видеть, что именно является в вещах необходимым, а также прекрасным – так я стану одним из тех, кто делает вещи прекрасными. Amor fati: да будет это отныне моей любовью! Я не хочу разжигать войн против уродливого. Я не хочу обвинять, я не хочу даже обвинять обвиняющих. Путь моей единственной формой отрицания станет сторонний взгляд! И в конце концов: я хочу отныне и во веки веков только утверждать!» (ВН, 276).
Этот последний отрывок был написан в день Нового, 1882-го года; за шесть месяцев до этой даты мысли, зреющие в нем, оформились в идею вечного возвращения. Она явилась конечным продуктом его изучения Древней Греции и стала фундаментом для «Заратустры». Самый момент, когда эта идея озарила его сознание, сохранился в его памяти вплоть до написания следующих строк «Ecce Homo»:
«…идея вечного возвращения, крайняя формула утверждения, которая вообще достижима, явилась в августе 1881 г.: она была нацарапана на клочке бумаги с припиской: «6000 футов по ту сторону человека и времени» (ЕН-З, 1).
Она снабдила Ницше новой картиной неметафизической действительности, примирила «становление» и «бытие», дала взгляд на цели человечества. В «Веселой науке» эта идея возникает в виде простого предположения «а что, если?..»: ее полное осмысление могло произойти только после того, как была отчетливо сформулирована теория воли к власти и сверхчеловека. А между тем в конце «Веселой науки» это «а что, если?..» предстает странной загадкой для всех читателей:
«Самая тяжелая ноша. А что, если однажды днем или ночью к тебе в твоем уединенном одиночестве приполз бы демон и сказал тебе: «Эту жизнь, какой ты живешь сейчас и какой жил прежде, тебе придется прожить снова и снова, бессчетное число раз; и в ней не будет ничего нового, но каждая боль, и каждая радость, и каждая мысль, и вздох, и все невыразимо малое и великое в твоей жизни должно будет возвращаться к тебе, и все в той же череде и последовательности – такой же паук и такой же лунный свет среди деревьев, также и это мгновение, и сам я». Вечные песочные часы существования будут переворачиваться снова и снова – а с ними и ты, пыль пыли! Разве не падешь ты ниц и не будешь скрежетать зубами и проклинать демона, так сказавшего? Или же ты пережил однажды невероятный момент, когда ты ответил бы ему: «Ты бог, и никогда не слышал я ничего божественнее!» Если эта мысль овладела тобой, то она, как ты сейчас, преобразила и раздавила бы тебя; вопрос всего и вся – «хочешь ли ты этого снова и снова, бессчетное число раз?» – лег бы тяжелейшим грузом на все твои действия. Или насколько хорошо должен был бы ты относиться к самому себе и к жизни, чтобы не жаждать ничего большего, нежели этот окончательный приговор и печать на нем?» (ВН, 341).
Глава 10
Лу Саломей
Кого более всех ненавидит женщина? Так говорило железо магниту: «Более всего я ненавижу тебя, ибо ты привлекаешь меня, но недостаточно сильно, чтобы притянуть меня к себе».
Ф. Ницше. Так говорил Заратустра
1
К лету 1882 г. Ницше в определенном смысле уже начал трудиться над сочинением «Так говорил Заратустра». Основы этой книги закладывались постепенно, с работы «Человеческое, слишком человеческое» до «Веселой науки», и во многих фрагментах этого последнего произведения уже проявились особенности видения и тона «Заратустры»[47]47
Например, в разделах 115, 121, 124, 125, 153, 183, 267, восьми вопросах и ответах 268–275, а также в четвертой книге полностью.
[Закрыть].
Часть первая «Заратустры» была изложена на бумаге в феврале 1883 г. Эти обстоятельства должны помочь нам увидеть «роман» с Лу Саломей в правильной перспективе. Тогда Ницше придавал их отношениям весьма большое значение, и его разочарование в неудаче на какое-то время выбило его из равновесия. Однако нет причин полагать, что все это как-либо изменило его или что его работа начиная с 1883 г. приняла бы существенно иной разворот, если бы встреча с Лу Саломей никогда не состоялась.
Пробыв около месяца с Ницше в Генуе, 13 марта 1882 г. Пауль Рее уехал оттуда и вскоре объявился в Риме. Там, в доме Мальвиды, он познакомился с Лу Саломей и влюбился в нее. Лу (правильно Луиза) родилась в Санкт-Петербурге в 1861 г. и была дочерью русского генерала с гугенотскими корнями. Решив начать самостоятельную жизнь, она вместе с матерью в сентябре 1880 г. покинула Россию, чтобы обучаться в университете в Цюрихе; там она заболела, и один друг дал ей рекомендательное письмо к Мальвиде и предложил поехать в Рим на поправку. Она приехала к Мальвиде в январе 1882 г. и как раз гостила у нее, когда там появился Рее.
Рее предложил ей выйти за него замуж, но она отказалась и ответила встречным предложением жить и учиться «как брат и сестра», взяв в компанию еще кого-нибудь одного. Эта идея удивила Рее (и привела в негодование Мальвиду, когда та услышала об этом), но он принял ее и решил, что третьим компаньоном должен быть Ницше. Ницше покинул Геную 29 марта и направился в Мессину, где пробыл три недели: чувствовал он себя очень плохо и, вероятно, возвращался в Германию на консультацию со своим врачом, когда в конце апреля появился в Риме. Он удивился, узнав у Мальвиды, что Рее тоже в Риме, да еще в обществе молодой леди, о которой Рее упоминал ему в письме в середине марта. Встретившись с обоими, он был тотчас покорен Лу, как до него и Рее. Спустя пару дней после знакомства Рее передал Лу, что Ницше просил его сделать ей предложение от его имени. Ницше был интересен Лу как третий участник их menage-a-trois – на что он с готовностью согласился, – но ни тогда, ни после он не интересовал ее как кандидат в мужья. Она отказала; однако «план обучения» оставался в силе, и местом пребывания была выбрана Вена.
Казалось, Ницше был вполне доволен таким распорядком, но втайне он не оставлял надежды покорить Лу Саломей. И после небольшого развлекательного турне в обществе матери Лу и Рее по Италии и Швейцарии (в течение которого они побывали на озере Орта и знаменитой Монте-Сакро) он снова сделал ей предложение, на этот раз лично и, по-видимому, совершенно осознанно и искренне. Лу ответила, что не хочет замуж – не только за него, но и вообще за кого бы то ни было – и что ей более по вкусу жизнь независимой женщины. Его снова, казалось, устроил такой ответ, и он удовлетворился планами совместного проживания и обучения в Вене.
Это повторное предложение имело место 13 мая в Люцерне. С 24 мая по 24 июня Ницше был в Наумбурге. Лу и Рее отправились погостить к матери Рее в город Стиббе в Западной Пруссии. События лета не вполне ясны. В недатированном письме Овербеку из Наумбурга Ницше пишет:
«Лето проходит, а все остается крайне неопределенным. Я едва-едва держусь [относительно Лу Саломей]. Я твердо решил не посвящать в это сестру; она может только испортить дело (как никто другой)».
В письме к Лу от 10 июня он писал:
«Я возлагаю столь высокие надежды на наш план жить вместе, что все… менее значимое мало волнует меня».
Все же во время месячного пребывания в Наумбурге он как-то раз все-таки проговорился Элизабет о Лу. Что именно он ей рассказал, мы не знаем; возможно, только то, что юная леди была его предполагаемой «ученицей», с которой ему хотелось познакомиться поближе, и что для этого ему требовалась помощь Элизабет. В то лето Элизабет намеревалась посетить Байрейт, где впервые ставился «Парсифаль», и было решено, что Лу должна составить ей компанию; после этого им предстояло направиться в Таутенбург, курорт в Тюрингии, а там их уже ожидал бы Ницше. В Таутенбурге все трое проведут три недели на отдыхе и в беседах, и тогда (как, должно быть, полагал в душе Ницше) он постепенно посвятит Элизабет в «аморальный» план на ближайшую зиму. Он выехал в Таутенбург 25 июня, а 2 июля писал Лу:
«Как ясно надо мною небо! Вчера мне почудилось, что я новорожденный: вы прислали мне согласие [приехать в Таутенбург], лучший подарок, который кто-либо мог преподнести мне. Сестра прислала мне ягод, Тойбнер [издатель] прислал первые три листа корректуры «Веселой науки», и в довершение всего закончена третья часть рукописи «Веселой науки», а с нею и шестилетний труд (1876–1882), все мое «вольнодумство»!.. По мере того как проходит зима, я серьезно думаю исключительно о Вене. Зимние планы моей сестры никак не связаны с моими… Я более не хочу одиночества; я хочу снова научиться быть человеческим. Увы, в этой области мне придется учиться практически всему!»
Элизабет и Лу приехали в Таутенбург 7 августа; они уже поссорились, и Элизабет уже утвердилась во мнении, что Лу была не тем типом женщины, которая могла рассчитывать на общение с Фрицем и на его симпатию. Три недели, проведенные в Таутенбурге, укрепили ее в этом мнении, и 26 августа, в день отъезда Лу, между братом и сестрой разразился скандал, котрый вынудил Ницше уехать на следующий день. Он направился в Наумбург и в начале сентября написал Элизабет (очевидно, в ответ на ее письмо к матери):
«Мне жаль слышать, что ты все еще вспоминаешь ту сцену, от которой я охотно избавил бы тебя. Но посмотри на это иначе: в результате этой ссоры выяснилось то, что в противном случае долгое время оставалось бы скрытым: Л. была равнодушна ко мне и испытывала некоторое недоверие. И когда я взвешиваю обстоятельства нашего общения, я признаю, что у нее, возможно, было на это право (принимая во внимание некоторые опрометчивые замечания нашего друга Рее). Но теперь она конечно же думает обо мне лучше – и это главное, разве не так, дорогая сестра?»
Что касается Элизабет, то, на ее взгляд, главным было вовсе не это: главным было вырвать Фрица из силков этой аморальной женщины. Она написала матери, что отказывается возвращаться в Наумбург, пока там находится ее брат, и объясняла причину: в данный момент Фриц водит компанию с аморальной женщиной, Лу Саломей; налицо позорное поведение и еще более позорное запланировано на будущее. Теперь Ницше подвергся еще одной сцене благочестия, на этот раз со стороны его матери, после которой он немедленно уехал из Наумбурга в Лейпциг. Отправленное оттуда письмо к Овербеку проясняет, что же произошло:
«К несчастью, моя сестра превратилась в заклятого врага Лу. Она была преисполнена морального негодования от начала до конца и говорит, что наконец-то поняла, что означает вся моя философия. Она написала матери, что видела мою философию в действии в Таутенбурге и была потрясена: я возлюбил зло, говорит она, а она любит добро… Короче, «добродетель» Наумбурга восстала против меня; это привело к настоящему разрыву между нами – и моя мать тоже дошла до того, что сказала мне нечто, заставившее меня упаковать чемодан и на следующее же утро уехать в Лейпциг»[48]48
Из более позднего письма мы узнаем, что же именно она сказала: якобы он был «позором могиле его отца», замечание, которого – если мое понимание чувств Ницше к умершему отцу верно – было достаточно, чтобы он в недоуменной ярости немедленно покинул дом.
[Закрыть].
Лу и Элизабет были очень разными по природе и едва ли когда-нибудь смогли бы ужиться; но, даже если Ницше и осознавал это, он недооценил собственническую натуру сестры и ее абсолютную тупость в понимании его «философии». Элизабет, со своей стороны, совершенно не поняла ситуацию, с которой столкнулась: она была уверена – и никогда не теряла этой веры, – что свободомыслящая и свободно живущая юная Саломей «преследовала» ее брата и заманивала его в свои сети; тогда как на самом деле Ницше как мужчина совершенно не интересовал Лу. Она восхищалась им как мыслителем и собеседником и наслаждалась его обществом почти не меньше, чем он наслаждался ее; все чувство сосредоточилось в Ницше.
Как не сумел он предусмотреть ненависть Элизабет к Лу, так не увидел он и любовь к ней Рее. Когда в начале октября Рее и Лу приехали в Лейпциг, Рее уже, похоже, решил, что Ницше следует исключить из их общих с Лу планов на будущее: он был слишком опасным соперником. Три недели, проведенные в Лейпциге, внешне выглядели вполне добродушно. Далее menage-h-trois предстояло переместиться в Париж; Ницше наводил справки о подходящем жилье и был слегка озадачен, когда в конце месяца Лу и Рее уехали в Стиббе, не назначив дату следующей встречи. В начале ноября в Лейпциг приехал Гаст, и за две недели, проведенные в его обществе, Ницше постепенно осознал, что от него просто избавились. Когда же он наконец постиг суть случившегося, то в ярости и отчаянии сорвался в Италию. 15 ноября он был на дне рождения у Овербека в Базеле, но, не задерживаясь, поспешил в Геную; не находя себе места и там, он перебрался в Раппало, где пробыл в полном одиночестве до 23 февраля следующего года.
2Трудно найти подходящее определение тому состоянию, в котором он пребывал в течение примерно десяти последующих месяцев, потребовавшихся ему, чтобы успокоиться. Он был человек гордый, и сама мысль о том, что он посвятил себя Лу Саломей, девушке 21 года, за неимением другой женщины, и что она спокойно оставила его, приводила его в бешенство: в первую очередь была задета его гордость. Но письмо от Рее с попыткой объяснить обстоятельства заставило его посмотреть на это дело с более разумных позиций.
«Но, мой дорогой друг, – писал он в ответ (в конце ноября), – я полагал, что ты чувствовал себя совершенно иначе и был вполне рад отделаться от меня! Сотни раз за этот год, начиная с Орты, я чувствовал, что ты «слишком дорого заплатил» за свою дружбу со мной. Я уже многое, слишком многое украл от твоей римской находки (имею в виду Лу) – и мне всегда казалось, я говорю о Лейпциге, что ты имел право немного отдалиться от меня. Думай обо мне по возможности лучше, дорогой друг, и попроси о том же Лу. Я предан вам обоим, от всего сердца… Будем иногда видеться, не так ли?»
Потом он начал перебирать события прошлого лета и осени, и в адрес Лу и Рее полетели письма, полные горьких и язвительных упреков:
«Пусть вас не сильно заботят вспышки моей «мегаломании» или «оскорбленного самолюбия» – и если бы случилось так, что однажды в приступе страсти я лишил бы себя жизни, в этом не было бы ничего, о чем стоило бы чересчур беспокоиться. Что вам мои фантазии!.. Просто отчетливо представляйте, что я, в конце концов, полусумасшедший человек, сбитый с толку совершенным одиночеством. Я пришел к этой (как мне кажется) разумной оценке положения после того, как принял – от отчаяния – огромную дозу опия. Но вместо того, чтобы в результате этого утратить чувства, я, похоже, наконец, пришел в них. На самом деле, я всю неделю был очень болен».
Возможно, так и было, но верить в это необязательно: целью письма было предупредить негодяев, что жертва их козней может дойти до самоубийства – и каково им тогда будет? Рождественское письмо 1882 г., адресованное Овербеку, обнаруживает всю глубину болезни и отчаяния, навалившихся тогда на Ницше:
«Я переживал позорные и мучительные воспоминания о прошлом лете, как какое-то сумасшествие… Это конфликт противоречивых чувств, с которым я не справляюсь… Если бы только я мог заснуть! Но самые сильные снотворные помогают столь же мало, сколь мало помогают мои прогулки по шесть – восемь часов. Если я не сумею отыскать магической формулы обратить весь этот навоз в золото, я пропал… Я теперь никому не верю: во всем я чувствую, во всем слышу презрение к себе… Вчера я прекратил всякую переписку с матерью: не мог более этого выносить… Мои отношения с Лу переживают последнее болезненное удушье: по крайней мере, так мне кажется сегодня… Иногда я думаю о том, чтобы снять маленький дом в Базеле, время от времени навещать тебя и посещать лекции. Иногда мне хочется поступить наоборот: довести мое одиночество и смирение до крайности и…»
В этом крике слышится не только голос больного, страдающего человека, но и голос художника, человека, который обращает навоз в золото. «Заратустра» в одном из своих проявлений – это гимн одиночеству, и его герой – самый одинокий человек в литературе. У Робинзона Крузо были его Пятница, ящик с инструментом и надежда на спасение; у Заратустры – только орел и змея: он «вне человеческого доступа» в самой своей правде, один даже тогда, когда гуляет по базарной площади. Последнюю главу книги «Человеческое, слишком человеческое» Ницше озаглавил «Человек наедине с собой». Теперь, в книге «Так говорил Заратустра», он пытается дать развернутое представление о человеке наедине с собой: поначалу выбирающем одиночество, затем устающем от него, ищущем спутников, чтобы покончить с этим одиночеством, выясняющем, что даже в окружении последователей он по-прежнему одинок, принимающем уединение во всей его полноте, уходящем в него и, наконец, воздающем ему хвалу и славу. Даже при видимости разговора с другими Заратустра говорит так, словно обращается к себе: эффект хорошо известного лаконизма стиля Ницше. Все неясности в «Заратустре» связаны с тем, что Ницше предполагает в читателе фоновое знание, сходное с его собственным: если читатель знаком с его произведениями, начиная с книги «Человеческое, слишком человеческое» и заканчивая «Веселой наукой», то он становится причастен этому знанию; если нет, то остается в неведении. В любом случае кажется, что Заратустру мало волнует, понимают ли его или нет, он сам – единственный слушатель, которому он поверяет глубочайшую тайну вечного возвращения. Порвав с семьей из-за Лу и Рее и затем брошенный также и ими, Ницше чувствовал, что теперь он и вправду одинок в мире, а состояние его здоровья было таково, что по странности он не мог ни умереть, ни жить. Не будь он художником, мы могли бы почти наверняка ожидать, что в пределах года он положит конец существованию, переросшему в мучительный абсурд. Но, будучи художником, он вместо этого сумел перевести боль одиночества в удовольствие, и в его образе Заратустры – он, как все вымышленные персонажи, и есть и не есть его автор – воплотить тип человека, который желает одиночества, так как оно является его природным свойством.
Первая часть «Заратустры» задает тон и настроение всей книге. Ницше решил начать ее с повторения почти слово в слово заключения «Веселой науки» и таким образом установить связь между новым произведением и своим «вольнодумством», что страстно пытались оспорить его критики. Появляются сверхчеловек и воля к власти; идет беспримерно жесткая критика современного общества. Стиль в высшей степени приподнятый и экзотический, мысль порой теряется в стихии метафор и риторики. Изобилует сексуальная образность, и есть собственное свидетельство Ницше, что его словарь не всегда остается подконтрольным ему: действительно, в его манере присутствует элемент случайности, хотя все озвучено и вполне продумано по существу, будучи выходом шести лет размышлений.
Нисхождение с высот «Заратустры» к реальностям жизни в последующие месяцы было крайне болезненным. Примирение с Элизабет заставило Ницше приехать в Рим, где она жила у Мальвиды с 4 мая по 16 июня. Здесь Ницше позволил убедить себя, что Рее с самого начала замышлял против него заговор и что неудача с Лу была следствием интриг Рее. Элизабет уже развила против Лу Саломей такую кампанию, которая дает нам новое представление о существе женской злобы: письма летели во всех направлениях, и, поскольку Лу тогда жила в гражданском браке с Рее в Берлине, были предприняты все попытки, чтобы выслать ее назад в Россию как лицо аморальное. К великому позору Ницше, он, вне всяких сомнений, участвовал в этом или вдохновлял сестру создавать сложности обоим, Лу и Рее, рассылая их родственникам письма с подробностями жизни, которую они вели. Именно эти месяцы 1883 г. наиболее сложны для понимания умонастроений Ницше. Лучшая тому иллюстрация – его письма. Наиболее важные из них, к сожалению, не точно датированы, и можно только предполагать их реальную последовательность. В одном из них, адресованном Георгу Рее, брату Пауля, и датированном летом 1883 г., он объявляет, что дальнейшее общение с Паулем Рее «ниже моего достоинства» – вот почему он вместо него пишет Георгу. Для него теперь ясно, что Лу Саломей все это время была «только рупором» Пауля, который за его спиной вел себя «как подлый клеветник, лживый мерзавец».
«Это он говорит обо мне как о низкой личности и заурядном эгоисте, который жаждет использовать все только ради собственных нужд… он упрекает меня в том, что, прикрываясь личиной идеалиста, я вынашиваю грязные замыслы относительно фрл. Саломей… он смеет презрительно отзываться о моем интеллекте, как если бы я был безумцем, который не ведает, что творит».
Что касается самой Лу, она «сухая, грязная, вонючая обезьяна с подкладной грудью». Не улавливаем ли мы в этом беглом описании любезных интонаций Элизабет, сходных с теми, что звучат в высказывании о Рее, которое приписывают Ницше? Трудно представить, откуда еще можно было почерпнуть подобные формулировки, если не из этого источника. Мы много знаем о личности Рее, и столь позорный характер высказываний ему чужд; однако он не чужд Элизабет, и волей-неволей приходишь к заключению, что все было состряпано именно ею ради того, чтобы превратить брата в желанного союзника кампании против Лу Саломей. Конечно, Ницше поступил очень глупо, поверив ей, – он и сам впоследствии признавал это. Ее реакция на его ухаживания за своей юной почитательницей была чрезвычайно экстравагантна: можно подумать, что никогда ранее в истории человечества мужчина не оставался наедине с женщиной. Ее длительное преследование Лу уже после того, как ей удалось настроить против нее Ницше, выдает невротическую навязчивость идей. Еще задолго до завершения 1883 г. Ницше опомнился и понял, что Рее всего лишь исполнил то, что он и сам желал бы исполнить, и то, что они оба влюбились в одну и ту же женщину, было просто невезением. Но Элизабет питала вражду к Лу до самой своей смерти в 1935 г. (Лу скончалась в 1937 г.)
В конце июня Ницше вернулся в Сильс-Марию и почти сразу же написал вторую часть «Заратустры»[49]49
В «Ecce Homo» он утверждает, что первые две части «Заратустры» были написаны в течение десяти дней каждая, но в «Ecce Homo» он постоянно преувеличивает темпы, которые были свойственны ему в работе. Так, он заявляет, что «Сумерки идолов» были «работой столь ничтожного срока, что я не смею огласить его» (ЕН-СИ, 1), однако можно доказать, что он трудился над книгой свыше двух месяцев, если не более. Конкретные сроки, в которые были написаны первая и вторая части «Заратустры», таким образом, точно не установлены.
[Закрыть]. Она ничуть не уступает первой части и кажется творением разума иного уровня культуры, нежели тот, что мелькнул в письме к Мальвиде, датированном августом:
«Согласно всему, что я теперь для себя выяснил, – увы, слишком поздно, – эти особы, Рее и Лу, не достойны лизать подошвы моих башмаков. Прошу прощения за эту чересчур мужскую фигуру речи! Для меня было продолжительным несчастьем, что мои пути пересеклись с Рее, этим лжецом и подлым клеветником до мозга костей».
Два письма к Овербеку свидетельствуют о постепенном восстановлении равновесия. Одно из них, помеченное просто «Сильс-Мария, лето 1883», является полной противоположностью письма Мальвиде:
«Мои родственники и я – мы слишком сильно отличаемся друг от друга. Предосторожности, которые я прошлой зимой счел необходимыми, чтобы более не получать от них писем, уже нельзя выдерживать. (Я недостаточно жесток для этого.) Но каждое презрительное слово, направленное против Рее и фрл. Саломей, заставляет кровоточить мое сердце: словно меня настраивают на вражду».
В самом конце августа он навестил Овербека и по возвращении от него написал, что теперь чувствует «настоящую ненависть к сестре», которая так повлияла на него, что
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.