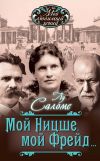Текст книги "Фридрих Ницше. Трагедия неприкаянной души"
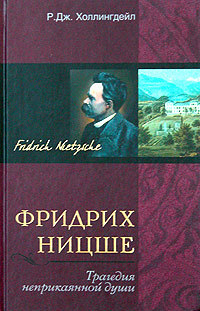
Автор книги: Р. Холлингдейл
Жанр: Зарубежная образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 23 страниц)
Впоследствии она вышла замуж за Зенгера. Она никогда не воспринимала Ницше как возможную партию и, насколько нам известно, больше никогда с ним не виделась. Ее письменный отказ был довольно мастерски изложен, так как заставил Ницше почувствовать необходимость извиниться за то, что он вообще отважился сделать предложение. 15 апреля он пишет ей смиренный ответ:
«Вы были столь великодушны, что простили меня; я чувствую это по мягкому тону вашего письма, которого я на самом деле не заслужил… У меня есть лишь одно последнее желание: если вы когда-нибудь прочтете мое имя или увидите меня снова, то не станете вспоминать об испуге, причиненном мною. Я прошу вас, во всяком случае, верить, что хотел бы загладить вину за свое дурное поведение».
В этих словах чувствуется некоторое облегчение. Жалел ли он о своем внезапном предложении, был ли теперь рад, что его не приняли? Похоже что так: любовь не любовь, которая меняет ветер между 11-м и 15-м числами одного месяца.
Самым значительным событием этого периода жизни Ницше стал первый фестиваль в Байрейте. Учитывая то, что случилось прежде, не сложно будет понять его поведение. Сам фестиваль должен был начаться 13 августа, и состоял он из трех полных циклов «Кольца Нибелунга». Ницше приехал 23 июля, к концу репетиций второго цикла. Он плохо себя чувствовал, ему и вовсе не следовало бы ехать туда, но на сей раз он не мог убедить себя остаться в стороне. Репетиция первого акта шла вечером в день его приезда; он был на ней, но ему пришлось уйти с середины из-за головной боли. На следующий день он присутствовал на репетиции второго акта, а 26-го числа – третьего. Репетиция третьего цикла началась 29 июля. В тот день Ницше прослушал «Золото Рейна», а 31-го числа – «Валькирии», но у него так разболелись глаза, что он не в состоянии был смотреть на сцену. На следующее утро он отправил Элизабет письмо с сообщением о своем отъезде, поскольку был более не в силах что-либо выдержать. 2 и 3 августа он провел в курортном местечке Клингенбрунн в Богемском Лесу, откуда писал сестре, бывшей тогда в Байрейте:
«Я совершенно точно знаю, что не выношу пребывания там; нам следовало это осознать заранее! Вспомни, как осторожно мне приходилось жить все последние годы. Я чувствую такую усталость и изнурение от краткого пребывания там, что мне будет трудно оправиться».
Он пробыл в Клингенбрунне десять дней и большую часть времени писал, несмотря на постоянные головные боли: этот материал составил часть книги «Человеческое, слишком человеческое». (Из написанного двумя годами позже письма к Матильде Майер мы узнаем, что он тогда набросал около трети всей книги, то есть – в ее окончательном варианте – первого тома.) За эти десять дней он постепенно оправился, и, когда Элизабет предложила ему вернуться в Байрейт, он уступил. Он приехал туда снова 12 августа и стал свидетелем публичного показа первого цикла «Кольца» 13–17 августа. (15-го числа спектакля не было.) Второй цикл шел с 20 по 23 августа, но Ницше не присутствовал на нем – свои билеты он кому-то отдал; а 27 августа, когда начался третий и последний цикл, он вернулся в Базель. Ввиду своих близких отношений с Вагнером он мог быть в самом центре событий всего фестиваля, но вместо этого предпочел оставаться в тени, не получая, очевидно, никакого удовольствия от происходящего. Он жил в доме Мальвиды – а мог бы, можно представить, жить в Ванфриде, если бы пожелал, – и избегал Вагнера, словно боялся личного контакта. Многие заметили, что он уехал, и радовались его возвращению. Но его угрюмый вид и дурное настроение печально контрастировали с всеобщим состоянием восторга и радости.
Таким оказался для Ницше Байрейт. Он испытывал острое разочарование и проклинал свое никчемное здоровье. Спустя годы, однако, он приписывал свое поведение внезапному прозрению относительно природы фестиваля:
«Каждый, кто имеет какое-то представление о видениях, проносившихся на моем пути даже в то время, может догадаться, как я себя чувствовал, когда однажды пришел в себя в Байрейте. Это было, как если бы я спал… Где я? Я ничего не узнавал, я с трудом узнал Вагнера. Тщетно вглядывался я в свою память. Трибшен – далекий благословенный остров: ни тени сходства. Несравненные дни закладки камня, маленький оркестр посвященных, славивших себя и имевших вкус к изяществу: ни тени сходства. Что же произошло? Вагнера перевели на немецкий! Вагнерианец стал хозяином Вагнера!.. Решительно, толпа, от которой волосы встают дыбом!.. Ни один урод не остался в стороне, вплоть до последнего антисемита. Бедный Вагнер! Какой же путь он избрал? Уж лучше бы он оказался среди свиней! Но среди немцев!» (ЕН-ЧС, 2).
И далее в том же духе. С тем же чудовищным изнурением и преувеличением, как в «Ecce Homo» – но это не значит несправедливо. Идеологическая сторона Вагнера – немецкого националиста и антисемита, – которую даже в 1888 г. Ницше предпочитал не расценивать как часть глубинной сущности его характера, обнаружилась со всей силой, и ее более нельзя было игнорировать: Байрейт вскрыл в Вагнере не только великого художника, но в той же степени и тевтонского мистического проповедника. Важно отметить, что «новый» Ницше, автор книги «Человеческое, слишком человеческое», существовал уже до начала самого фестиваля 1876 г.: фестиваль стал только поводом, а не причиной его интеллектуального развода с Вагнером. (В этом отношении «Ecce Homo» несколько дезориентирует.) Его конфликт с самим собой, выражаясь метафорически, разорвал его пополам: эмоционально он был с Вагнером, интеллектуально он отвергал его. Четвертая часть «Размышлений» – «Рихард Вагнер в Байрейте», вышедшая на второй неделе июля 1876 г., но бывшая по преимуществу творением – стала его последней попыткой вылечиться от этой расщепленности и в этом отношении оказалась вполне успешна: никогда еще Вагнер не был обрисован столь сочувственно. Но уже через месяц после публикации Ницше приступил к работе над книгой «Человеческое, слишком человеческое», совершенно антивагнеровской, каковой была признана и самим Вагнером.
Ключом к пониманию Ницше того периода, понятием, которого не хватало ни его современникам, ни ему самому, является психосоматическое расстройство. Вряд ли можно сомневаться в том, что все симптомы – проблемы с желудком, глазами, рвота, хронические головные боли – указывали на резкое обострение этой мучительной болезни.
2Четыре части «Несвоевременных размышлений» содержат мысли Ницше о природе культуры в постдарвинском мире в целом и в рейхе в частности. Тон их юношеский, агрессивный и бескомпромиссный. В первом «Размышлении» – «Давид Штраус, исповедник и писатель» – в ужасающих деталях изображен враг: это «культурный филистер (мещанин)», который не имеет даже начального представления о том, что такое культура, но стыдится в этом признаться. Он глубоко озабочен обустройством рейха:
«Из всех дурных последствий недавней войны с Францией наибольшим, вероятно, является распространение едва ли не универсального заблуждения… что германская культура также победила в этой борьбе… Это заблуждение… способно обратить нашу победу в полное поражение: в поражение, если не в полное истребление германского духа [Geist] ради выгоды «Германского рейха» (НГ 1).
Ницше дает определение культуры таким образом, что оставляет современного ему немца лишенным ее:
«Культура – это прежде всего единство художественного стиля всех проявлений жизни народа. Многознание и ученость, однако, не являются ни существенным средством культуры, ни ее признаком и при необходимости могут хорошо уживаться с противоположностью культуры, варварством, которое либо лишено стиля, либо является хаотичным нагромождением всех стилей. Но именно в таком хаотичном нагромождении всех стилей и пребывает современная Германия» (Н^ 1).
Незадолго до того вышедшая книга Давида Штрауса «Вера старая и новая» имела огромный успех у немецкой публики и уже считалась «классикой», и это было подтверждением того, что «культурный мещанин» был полным невеждой в вопросах культуры.
«Вера старая и новая» содержит сумму взглядов Штрауса: он отвергает всякую веру в возрождение религии и связывает все надежды со светской, рациональной культурой, и основания протеста Ницше очень важны для понимания такого рода «атеизма», а также причин, по которым Штрауса нельзя назвать «рационалистом девятнадцатого века». Для рационализма девятнадцатого века характерно осознание всей тяжести принятия уже разоблаченной религии и тех сложностей, которые связаны с последствиями ее отторжения. Характерным тоном рационалистов девятнадцатого века является их маниакальная жизнерадостность: они словно вышли из тюремного заключения. Штраус – типичный представитель, и сегодня он глубоко устарел с его легковесной самоуверенностью и ласковым одобрением текущего миропорядка. Возражения Ницше нельзя свести просто к его неприятию мира как такового, он указывает на невнимание к моральным и логическим проблемам, выдвинутым рационалистическим мировоззрением, и нежелание их решать. В афоризме 1888 г., направленном против Джорджа Элиота, он, с присущим ему лаконизмом последних лет, формулирует свой основной аргумент против соответственной рационалистической позиции:
«Они освободились от христианского Бога и теперь чувствуют обязанность еще более держаться христианской морали: это соответствует английской логике… У нас иначе. Когда отказываешься от веры в христианство, ты тем самым лишаешься права на христианскую мораль… Христианство – это система, последовательно продуманный и завершенный взгляд на мир. Если кто-то выбивает из него основополагающую идею, веру в Бога, он, таким образом, разбивает вдребезги весь предмет… Христианская мораль – это веление; ее происхождение трансцендентально… она истинна, только если Бог истинен – она либо стоит, либо падает с верой в Бога. Если англичане действительно полагают, что знают, на основании собственных представлений, «интуитивно», что есть добро и что зло… то само по себе это лишь следствие возвышенности христианских ценностей» (СИ, IX, 5).
Ницше действительно отказался от веры в Бога, и его презрение к Штраусу коренится в том, что Штраус только делал вид, что отказался от нее. Штраус не страдал от «смерти Бога», потому что на самом деле не верил в него; он мог ниспровергать христианство и приветствовать Дарвина как благодетеля человечества без страданий духа, потому что не ведал, что творил:
«Он признается с умилительной искренностью, что более не христианин, но что у него нет желания тревожить чей-либо душевный покой… С каким-то грубым презрением он покрывает себя меховым плащом наших творцов обезьяньей генеалогии и восхваляет Дарвина как одного из величайших благодетелей человечества – но смущает видимость того, что эта этика выстроена совершенно независимо от вопроса: «Какова же наша концепция мира?» Здесь-то и была возможность проявить врожденную храбрость: ибо здесь… ему следовало смело вывести моральный код для жизни вне bellum omnium contra omnes[37]37
«Война всех против всех», афоризм английского философа-материалиста Гоббса. (Примеч. пер.)
[Закрыть] и привилегии сильного» (Н1, 7).
Штраус принял мир bellum omnium contra omnes, но был не способен объяснить ни то, как характерные качества гуманизма могли возникнуть в таком мире, ни то, как всякая этика вообще возможна в постдарвинской вселенной:
«Штраус до сих пор даже не знает, что никакая идея никогда не может сделать людей лучше или морально выше и что поучать морали в той же степени легко, в какой искать ей основания сложно; его задачей было, скорее, взять явления человеческой доброты, сострадания, любви и самоотречения, которые и в самом деле существуют, и вывести их и объяснить на основании предположений Дарвина» (Н1, 7).
Разница между Ницше и рационалистом типа Штрауса, таким образом, налицо: Штраус считал, что тенета религии более не заслуживают доверия, и верил, что Дарвин продемонстрировал истину гипотезы эволюции, но продолжал мыслить и действовать так, словно больше ничего не изменилось; Ницше, придя к тем же выводам, осознал, что и все остальное изменилось, что вселенная утратила всякую осмысленную реальность.
Атакуя Штрауса, Ницше через отрицание волей-неволей приговорил себя к решению задачи, от которой увильнул Штраус: то есть задать вопрос, «какова же наша концепция мира» после Дарвина. Второе «Размышление» – «О пользе и вреде истории для жизни» – подступает к этой теме исподволь через размышления о наиболее яркой характеристике того времени по сравнению с прошлыми эпохами: его историческом сознании. Исходная мысль заключается в том, что знание прошлого является бременем для человека (НИ, 1). Возможно, что неведение прошлого более способствует счастью; во всяком случае, забывчивость по отношению к прошлому есть непременный спутник счастья и действия (НИ, 1). Но люди не могут забыть о прошлом более чем на несколько мгновений за один раз; они не могут стать полностью «неисторичны», как неисторичны животные; поэтому им следует учиться «преодолевать» прошлое и мыслить «над-исторично»:
«…исторические люди верят, что смысл существования становится яснее по ходу его процесса… над-исторические люди… не видят решения в этом процессе; для них, скорее, мир представляется целостным и достигшим конца в каждое следующее мгновение» (НИ, 1).
Человечество, говорит Ницше, все еще молодо, и ошибочно думать о «человеческой природе» как о неизменном качестве. Но само это предположение лежит за пределами чрезмерного исторического сознания, от которого страдает эпоха; а за пределами этого предположения находится наследие христианской эры и влияние Гегеля:
«Человеческая раса – штука неподатливая и упорная и не допустит, чтобы прогресс рассматривался в контексте сотен тысяч лет… Что такого в паре тысячелетий (иными словами, промежутке в 34 последовательных поколения по 60 лет каждое), которые позволяют нам говорить о «юности» человечества в их начале и «старости» человечества в конце? Не заключено ли в этом парализующее убеждение, что человечество уже не склонно считать заблуждением христианскую богословскую идею, унаследованную от Средневековья, идею о том, что грядет конец мира, что мы с ужасом ожидаем Страшного Суда? Разве возрастающая потребность в историческом суждении не есть та же самая идея в новом обличье?..» (НП, 8).
Убежденность в том, что ты поздний пришелец эпох, в любом случае парализует и угнетает; но окажется чудовищным и разрушительным, когда эта убежденность в один прекрасный день в результате смелой инверсии вознесет такого запоздавшего гостя до божества как истинное значение и цель всех предыдущих событий… Такой взгляд на вещи приучил немцев говорить о «мировом процессе» и оправдывать собственный век как необходимый результат этого мирового процесса. [Это случилось под воздействием] огромного и все еще продолжающегося влияния [философии Гегеля]» (НИ, 8).
Гегель призывал современного человека именовать «свой образ жизни… полной отдачей своей личности на волю мирового процесса»; а теперь влияние Гегеля пополнилось еще и влиянием Дарвина:
«…теперь история человечества – это всего лишь продолжение истории животных и растений; даже в сокровеннейших глубинах моря универсальный историк все же отыскивает свои следы в виде живой слизи… Он стоит, возвышен и горд, на вершине пирамиды мирового процесса» (НИ, 9).
«Высокомерный европеец XIX века, ты в сумасшедшем бреду! – восклицает Ницше. – Твои знания не совершенствуют природу, они только разрушают ее» (НИ, 9).
Этот крик направлен против тех, кто приветствовал Дарвина как спасителя, тогда как в действительности он свел их на уровень ничто. Под предводительством Гегеля и Дарвина они в ближайшем будущем придут к нигилистическому краху всех ценностей:
«Если наступающие господствующие доктрины о текучести всех понятий, родов и видов, отсутствии всякого кардинального отличия между человеком и животным – доктрины, которые я считаю верными, но убийственными, – обрушатся на людей еще одного поколения с яростью инстинкта, ставшего теперь нормой, то не следует удивляться, если… индивидуалистские системы, братства, созданные ради алчной эксплуатации не-братьев, и тому подобные творения… выйдут на сцену будущего» (НИ, 9).
Против этого наступающего нигилизма Ницше выдвигает «над-исторический» идеал:
«[Достойный человек] всегда восстает против слепой власти фактов, против тирании существующего и подчиняется законам, которые не являются законами исторического течения. Он всегда идет против прилива истории, либо путем единоборства со своими страстями как с ближайшими звериными данностями своего существования, либо посвящая себя достоинству» (НИ, 8).
«Наступит время, когда станут благоразумно воздерживаться от всех построений мирового процесса или даже от истории человека; время, когда станут относиться со вниманием не к массе, а к личностям, которые образуют нечто вроде моста через бурный поток грядущего. Эти личности не выдвигают никакого процесса, но живут современно друг с другом… они живут как та Республика Гения, о которой некогда говорил Шопенгауэр… Нет, цель человечества не может состоять в его конце, но только в его высших образцах» (НИ, 9).
Их создание, полагает Ницше, и есть функция культуры; и как наглядный урок того, как следует создавать живую культуру, перед нами все те же греки:
«Дельфийский бог взывает к тебе… своим оракулом: «Познай себя!»… Бывали столетия, когда греки оказывались перед лицом опасности, сходной с той, которая угрожает нам: опасности быть поглощенными тем, что уже в прошлом, и чужим, или погибнуть через «историю»… Их культура была долгое время… хаосом чужого – семитских, вавилонских, лидийских, египетских форм и идей, а их религия – битвой всех богов Востока… Греки постепенно научились упорядочивать хаос, следуя дельфийским наставлениям и возвращаясь мыслью к себе, то есть к своим реальным нуждам… Таким образом, они… не долго оставались навьюченными наследниками и эпигонами всего Востока… Таково назидание каждому из нас: следует упорядочить хаос в себе, возвращаясь мыслью к своим реальным нуждам… Так откроется греческое понимание культуры… идея культуры как нового и улучшенного physis» (НИ, 10).
«Упорядочение хаоса» – это иной способ описания победы Аполлона над Дионисом, но все еще метафора и в этом смысле бесполезная: Ницше не может объяснить, о чем конкретно идет речь. Но кардинальные понятия его зрелой философии уже присутствуют в «Размышлении» об истории, несмотря на то что они пока не нашли четкого воплощения: понятие «упорядочение хаоса» ведет к главе «О самопреодолении» в «Заратустре», где впервые описана воля к власти; та мысль, что «цель человечества не может состоять в его конце, но только в его высших образцах» ведет к Ubermensch (Сверхчеловеку), человеку, который упорядочил в себе хаос; представление о над-историческом человеке ведет к вечному возвращению. Он также острее, чем прежде, обозначил типичную проблему о «верном, но убийственном». Дарвинизм верен, но грозит катастрофой; учение о том, что реальность «становится», но никогда не есть, тоже справедливо, но тоже представляет угрозу. Ни одно утверждение нельзя отвергнуть: оба они в конечном итоге будут преодолены.
Третье размышление – «Шопенгауэр как Учитель» – закрепляет идею о том, что «высшие образцы» человечества суть его цель и что каждая личность может осознать «греческую идею культуры… как новый и улучшенный physis», «возвращаясь мыслью к своим реальным нуждам».
«Человеку, который не желает принадлежать массе, нужно только перестать легкомысленно относиться к себе и следовать своему сознанию, которое взывает к нему: «Будь самим собой! Все, что ты в данный момент делаешь, думаешь, желаешь, – не ты!» (НШ, 1).
«Но как можем мы вновь отыскать себя? Как человеку узнать себя?.. Молодая душа должна оглянуться на жизнь с вопросом: «Что ты до сих пор любил по-настоящему, что притягивало твою душу, что владело ею и в то же время благословляло ее?» Представь эти вещи… перед собою, и, может быть, они дадут тебе… фундаментальный закон твоего собственного, подлинного я… ибо твоя настоящая природа лежит не глубоко погребенная внутри тебя, а находится неизмеримо высоко над тобою… Есть и другие средства найти себя… но я не знаю лучшего способа, как думать о своих учителях» (НШ, 1).
Следующий затем очерк Ницше посвящает размышлениям о своем «учителе» – Шопенгауэре. Примечательно, что о философии Шопенгауэра сказано буквально два слова; акцент делается на независимости его мышления и позиции, а также на его интеллектуальной смелости:
«Философ полезен мне только в той мере, в какой он может являть для меня пример… Но этот пример должен сопровождаться его внешней жизнью, не только его книгами… Кант, привязанный к своему университету, подчинился его правилам… поэтому естественно, что его пример представляет, помимо прочего, университетских профессоров и профессорскую философию» (НШ, 3).
«Там, где существовали мощные общества, правительства, религии, общественные мнения – короче, везде, где бывала тирания, – там одинокий философ был ненавидим; ибо философия предлагает человеку прибежище, в которое не может пробиться ни один тиран» (НШ, 3).
В век разобщенности и тирании, который, Ницше не сомневался, неизбежно грядет, философ типа Шопенгауэра сохраняет «человеческий образ»:
«В течение целого столетия мы готовились к полному потрясению основ… Кому охранять и защищать гуманность… среди опасностей нашей эпохи? Кто подаст пример человеческого образа, когда люди… пали до уровня животных или даже автомата?» (НШ, 4).
Существовало, говорит он, три «человеческих образа», завещанных современной эпохой, и он называет их именами Руссо, Гете и Шопенгауэра. Человек Руссо по преимуществу революционер, человек Гете – созерцатель, человек Шопенгауэра – тот, кто «добровольно принимает на себя страдания, неотъемлемую часть правдивости» (НШ, 4):
«Тот, кто стал бы жить по Шопенгауэру… напоминал бы скорее Мефистофеля, нежели Фауста… все, что существует, что можно отрицать, заслуживает отрицания; и быть честным означает верить в существование, которое никоим образом нельзя отрицать… Безусловно, он станет разрушать свое земное счастье своей храбростью; ему придется стать врагом тех, кого он любит, и учреждений, породивших его; он может не щадить людей или вещей, даже при том, что будет страдать, когда страдают они; он будет неверно понят и долгое время может восприниматься как союзник власти, ненавистной ему… ему придется сойти в глубины бытия с целым рядом странных вопросов на устах: зачем я живу? Какой урок должен я извлечь из жизни? Как мне стать тем, что я есть, и почему я страдаю от того, каков я?.. Тот, кто расценивает свою жизнь не более как мгновение в эволюции расы, или государства, или науки… не постиг урока бытия» (НШ, 4).
«Урок бытия» состоит в том, что только великие личности имеют какую-то ценность, а великая личность – это тот, кто больше, чем животное, больше, чем человек, – это Ubermensch, в более поздней терминологии Ницше:
«До тех пор, пока кто-то жаждет жизни как удовольствия, он не поднимает глаз выше горизонта животного, так как всего лишь более осознанно жаждет того, что животное ищет посредством слепого импульса. Но именно это мы все и делаем большую часть наших жизней… Но бывают моменты, когда мы осознаем это… мы видим, что, согласно со всей природой, мы проталкиваемся к человеку, как к чему-то, что выше нас» (НШ, 5).
«…Так кто они, способные возвысить нас? Они те самые настоящие люди, те, которые уже более не животные, это философы, художники и святые; природа, которая никогда не делает скачков, сделала один свой скачок… создав их» (НШ, 5).
Человечество должно работать постоянно, чтобы создавать индивидуальные великие человеческие существа, – это, и ничто другое, составляет его задачу… Ибо вопрос таков: как может твоя жизнь, индивидуальная жизнь, сохранять высочайшую ценность, глубочайшую важность?.. Только путем жизни во благо редчайших и ценнейших образцов» (НШ, 6).
«[Всякий, кто поступает так] помещает себя в круг культуры [и говорит] я вижу над собой нечто выше и человечнее, чем я; пусть каждый поможет мне достичь этого, как я помогу каждому, кто знает и страдает, как я: так что в конце концов может появиться человек, который чувствует себя совершенным и безграничным в знании и любви, восприятии и силе и который в своей завершенности заодно с природой – судьей и оценщиком вещей» (НШ, 6).
Все четвертое «Размышление» – «Рихард Вагнер в Байрейте» – в отличие от прочих трех, представляет скорее биографический интерес, нежели философский. Здесь важно не то, о чем Ницше писал, а сам тот факт, что он написал очерк о Вагнере в 1875 г. и опубликовал его в 1876 г., имея в виду приурочить его к первому фестивалю в Байрейте. Очерк написан в откровенно хвалебном тоне, и в «Ecce Homo» Ницше поясняет, что здесь, как и в эссе о Шопенгауэре, он на самом деле писал о самом себе. «Очерк «Вагнер в Байрейте» – это в11 дение моего собственного будущего», говорит он (ЕН-НШ); и снова:
«…то, что я слышал в музыке Вагнера в юности, не имеет ничего общего с Вагнером… Подтверждение тому… мой очерк «Вагнер в Байрейте»: во всех ключевых психологических фрагментах речь идет только об одной личности – можно не сомневаясь вставить мое имя или слово «Заратустра» везде, где текст содержит слово «Вагнер»… У Вагнера и самого была такая мысль: себя в очерке он не узнал» (ЕН-РТ, 4).
Это заявление совершенно неприемлемо, и утверждение, что Вагнер не узнал себя в очерке, неправда. Ницше послал ему текст в июле 1876 г., и оба – Вагнер и Козима – пришли от него в восторг. (Как и король Людвиг, которому Вагнер направил экземпляр.) Вагнер написал Ницше почти немедленно: «Друг! Твоя книга гениальна! Как удалось тебе так хорошо меня узнать?» Во всяком случае, исследователь Вагнера скорее восхитится проявленным в очерке пониманием личности маэстро, чем поверит, что изображенный здесь человек – Ницше, а вовсе не Вагнер.
С точки зрения философии Ницше в очерке есть один важнейший элемент, который является мостиком между его ранними произведениями и книгой «Человеческое, слишком человеческое»: объяснение творческой энергии Вагнера его волей к власти. В «Размышлении» об истории он уже предположил, что тот процесс, который там назван «упорядочением хаоса» и посредством которого греки стали единой и живой культурой, может также работать и в каждой отдельной личности как разновидность состояния, характерного конфликтующими побуждениями и эмоциями. В ретроспективе видно, что Ницше уже приблизился к концепции жажды власти как ведущей идее государства и личности, но эта концепция была еще затушевана аполлоно-дионисийским дуализмом. В очерке «Рихард Вагнер в Байрейте» он уже смотрит на вещи иначе: он уже повидал Вагнера крупным планом и был готов дерзнуть на психологический анализ его развития. С Вагнером к нему пришла и идея воли к власти, трансформированная в художественном творчестве не как отдаленное и полуметафорическое явление, а как реальное воплощение:
«Когда ведущая идея его (Вагнера) жизни – идея, что ни с чем не сопоставимого влияния… можно достичь через театр – овладела им, она привела все его существо в самое неистовое возбуждение… Эта идея впервые появилась… как выражение его скрытой личной воли, ненасытно жаждущей власти и славы. Влияние, несравнимое влияние – как? над кем? – с той поры стало вопросом и запросом, неотступно занимающим его голову и сердце. Он хотел покорять и править, как ни один художник до него, и при возможности достичь единым ударом того тиранического всемогущества, к которому тайно взывали его инстинкты» (№V, 8).
В результате Вагнер стал гением театра и не остановился до тех пор, пока не создал целый маленький мир, где его слово было законом.
Ницше нигде не высказывался осуждающе по поводу такого источника искусства Вагнера, считая это чем-то недостойным, ведь свою страсть к власти Вагнер направил в чисто идеальное русло. История девятнадцатого века была бы совершенно иной, если бы Вагнер добивался власти через политику или армию: в нем были задатки второго Наполеона – что представляло великую ценность для Ницше-психолога.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.