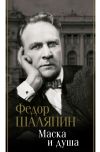Автор книги: Сборник статей
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 17 страниц)
«А есть ли еще в Будапеште цыгане?»
Один вопрос Рахманинова, судя по всему, основательно поразил его собеседника из газеты. Есть ли еще в Будапеште цыгане? При чем тут цыгане? Композитор из загадочной России пояснил. В свой прошлый приезд в Будапешт в 1910 г. 37-летний Рахманинов, кстати, уже написавший к тому времени свою сюиту Венгерские танцы, как выяснилось, часами просиживал в местных ресторанах, слушая и изучая цыганскую музыку. «Через некоторое время, – признался Сергей Васильевич, – я уже мог различать – когда цыгане играли настоящие народные мелодии, а когда – лишь подражания. Впрочем, это было нетрудно, ибо у венгерских народных мелодий своя характерная красота. Я бы хотел поближе изучить музыку венгерского народа, но вы видите, времени нет совсем. Как только закончится концерт, я уже мчусь на вокзал и еду дальше. Такая моя жизнь…»
Кто знает, задержись тогда Рахманинов в Будапеште на пару-тройку дней, быть может, мировая музыкальная культура со временем обогатилась бы еще одним шедевром по мотивам венгерских мелодий. Увы. Будапештский концерт Рахманинова 29 ноября 1928 г. стал вторым и последним свиданием композитора с венгерской столицей. Вскоре пошатнувшееся здоровье композитора и блестящего исполнителя заставит отказаться от тяжелых гастрольных турне. Времени вернуться к венгерской музыке у него, к сожалению, уже не будет.
Между двумя мировыми войнами: русская эмигрантская литература глазами венгров
Эржебет Шиллер
Никакой культурной, тем более литературной жизни у русской эмиграции в Венгрии не было. Как не было ни единого писателя или поэта среди здешних русских эмигрантов, не говоря уже о газете или журнале. И это в то время, когда в большинстве крупных европейских городов выходило хотя бы одно-два периодических издания, а в крупных культурных центрах до дюжины! На то, разумеется, были свои исторические и политические причины.
Историческими, а точнее, историко-литературными обстоятельствами объясняются и представления венгерских писателей и читающей публики о русской литературе: то как она присутствовала в сознании общества. Как и повсюду в Европе конца XIX – рубежа XX веков, в Венгрии тоже была мода на русскую литературу. Отдадим должное и явлениям более ранним: интересу Яноша Араня к гоголевской «Шинели» или же «Евгению Онегину» в великолепном переводе Кароя Берци, сильно повлиявшему на всю венгерскую литературу последней трети XIX века. Особенно популярны на рубеже веков были Достоевский и Толстой, ну и Тургенев, а позднее Чехов, конечно. По одному указателю имен в вышедшем под названием «Гении» уже после смерти крупного писателя Д. Костолани (1936) сборнике его статей о зарубежных авторах можно судить о «русских предпочтениях» венгерской читающей публики в XX веке: Пушкин (статья 1935 г.), Тургенев (1927), Достоевский (1921), Толстой (1908, 1910, 1928, 1929), Чехов (1922), Леонид Андреев (1918), Горький (1924); недостает разве что Мережковского, но, зная вкусы Костолани – это неслучайно. Тяга к мистицизму, пренебрегающая психологическим обоснованием мистификация истории – всё это было ему чуждо.
Переводили и других, но полузабытый сегодня Мережковский был в свое время очень знаменит; многие были знакомы и с творчеством Аркадия Аверченко. Переводили почти без исключения с немецкого; знающих русский язык переводчиков было ничтожно мало. (Что безусловно служило источником трудностей и недоразумений. И тем не менее переведённый при посредничестве немецкого языка Чехов в переводе Костолани и Арпада Тота остается непревзойдённым по сей день).
И хотя в период между двумя войнами с оригинала переводят всё чаще, а пишут о русской литературе подготовленные, хорошо знающие язык литераторы, посредническая роль Запада по-прежнему остается в силе. (Явление, хорошо известное и в наши дни, когда всё давно уже переводится с оригинала, но внимание переводчиков и читателей к той или иной современной написанной по-русски вещи чаще всего предопределяется её успехом за рубежом).
Между двумя войнами упоминания о литературе русской эмиграции появляются в венгерской прессе в самой различной связи. В газетах – по случаю; тут в фокусе внимания находились личность и конкретное событие: выход в свет той или иной книги, театральная постановка, интервью по какому-либо поводу, а иногда смерть писателя. Писали о русской литературе в манере, отработанной ещё в восьмидесятые годы минувшего века. Вот, к примеру, отрывок из некролога на Чехова в «Vasârnapi Ujsâg» («Воскресной газете»): «Тремя столпами сегодняшней русской литературы были Толстой, Горький и Чехов; и пусть голос, мироощущение каждого из них неповторимы, все трое столь истинно русские, что каждая их строка исполнена тоски и печали бескрайних русских равнин, и на каждой – отпечаток ребяческой, склонной к крайностям мысли и естественного чувства русского человека»1. Писавшие и позже в этом ключе непременно сопоставляли – сравнительно скупо очерчиваемые ими – явления современной советской русской литературы с картиной литературного процесса XIX века, как они её себе, конечно, представляли.
В двадцатые годы выходят даже работы венгерских авторов по истории русской литературы, так или иначе касающиеся творчества эмигрантских писателей, сообщения о них появляются время от времени и в литературной периодике; речь тут чаще всего шла об отдельных писателях, которые жили в изгнании, об эмиграции как о сообществе писали крайне редко, от силы в двух-трёх более серьёзных обзорах. До середины двадцатых годов русскую литературу (включая советскую) воспринимали как нечто целое, даже и Горький не выступал в качестве феномена, обособляющего советскую литературу. Позднее, с растущей самоизоляцией СССР, с вынужденным ограничением передвижения писателей, оставшихся на родине, и на рецепции литературных явлений, и отчасти уже на выборе книги для перевода сильно сказываются политические предпочтения.
Из современников в прессе больше всего говорят и пишут о Горьком, популярность которого в Венгрии (и всей Европе) ведет начало ещё от рубежа веков. Показательно, что ни критика, ни публика не открыли для себя со времен войны ни одного нового имени. Горького, разумеется, нельзя считать писателем-эмигрантом в сегодняшней трактовке этого понятия. Даже живя в Италии, официально он не был беженцем, режиму не противостоял, вещи его могли издаваться и издавались в СССР. Да и связи его с русской эмиграцией тоже тесными не назовёшь. Как бы то ни было, то, что писалось о нём, несомненно заслуживает внимания, тем более что, говоря о современной русской литературе, венгерские авторы рассматривали его творчество как своего рода ориентир, с которым соотносили других авторов. В межвоенные годы фигура Горького была равно притягательна в глазах публики как в политической, так и в писательской, творческой своей ипостаси. На Западе он и раньше был известным писателем; считалось, что его произведения в какой-то мере подготовили революцию, что он был сначала другом, а позднее стал противником Ленина и покинул Россию (согласно официальной версии, из-за болезни лёгких). Говорили и о его конфликте со Сталиным, несмотря на который он тем не менее несколько раз посетил родину, прежде чем вернуться окончательно. Все его поездки домой и возвращения на Запад освещались и комментировались венгерской прессой. Возьмём хотя бы несколько газетных заголовков: «Беседа с Горьким о тайне Ленина»2, «Горький окончательно отворачивается от России»3, «Максим Горький тоже не доверяет Советам»4, «Бегство Горького из России»5. В последней из названных статей берлинский корреспондент «Pesti Naplo» («Пештского дневника») утверждает, что на самом деле Горький спасается от цензуры, ибо будь дело в одной лишь болезни лёгких, то ему б и Крым подошёл. Подобно своим западным коллегам, венгерские журналисты неоднократно пытаются разговорить
Горького и даже в Сорренто ради этого приезжают. Костолани тоже едет к нему, с женой и сыном, о чем отчитывается в «Pesti Hirlap» («Пештском вестнике») от 31 августа 1924 г. Свою поездку Костолани обосновывает тем, что «Горький – один из самых интересных людей сегодняшней Европы, в ком воистину воплотилось время», и что живёт он «в загадочном изгнании». Согласно Костолани, их приняли в Сорренто благодаря тому, что его жена оказалась похожа на одну знаменитую итальянскую актрису. Костолани передал Горькому, что «один из наших историков литературы уже написал для него нужный обзор [венгерской литературы], о котором он еще не знает, и который должен выйти в ближайшем номере основанного Горьким берлинского журнала». Костолани имел в виду длинную обстоятельную статью по истории венгерской литературы XX века Аладара Шёпфлина, которая, насколько мне известно, по-русски так и не была опубликована, а вышла в свет в «Нюгате» 6. Об обстоятельствах возникновения этой работы, как и о прочих международных связях «Нюгата», в своё время много писали, ссылаясь, главным образом, на свидетельство писателя Оскара Геллерта7.
Знаменитый случай: «Дело Артамоновых» по-венгерски, в «Нюгате», вышло раньше, чем по-русски! Оскар Геллерт, будучи редактором «Нюга-та», написал Горькому в Сорренто. С переводом в завязавшейся переписке ему помогал младший брат Хуго Геллерт, переводчик множества произведений, который выучился языку в русском плену, и жену тоже привёз из России8. Горький передал им корректуру «Артамоновых», которая вскоре была опубликована. Всё это чистая правда, не забудем, однако, что, хотя речь идёт об общепризнанно и по своим убеждениям советском писателе, контактами с ним «Нюгат» был обязан тому, что он жил заграницей. Рукопись прибыла в редакцию не из-за «железного занавеса», а из Сорренто. Горький даже написал для «Нюгата» статью под названием «Призвание писателя и русская литература нашего времени»9. Это важная с точки зрения понимания сути эмиграции работа: обстоятельная и при этом (возможно именно в силу особого положения пишущего) на редкость непредвзятая, не задетая политикой. Горький говорит с позиций неделимой русской литературы, но даёт понять, что это относится к переходному для нее периоду: «Сегодняшнее положение русской литературы как целого очень неопределённое. Самые выдающиеся писатели в эмиграции рассеяны по
Европе, их отравила политика», «едва ли не каждый из самых замечательных и одарённых представителей русской литературы живёт за пределами России». Это Бунин, Куприн, Ремизов, Мережковский. Упоминает Горький и оставшихся на родине, самым талантливым из них он считает Сергеева-Ценского. (По рекомендации Горького в 1928 году «Нюгат» в нескольких номерах печатает с продолжениями главы его эпопеи «Преображение России» в переводе Хуго Геллерта.) Статья Горького высвечивает особенности русской литературной жизни, в том числе и ту (причем именно в связи с Сергеевым-Ценским), которая к концу двадцатых будет изжита: вопрос «тут» или «там» в середине двадцатых ещё не был столь роковым, как не стоял ребром он и в отношении самого Горького. Вот что пишет Горький о Сергееве-Ценском: «Во время революции он написал несколько замечательных вещей, одна из которых, повесть «Чудо», вышла в Берлине по-русски. Её ещё и в каком-то провинциальном русском городке напечатали, что в наших глазах есть свидетельство поверхностности цензуры, ибо с ее точки зрения вещь явно контрреволюционная». Горький называет определяющих лицо советской литературы художников, тех, кого мы и по сей день считаем значительными авторами (за исключением, пожалуй, самого Сергеева-Ценского); некоторые из них эмигрировали позднее (например, Ходасевич), иные вынуждены были умолкнуть (Зощенко); в перечень вошли такие имена как Леонид Леонов, Булгаков, Всеволод Иванов, Борис Пильняк, Андрей Белый, но в то же время Маяковский и его круг, представители авангарда, акмеисты, Пастернак не оказались в списке имен.
Самый знаменитый эмигрантский автор – Дмитрий Мережковский. Его положение сходно с горьковским: множество его произведений были переведены на венгерский еще до первой мировой войны, и своей неувядающей и в межвоенные годы популярностью он был обязан прежде всего давним сочинениям. Успех Мережковского был, однако, неоднозначен: современная ему, по сей день служащая нам ориентиром венгерская критика давала его захватывающим книгам не слишком высокую эстетическую оценку. Так, Аладар Балинт не просто называет «Леонардо да Винчи» (1901) донельзя перенасыщенным местами действия и событиями, ловко написанным, но легковесным романом, но еще и упрекает автора в «лживом пафосе русского национального самосознания» в связи с появляющейся в конце книги фигурой иконописца10. Интереснее всего критическая статья в «Нюгате» по случаю выхода в Венгрии в 1921 году сборника эссе Мережковского о русской и западноевропейской литературе «Вечные спутники» (1897). В ней автор «уличается» в том, что, подходя ко всему с «русской меркой», он при этом испытывает неутолимую тоску по западной культуре. Осудив книгу за догматизм и национализм, рецензент обнаружил в ней родство со «Сметённой деревней» Дежё Сабо: для обоих писателей «расовые ценности» превыше всего11. Особенный успех имел писавшийся Мережковским уже в эмиграции и вышедший на венгерском языке в 1933 г. его трактат «Иисус Неизвестный», хотя ни тогда, ни позже венгерская критика не причисляла его к высокой литературе: автора чествовали скорее как мыслителя-мистика, вплотную подошедшего в этой книге «к величайшим из вопросов о первопричине, начале и конце мира и бытия»12. Переломный в жизни Мережковского разрыв с родиной остался как бы и незамеченным критиками. Что неудивительно, ибо даже опосредованно он не отразился в его сочинениях. Свидетельствующая об осведомлённости автора, жаждущая проникнуть в суть идей этого «вечного русского» писателя и при этом несколько высокопарная статья в «Нюгате» о Мережковском завершается так: «Истинные величины русской литературы, граф Лео Толстой (описка, имелся в виду Алексей Толстой, кстати, уже вернувшийся к тому времени, а именно весной 1923 г. в Россию – Э.Ш.), Куприн, Бальмонт, Бунин живут в Париже и в Берлине, Северянин в Эстонии (…) Горький возвращается домой, переходит на сторону революции, после чего замолкает в отвращении. (…) 1921 год. Год, когда Мережковский выпускает в свет последнюю часть второй своей трилогии, «14 декабря», в Берлине и в Париже, в этих мировых антиподах, как бы возвещая тем самым свой окончательный триумф над скачущим на розовой свинье (sic!) обожаемым и ненавистным Западом. Жена разделяет с ним изгнание, в котором он со всё той же фанатической верой и апостольским рвением пишет Христа и Антихриста, Толстого, в святой своей одержимости истиной Третьего завета пишет пророчества, как когда-то на страницах «Северного Вестника» или «Нового пути». (…) Издалека Мережковский оплакивает несчастье падшей, многогрешной, обожаемой своей матери, святой Руси. Последний его труд – «Антихрист». Последнее пристанище святому безумию мятущейся в отчаяньи русской души»13. За Мережковским в порядке известности следовал Бунин, одна из повестей которого (см. ниже) была переведена ещё до принесшей ему в 1933 г. настоящую славу Нобелевской премии. Венгерская пресса ценила Бунина выше Мережковского, правда, читателей у него было, скорее всего, поменьше, а вот пафосных дифирамбов в адрес «русскости» как таковой, подразумевавшей заведомо чудодейственные качества – отнюдь! Столь же типично было отмечать в Бунине продолжателя традиций классической русской литературы XIX века. Вот как начиналась основательная, с обзором всего творчества, статья по случаю выхода в свет на венгерском языке в 1926 г. «Митиной любви» (в венгерском переводе «Святыни любви»!). «Россия – неисссякаемая древняя почва, которая – какие бы вихри не бушевали над нею – вечно родит великих художников, с необычайной философской силой указующих новые пути, открывающих новые глубины. И в том, что роман сегодня – это нечто большее, чем просто развлечение, в значительной степени есть заслуга русских писателей, запускающих свою храбрую руку в самые глубины человеческой души, чтобы нащупать там потаённые её проблемы. Мы знали и ждали, что сегодня, когда русская нация гибнет от ужаснейших эпидемий, закалённый в муках и облагороженный ими родится новый русский классик, наследник Гоголя, Тургенева, Достоевского, Чехова»14. Менее патетичен другой рецензент, Меньхерт Лендел: он приветствует не из ряда вон выходящего писателя, а отличную книгу: «’Святыня любви” показала любовь с новой стороны»15. Присуждению Бунину Нобелевской премии посвящено несколько коротких газетных сообщений и интервью, среди них и заметка Костолани, несколько романтически представлявшего себе её вручение русскому писателю, который «с 1920 г. живёт во французской глуши, в нужде, а то и в голоде, и вот – что за счастье вообразить! – благодаря давно покойному динамитчику французский почтальон вот-вот вручит ему восемьсот тысяч франков». Сам Костолани, вероятнее всего, успевший прочесть к этому времени только «Господина из Сан-Франциско», видит в Бунине наследника Чехова и Толстого16.
Очень интересная, толковая, выдающая в авторе знатока своей темы статья о Бунине выходит в «Budapesti Szemle» («Будапештском обозрении») в 1934 г.17 Автор её, Ласло Берени, отмечает безразличие, с которым венгерская пресса отнеслась к Нобелевской премии Бунина. Причину тому он видит в политике, достаточно убедительно объясняя политическими мотивами отсутствие подлинной (т. е. исходящей именно из художественных достоинств произведения) рецепции эмигрантской и отчасти советской русской литературы. Бунина и Мережковского упрекали в том, что они отвернулись от оставшихся на родине и смирившихся с советской властью русских писателей. По мнению Берени, упрёк этот несправедлив, но зато «его считает справедливым то самое международное литературное общественное мнение, у которого не нашлось ни слова протеста по поводу кровавых гекатомбов русского террора, и которое теперь с такой неслыханной щепетильностью не желает, не в силах простить бездомным русским писателям, что те смеют поднять голос в защиту гибнущей тысячелетней православной культуры. То самое общественное мнение, которое с опаской и лишь изредка заводит речь о кровавых муках русского народа и ужасах новой жизни, расценило как политиканство и грех слово писателей-эмигрантов в защиту страждущего русского народа». То есть причина молчания не в том, что политически ангажированная литературная общественность приняла сторону советской литературы – на то и существует в разных странах левая пресса – а в том, что европейское общественное мнение чувствует себя неловко из-за антисоветских взглядов русских, живущих на Западе.
На одной из вышедших в 1926 г. двух книг по истории русской литературы, др. Иштвана Семана18, особенно задерживаться не стоит, самое интересное в ней – сам факт ее появления. Опровергая свое название «Новая русская литература», она излагает курс истории русской литературы целиком, уделяя литературе новейшего времени лишь несколько страниц. Читателю бросается в глаза, что автор имел дело исключительно со вторичными источниками, порой превратно толкуя их. Единственная серьёзная заслуга книги в том, что она впервые в венгерской критике упоминает Ахматову и Гумилёва, причем в положительном плане. Историческая концепция работы на редкость незатейлива, Шандор Бонкало разделался с ней в своем труде по истории русской литературы, приведя слова одного эмигрантского писателя: среди первопричин революции ищи еврейскую интригу.
Для понимания венгерской рецепции русской литературы показательно, кто, собственно, занимается этим профессионально. Родившийся в 1880 г. Семан в детстве одно время жил в Северной Венгрии среди русинов, позднее преподавал закон божий в греко-католической (униатской) школе. В своей критической статье19, посвященной работе Семана, Бонкало подмечает и ошибки из-за слов, которые по-русски и на языке закарпатских русин звучат одинаково, а означают разное. У Бонкало русинский был вторым родным языком, а сам он был родом из закарпатского города Рахова. Он хорошо владел и русским языком, и литературу знал основательно. Что помимо многочисленных переводов подтверждает и его двухтомная «История русской литературы». О самостоятельности мышления Бонкало и знании им своего предмета свидетельствует одна небольшая статья, бывшая, видимо, судя по дате её публикации в «Нюга-те», побочным продуктом его работы над двухтомником. Называлась она «Русская эмигрантская литература»20. Значение этой статьи невозможно переоценить: ведь она по сути была единственной в своём роде. Остальные труды, в том числе двухтомная «История русской литературы» самого Бонкало, рассматривают отдельных авторов вне зависимости от среды их проживания. Расходясь с привычной для филолога практикой, Бонкало в своей статье сразу фокусирует внимание читателя на том, что речь пойдёт об особой группе людей, чью жизнь, быт, культуру решающим образом предопределило их эмигрантское существование: «В конце 1919 г., когда завершились гражданские войны и окончательно воцарился большевизм, сотни тысяч русских тронулись в путь в поисках новой родины. Большая часть русской интеллигенции покинула свои дома и вот уже шесть лет как ест горький хлеб эмиграции. Около двух с половиной миллионов русских живет сегодня за пределами страны, в большинстве своем это помещики, офицеры, журналисты, художники, политики, профессора и царские чиновники. Самые знаменитые из живущих в эмиграции писателей – Бунин, Мережковский, Ремизов, Куприн, Чириков, Цветаева, Гиппиус, Арцыбашев, Немирович-Данченко21, Бальмонт, а с недавних пор и Горький, есть и множество других более или менее известных писателей и поэтов; из известных у нас писателей в эмиграции умерли Аверченко и Леонид Андреев. По численности гораздо больше писателей живет заграницей, чем на родине, и всё же то прекрасное и ценное, что создала за эти шесть лет русская литература, вышло из-под пера оставшихся дома, так что странно звучит из уст эмигрантских критиков (Антона Крайнего, например) утверждение, будто “духовная жизнь России теперь заграницей” (Бонкало пока не знает, что «Антон Крайний» – та же Гиппиус – Э.Ш.). Поскольку подлинные величины остались дома, эмигрантские писатели желают восполнить скудость таланта спесью». Тех эмигрантов, которые «не сменили свой предреволюционный реалистический стиль и подход», Бонкало считает консервативными. По его мнению, «искусство не может застыть в одной точке. Что не развивается, то неизбежно умирает». И как искусство эмигрантская литература и в самом деле «при смерти». Бунин почти не пишет; Мережковский повторяется – утверждает Бонкало, хотя, впрочем, и прежний Мережковский видится ему холодным и манерным; Арцыбашев с головой ушел в журналистику; Бальмонт пишет так, как писал четверть века тому назад. Самый замечательный поэт эмиграции, Марина Цветаева, лучшие свои стихи написала ещё в Москве. Ремизова венгерская и вообще западная читающая публика не знает, «хотя, как и Мережковский, это один из самых ярких талантов эмиграции». Далее автор говорит – и весьма пренебрежительно – о популярном в эмигрантской среде чтиве, главным образом слабых исторических романах. Это «тенденциозные монархические» романы о войне и революции с героями-аристократами, которые сражаются за восстановление самодержавия. Враги их – большевики, чаще всего мерзкие до ужаса, утратившие человеческий облик евреи. Бонкало, наверное, был первым в Венгрии, кто в эти годы размышлял над вопросом, впрочем, давно его занимавшим: где же теперь подлинная русская литература? Венгерский литературовед был, конечно, не прав, утверждая, что литература эмиграции исчерпывается неким коренящимся в прошлом реализмом, ведь и в его перечне есть писатели и поэты, от традиционного реализма весьма далёкие – Цветаева, Ремизов, Бальмонт. Но заслуга статьи прежде всего в открытии для венгерской читающей публики имён Цветаевой и Ремизова. Мы-то знаем теперь, что значит для русской поэзии Марина Цветаева, а ведь пройдут ещё долгие десятилетия, прежде чем в Венгрии по-настоящему узнают о ней! В своей вышедшей некоторое время спустя «Истории литературы»22, в главе «Послереволюционная литература» Бонкало скажет о русской духовной диаспоре: «Центрами русской культурной жизни являются сегодня Петербург, Москва, Берлин и Прага. Значительная часть оставшихся на родине писателей нашла убежище в Петрограде (…). Эмиграция разбросана по всему свету, главные её издательства, газеты и журналы сосредоточены в Берлине и Праге, хотя русские издания выходят и в других крупных городах – Париже, Стокгольме, Софии».
Бонкало – довольно рано поднимая этот вопрос – настаивает на неделимости русской литературы: «пускай значительная часть писателей пребывает заграницей, мы, тем не менее, не можем говорить об отдельной российской и отдельной эмигрантской литературах. Есть лишь одна русская литература, хотя множество новых вещей выходит заграницей, и даже среди оставшихся дома находятся писатели, издающие свои работы не только в России, но и заграницей». Симпатии его – как и в статье об эмигрантской литературе – на стороне оставшихся: «Всё, что ни появилось за последнее время интересного, принадлежит перу оставшихся дома. Чтобы излить душу, поэту мало одной свободы, без запаха родной земли тоже не обойтись». Несмотря на такое безоговорочное заключение, анализ Бонкало подводит к выводу, что революция и большевики действуют на талант в целом парализующе. Сегодня мы уже знаем, что к моменту выхода книги в свет «два берега» русской литературы, как позднее назовут их эмигранты, силой административного указа, с закрытием границ оказались безнадёжно далеки друг от друга. В «Нюгате» выходит хвалебный критический отклик на «Историю русской литературы» Бонкало23. Представляет интерес начало статьи Дюлы Лазициуса: «Только сейчас, в 1926 г., издательство, наконец, расплатилось с лежавшим на нашей совести долгом перед широкой читательской публикой, чей интерес к русской литературе за годы войны вырос многократно. Этот интерес питала главным образом нерешённость русского вопроса, хотя свою роль сыграл и культурный раскол («raszkol» sic!), который русская культурная жизнь с её крупными центрами в эмиграции отчасти вынесла сюда, в Европу, и более подвижное европейское кровообращение теперь все чаще и чаще поставляет нам новый и непосредственный материал». Выходит, вопреки внушаемой газетами видимости, был налицо и такой культурный интерес, который был способен обращаться к русской советской и эмигрантской литературе раздельно, при этом распознавал таившиеся в эмиграции творческие потенции, приближал русскую культуру к европейскому читателю, делал её доступнее.
Позитивная оценка Дюлы Лазициуса заслуживает серьёзного отношения: впоследствии знаменитый языковед, Лазициус в молодости занимался исследованиями русской литературы и философии; в языковедческом своём качестве поддерживал связи с русской эмиграцией, оппонировал в Пражском лингвистическом кружке.
В двадцатые годы в русской культуре его занимали главным образом классическая литература XIX века и театр начала века24. Русскую литературу он рассматривает в её философском аспекте, исходя из главной особенности русского национального мышления: начиная с XIX века отправной точкой в развитии философии становится художественная литература. Лазициус внимательно следил за европейской философской периодикой25, так в его руки однажды попал журнал «Der russische Gedanke», немецкий вариант «Русской мысли», одного из самых замечательных изданий русской эмиграции. «Только что в Бонне вышла первая тетрадь периодического издания русских философов. (…). Это было потребностью не только русских философов, чей голос до сих пор доходил до нас лишь от случая к случаю, но и европейской публики, которая увидит теперь результат работы русской мысли, не прекращающейся и в столь трудных обстоятельствах». За «писательской маской» всякого значительного русского автора, замечает Лазициус, всегда скрывается «лицо философа», в то время как профессиональная русская философия всё ещё не проникла в европейское кровообращение, и русскую философию в европейском сознании представляют прежде всего писатели. Авторы журнала: Булгаков, Флоренский, Карсавин, Бердяев, Лосский, Яковенко (он же редактор), Франк. Самым репрезентативным материалом номера Лазициус считает эссе Бердяева о свободе26.
Претерпевавшая на Западе новую стадию своего развития русская религиозная философия и, опять-таки, Бердяев привлекают внимание и публиковавшегося в «Szép Szo» Пала Шиманди. «Szép Szo» («Довод») стоит на стороне советской литературы: ведь речь идет о журнале левой ориентации, чьими авторами в середине тридцатых годов были Аттила Йожеф, Пал Игнотус, Ференц Фейтё, и в силу этого предвзятость позиции понятна. И тем не менее журнал посвящает серьёзную статью Бердяеву, взгляды которого показались автору достойными полемики. Шиманди замечает, что, согласно Бердяеву, Европа стоит перед выбором: большевизм или евангельская мораль. Бердяев не поклонник демократии, ибо полагает, что судьба истины не решается большинством голосов. Автор явно сочувствует замешанной на подлинной вере, к тому же не приемлющей индивидуализма западного христианства мысли Бердяева, хотя (показательно возражение левого по своим убеждениям комментатора!) тот и не принимает во внимание куда более весомый, с точки зрения рецензента, общественно-экономический фактор.
Приведу один, но весьма яркий пример того, как радикальная, в данном случае однозначно просоветская пресса старалась держаться подальше от эмигрантов, попросту игнорировала их. На страницах нелегальной коммунистической газеты «100 %», выходившей с сентября 1927 г. по лето 1930 г., много говорилось о советской литературе, публиковались – под собственными именами или под псевдонимами – статьи венгерских авторов, живших в это время в эмиграции в СССР, таких как Янош Маца, Дёрдь Лукач27, Шандор Гергей, переводы произведений Бабеля, Эренбурга и др., но только вот об эмигрантах не было ни полслова.
Перечитывая журналы межвоенных лет, убеждаешься, что наиболее живую, сбалансированную, свободную от влияний политической конъюнктуры картину русской литературы того времени представлял «Нюгат», особенно до начала тридцатых годов. На его страницах и между двумя войнами продолжали писать о русских классиках XIX века, не чурались и современной литературы, особенно много писали о советской. Действовавшее при журнале издательство публиковало сборники произведений современной зарубежной литературы, так, в 1936 г. выходит в свет «Сегодняшний русский Декамерон»28, составленный крупным поэтом Дюлой Ийешем. В него вошли первоклассные сочинения тех советских авторов, которых печатали в СССР, с большими или меньшими препятствиями. Во введении к книге составитель с воодушевлёнием повествует о советских писателях и советском обществе – оно было написано примерно два года спустя после путешествия Дюлы Ийеша по СССР29. По поводу эмигрантов Ийеш замечает лишь, что те не попали в сборник в силу его ограниченного объема: «Вот почему мы не публикуем живущих в эмиграции Бунина, Куприна, Мережковского». Через три года после получения Буниным Нобелевской премии это было скорее свидетельством политической позиции Ийеша и, вероятно, помогавшего ему в составлении книги переводчика Хуго Геллерта.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.