Текст книги "Трусаки и субботники (сборник)"
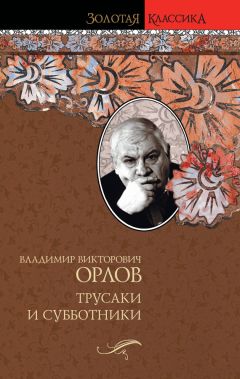
Автор книги: Владимир Орлов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 46 страниц)
21
На работе я узнал от Зинаиды Евстафиевны, что, пока я где-то болтался, меня разыскивала какая-то Анкудина.
Разыскала же она меня в редакции через пять дней.
– Что тебе надо? – спросил я грубо, даже и не предложив Анкудиной сесть. – Какие у тебя могут быть ко мне дела?
Дела состояли в том, что у Юлии Цыганковой осложнения, положение ее сейчас тяжелое, нервы взвинчены, а выписать ее должны были еще три дня назад.
– И что? – спросил я.
– Тебе необходимо прийти к ней, посидеть с ней и успокоить ее. Она ждет твоего прихода.
– Неужели вы с Цыганковой в таких близких отношениях, что она доверяет тебе сердечные секреты и тайные желания?
– Нет, – смутилась Анкудина. – Это я сама так поняла…
– Но у меня нет нужды в твоей подруге, – сказал я. – Я уже все объяснил ее матери, и та мои объяснения приняла…
– Ты живешь в аду! – вскричала Анкудина. – Твоя душа в аду! И ты живешь в аду!
– Хоть бы и в аду, – начал было я с намерением выпроводить Анкудину вон. Однако меня остановило любопытство. Какие такие соображения, возможно и длительного накопления, выстрадала в себе Анкудина относительно ада. – И по каким же заслугам ты размещаешь меня в аду?
– Ты не способен любить! – Анкудина гремела уже боярыней Морозовой. – Зосима, старец у Достоевского, на вопрос «Что есть ад?» говорил: «Страдание о том, что нельзя уже более любить».
– Эко ты, Анкудина, хватила! – сказал я раздосадованно. – Это совсем про другое. Я-то ожидал от тебя какого-то особенного умственного откровения. И уж не способен я, видимо, к страданиям, о каких ты говорила…
А Анкудина разревелась.
– Ты все дурачишься, Куделин. Это потому, что я для тебя Кликуша…
– Ладно, извини, успокойся… Я усадил ее на стул. И уже не торопился выгонять ее. Во мне тлел интерес к известному ей.
Прозвище Кликуша, приставшее к Анкудиной на первом курсе, все же нельзя было признать точным. Кликушами, и деревенскими, и городскими, как известно, становились бабы по причинам женских недомоганий, обостренных тяжким трудом и побоями. Никаких природных отклонений и нездоровий в Анкудиной, похоже, не было. По понятиям однокурсника, прислонившего к ней прозвище, она выглядела так, как, наверное, выглядели кликуши.
На вид она была – несчастная. Про таких говорят: «Лягушку проглотила и вот-вот ее выплюнет». Несчастная пигалица. И не из бедной семьи, а по понятиям тех лет – состоятельной, но опять же казалось, будто вышла она из бедной и неряшливой семьи. Скорее всего ей и нравилось выглядеть неряшливой бедняжкой (при этом могла признавать себя и гадким утенком, и Золушкой), какую до поры до времени недооценивают и в лучшем случае лишь жалеют. Сама же она хотела всех жалеть и старалась совершать ежедневные благие дела. Она все время мельтешила, совалась во всяческие курсовые и факультетские истории, кого-то бралась примирять, хотя об этом ее и не просили, кого-то облагоразумить, а кого-то, сообразно высоким моральным ценностям, и разоблачить. Суета ее вызывала усмешки и ехидства, но чаще – раздражение. В особенности раздражала юркость Анкудиной, ее странное умение оказываться («и без мыла обходится») в компаниях, куда ее совсем не звали, при этом часто она вела себя манерно, лебезила («я-то ничтожество, но вы-то…»), а то и откровенно подхалимничала и глупо льстила. Мне приходилось сталкиваться с ней чуть не каждый день, мы учились в одной группе. Ко всему прочему она с первого же семестра отчего-то стала прибиваться ко мне, допекать меня признаниями о своих житейских заботах, на мой взгляд – совершенно пустяковых и идиотских, лезть мне в душу, не понимая, что она мне физически неприятна. Мне было неприятно глядеть на ее костлявую нелепую фигурку, запахи ее, грубые, почти мужские – работяги после вахты, вызывали у меня чуть ли не тошноты, в столовой я не желал садиться с ней рядом, чтобы не испортить аппетита. Многим Анкудина была не по нраву, иные называли ее приблудившейся шавкой, но мало кто отваживался ссориться с ней: общественная натура, старается, что же на нее дуться? Ко всему прочему Анкудина умела сплетничать, и так кружевно-тонко, что упрекнуть ее в чем-либо было невозможно. И еще установилось мнение, что в досадах Анкудина может учинить обидчику невезения. А я однажды не выдержал и очередное приставание ко мне Анкудиной грубо оборвал, послал ее подальше и посоветовал ко мне больше не приближаться. Она разревелась, заявила, что я бугай и медведь, а она убогая, и такие есть на свете, я же по причине толстокожести не могу понять ее и ей подобных, они для меня недочеловеки, но нет, она человек, она вселенская сестра милосердия, и мне через годы будет стыдно, и прочее, и прочее… «Не выношу людей навязчивых», – только и мог я выговорить.
После четвертого курса, хоть Анкудина и принесла в деканат какие-то медицинские справки, ее отчислили за академическую неуспеваемость и бездарные курсовые работы. Позже до меня дошло, что Анкудина доучилась в Библиотечном институте на Левобережной и трудится в заводской библиотеке.
Теперь, то есть в те дни, когда я излагаю эту историю на бумаге, я, человек поживший, должен признать правоту укоров Анкудиной по поводу моей толстокожести, нравственной ли, душевной ли, в юношеские мои годы. Конечно, слово «толстокожесть» – неуклюжее, несуразное и неточное. Но и не суть важно… Я находился тогда в упоениях Буслаевского молодечества («Сила по жилушкам переливается, тяжко от бремени этой силушки»). При этом никакого былинного бремени от силушки я не испытывал, напротив, сила моя, и природная, и добытая во всяческих секциях, в дворовых играх и забавах, доставляла мне удовольствие. Ощущая поутру крепость своих мышц – и рук, и спины, и ног, – я чувствовал ликующую, музыкальную даже радость жизни. В дороге, в полупустом троллейбусе, я отжимался на дюралевой трубе в проходе, вызывая недоумения пассажиров. Я не мог представить, что когда-нибудь не буду играть более в футбол – кончилась бы жизнь. Я был готов атлантом поддерживать небесный свод. Теперь мне, взрослому, тот юный Куделин смешон… Увы… Впрочем, и себе сегодняшнему стоит посочувствовать… А тогда, сам того не замечая и уж конечно не возводя это в доктрину, я был, пожалуй, высокомерен по отношению к людям, прежде всего к своим ровесникам, которые казались мне слабыми. И физически неразвитыми, и не старающимися развить себя, и проявляющими слабость, несдержанность в обыденной практике, скажем, ноющими о своих болячках, любовных драмах, учебных незадачах. Я, человек не злой, не расположенный к злорадству, не называл их, естественно, слабаками и не выказывал своего к ним отношения. Просто они были вне моих интересов и желаний понять их… Впрочем, все это разъясняю я чрезвычайно упрощенно. Возникают словесные определения. А во мне-то, юном, словесных определений не было. Я просто жил… Я – не теоретик… Но упрощенным было и отношение ко мне, спорт смену, здоровяку, добывающему факультету грамоты и призы, многих студентов и преподавателей. Я им казался тупым, пустым, ограниченным… А во мне вызревала душа…
Опять я отвлекся.
А Анкудина, сидевшая в моей редакционной коморке, успокоилась.
– Вот что, Анкудина, день солнечный, – сказал я, – травка зеленеет. Пойдем-ка на природу.
– Ты меня выпроваживаешь? – спросила Анкудина. – Ты не желаешь разговаривать со мной ни о чем более?
– Так точно, – сказал я. – С тобой – ни о чем более.
Последние слова я посвятил стенам.
На самом же деле я предложил Анкудиной посидеть на скамейке в сквере перед Домом культуры типографии и напротив нашего Голосовского корабля. Анкудина закурила, волосы ее были все те же, жиденькие, но, пожалуй, она поправилась и отчасти уже не выглядела замухрышкой. Зачем я привел ее в сквер и о чем говорить с ней, я не знал.
– Анкудина, а ты стала похожа на Крупскую, – вырвалось у меня ни с того ни с сего. – На молодую, на молодую! – стал я задабривать ее.
– Ты, Куделин, дурачишься, – сказала Анкудина, – а она ведь тебе жертву приносила!
– Ты что несешь, Анкудина! – поразился я. – Ты хоть логику и смысл проверь произнесенного тобой. Как может женщина совершить такое жертвоприношение! И кем должен быть человек, способный одобрить этакую жертву, ему посвященную?.. Я же тут вовсе ни при чем…
– А теперь, когда ей стало плохо, она не захотела жить более. И ты был обязан прийти к ней…
– Анкудина! – возмутился я. – Это для тебя запретная тема! Ты либо ничего не знаешь, либо все в твоей башке торчит вверх ногами!
Помолчав, я сказал:
– Ты мне лучше вот что разъясни. Оказывается, ты моя бывшая приятельница. Оказывается, ты теперь большая ученая. Или большой ученый. Как это понимать?
– Ну хорошо. Ну я врушка. Нафантазировала насчет тебя неизвестно зачем. Без всякой дальней мысли, а так… Но насчет второго…
– И что ты наврала насчет второго? В чем состоит учение нашей ученой дамы?
Анкудина замялась. Потом она стала бормотать нечто о том, что серьезно исследует одну историческую тему, в ее Библиотечном институте есть научное общество, она там недавно выступила с рефератом о поисках в прошлом веке особо мыслящими людьми Белых Вод, ее шумно одобрили, сказали, что работа ее перспективная, свежая, в ней – основа докторской и т. д.
– Так, Белые Воды, страна Беловодия, – соображал я. – Староверы, значит… сектанты, искатели благостной земли вне пределов им ненавистных… особо мыслящие люди… о них недавно вышла монография Климанова, трудно проходила, потому как – о слоях истории нам необязательных… Ты небось из ее пятисот страниц наковыряла страничек двенадцать, склеила их слезками и вздохами и создала новое учение… Так, что ли?
Анкудина расплакалась, и я понял, что догадки мои справедливы. Теперь она, видно, и носилась со своей «основой докторской» по разным компаниям, совала листочки о Белых Водах под нос гражданам неосведомленным.
– Возрази, – сказал я. – А я послушаю.
Возражений не послышалось.
– Надо будет сообщить Семену Николаевичу, – произнес я уже лишнее, – какие у него трогательные читательницы… Вот обрадуется…
– Не надо! Не надо! – перепугалась Анкудина. – Ничего не говори ему! – И объясни мне еще одно, – сказал я. – Зачем вы суетесь со своими бумагами, рукописями, тайнами к Юлии Цыганковой, то есть – в дом известного в стране человека Ивана Григорьевича Корабельникова?
– Кто это мы? – испуги все еще оставались в Анкудиной. – Одна я прихожу к Юлии и по ее приглашениям… Ну, еще заходит Миханчишин. Но он свой человек… А так наш кружок собирается совсем в иных местах…
– Какой кружок? – не удержался я.
И тут Анкудина разразилась… И вопрос мой вылетел без необходимости, и услышал я от нее то, что не было мне никакой необходимости ни слышать, ни знать. Может быть, после вранья об ученых занятиях и моих иронических слов Анкудиной захотелось оправдаться передо мной и показать, что она не лыком шита, а связана с серьезным делом. Или просто проявилась ее склонность к болтовне. В «кружке» их Анкудина была и ученым секретарем, и одной из создательниц и хранительниц очага. Собирались они в домах разных, все люди замечательные, чистые, мыслящие именно особо, независимо и свободно. Обсуждали всяческие события, читали рукописи, опять же с соображениями независимыми и неожиданно-оригинальными. То есть компания Анкудиной занималась называемыми теперь «разговорами на кухне». Другое дело, что они не только судили и рядили, находя в общении друг с другом отдушину, но и разносили, раздавали, распечатывая, интереснейшие рукописи и склоняли порядочных, но сомневающихся знакомцев к своему пониманию событий и явлений. К действиям каким-либо противоправным или буйным они не призывали, а просто искали истину, некоторые искали Бога. От Анкудиной я услышал в тот день о докторе неизвестных мне наук, якобы крупном физике Сахарове, чье письмо в правительство произвело шум во всем мире, о Буковском и Щаранском, еще о ком-то, кто сидит, о суждениях польских и чешских экономистов и прочем. Сыпались из Анкудиной имена ее собеседников, на чьих квартирах и велись отдушинные разговоры. Называла она и Миханчишина среди умнейших мыслителей, вот только высказывания его порой бывали излишне радикальными… К чему это она все плетет, думал я, не собирается ли она уговорить и меня вступить послушником в их «кружок»?
– Вот что, Анкудина, – сказал я. – Закончили. Я слушал тебя невнимательно. И ничего не запомнил. Ни что, ни кто, ни как, ни где. И скажу тебе, трепитесь вы себе, трепитесь сколько пожелаете, но только ты свою трепливую компанию, где вы сами по себе, «кружком» не называй. И про «кружок» я ничего не запомнил.
– Что ты оглядываешься? – Анкудина так и не успела закрыть рот. – Ты трус!
– Да, Анкудина, я трус, – согласился я. – И гуляй себе по солнышку к маршрутному такси. Десять копеек – и Пушкин.
– Ну конечно. – Остановиться Анкудина пока не могла. – Ты не только Геркулес, ты еще и социальный здоровяк. А мы для тебя недочеловеки, уязвленные и рахитичные.
– Юлию Ивановну, – сказал я, – никак нельзя отнести к рахитичным. Зачем ее-то вы уловили своими сачками?
– Юлию Ивановну, – сказала Анкудина надменно, интонациями своими меня удивив, – никто не улавливал. Она достаточно умна, чтобы понимать происходящее вокруг. А ты как был тупой и сытый, так им и остался!
Анкудина прошествовала к остановке маршрутного такси победительницей или хотя бы поставившей мне неуд на государственном экзамене по основополагающей дисциплине. «Тю-тю! – только и смог я вслед ей произвести движение пальцем вблизи виска. – Чего она таскалась ко мне?»
Анкудина назвала меня социальным здоровяком. Я уже признавался в начале своего рассказа, что пребывал в те годы, то есть тридцать лет назад, прекраснодушным и романтизированным юнцом, чьи уши требовали ежедневного повторения «Марша энтузиастов», тогда еще не исправленного («мечта прекрасная, пока неясная» позже была истыми, мелко сидящими чиновниками Михаила Андреевича, суслятами, идейно переукреплена словами «мечта прекрасная, во всем нам ясная»… Нам ли стоять на месте!). Меня, опять же повторюсь, в студенческие годы нисколько не смешили слова Никиты Сергеевича о том, что в 76—81-м годах социализм будет сменен новой исторической формацией – коммунизмом. Да что меня! Такие взрослые и ушлые, по моим понятиям, люди, как Марьин и Башкатов, и те не отказывались участвовать в расцвечивании новой программы Никиты Сергеевича на страницах нашей газеты под разбросанной над двумя полосами шапкой – «Великие цифры Великого плана» (на что им не уставая пенял либерал Бодолин). Конечно, я не мог не видеть, сколько всякой дряни, вранья, глупости происходит в стране, в осуществляемой практике переустройства человечества. Приходилось доказывать себе, что осуществители идеи – слабы, корыстны, себялюбы, оттого-то и случается всякая дрянь. Но идеалы-то переустройства, несомненно, благородны и хороши, и наступит время, не через пять и не через десять лет, уже без нас, когда все образуется само собой, а дела и разумения людские будут совершенно соответствовать благородству идеалов. Торопыги же, стремившиеся все сейчас же исправить и улучшить, все эти поляки и пражские говоруны, все эти Сахаровы и Буковские казались мне чуть ли не провокаторами. Не лезли бы они наперед батьки, сидели бы в своих Прагах и Варшавах и помалкивали, дожидаясь наступления совершенств в Москве. Их же преждевременная суета могла лишь напугать наших дуроломов и вызвать закрепление болтов. Что и случилось… Когда танки въехали в Прагу, я не обрадовался. Но и не возражал. Даже и гордость испытал за Державу. Эко мы их за несколько часов, и никто в мире не пикнул!.. Через два с лишним года меня на несколько месяцев лейтенантом (без всякой пользы для Отечества) призвали служить на китайскую границу. После Даманского и Жаланашколя с Китаем были напряжения, и в Казахстане у Джунгарских ворот создали новый военный кулак. Из Европы туда перегнали многих героев как раз чешской кампании. Они гусарили и проявляли себя удальцами. На стволах орудий, на башнях танков я видел выведенное белой краской: «Дембель через Пекин!» Да что нам какой-то Китай! Шесть часов лету – и наши борты над Пекином! Тогда все обошлось. А в семьдесят девятом удаль и восхищение собственной силой пригнало нас в Кабул… Но я заскакиваю в чужое время…
В момент же общения с Анкудиной я относился к подобным анкудинскому «кружкам», к их интересам и хлопотам, пожалуй, не лучше, нежели представленный мною ловец человеков Сергей Александрович. То есть, конечно, в отличие от него я не считал их клеветниками и смутьянами и тем более не считал врагами, чьи деяния могут чем-либо угрожать великаньему государству. Просто они были чужды мне, я сторонился их, полагая, что пользу справедливости можно приносить и созидая, хотя бы работая в нашей газете, по тем временам довольно смелой и во многих случаях – порядочной. Анкудину, понятно, томила жажда жертвовать собой ради справедливости. Но что выталкивало в «кружок» Юлию Ивановну Цыганкову? Или того же Миханчишина? А бывал ли там Бодолин? Мысль о Бодолине я сразу же запретил себе продолжить. Ну ладно, Анкудина и Миханчишин, у них свои резоны и удовольствия. А эта дура Юлия Ивановна-то! Она же может вляпаться в глупейшую историю (даже мне намекали, чтобы я отговорил Цыганкову от ее игр)! Неужели этого не понимает ее ушлая мамаша Валерия Борисовна? Впрочем, что мне было беспокоиться? И отец у Юлии Ивановны – не последний Муж в государстве, и у Валерии Борисовны в приятельницах жены Первых Лиц, уж онито свою взбалмошную девчонку уберегут от всяческих безобразий и неприятностей. А мне-то, простолюдину, не имеющему в друзьях тобольского Конька-Горбунка и, стало быть, и шансов волшебного преобразования в бочке с горячим молоком, следовало держаться от семейки на расстоянии не пушечного, а ракетного выстрела.
22
Однако я не мог не думать об Анкудиной.
Зачем она приходила ко мне, я так и не мог установить с успокоившей бы меня определенностью. Кстати, а я об этом забыл сказать, с чего бы она интересовалась, в Москве ли достопочтенный К. В., Кирилл Валентинович, или он в командировке?
Глупая баба, посчитал я наконец, напридумывала себе нечто романтическое и ринулась совершать благие поступки.
Но тревога не уходила.
Надо было что-то предпринять… А что? И зачем?
Бумажки, которые Валерия Борисовна вынудила меня принять перед захлопыванием створок троллейбусной двери, я не выкинул, а держал в кармане. Одна из них предлагала мне номер телефона больницы № 60 на площади Борьбы. Другая была запиской Виктории Ивановны: «Василий! Если ты хочешь поговорить со мной, позвони мне. Виктория Пантелеева». Далее сообщался номер телефона и адрес дома Пантелеевых. Ваши дела, сказал я себе.
И как последний дурак все же позвонил в больницу на площади Борьбы. «Цыганкова Юлия Ивановна, – ответили мне, – состояние средней тяжести, температура 37,8…» – «Средней тяжести?» – испуганно пробормотал я. «Да, средней, – успокоили меня. – Вчера было еще тяжелое, а сегодня, слава Богу, средней…»
«Средней и средней, – сказал я себе. – Значит, пошла на поправку. Можно более и не звонить…»
Но звонил я и в следующие дни. На третье утро, услышав: «Состояние нормальное, температура 35,7», я понял, что созрел и сегодня в посетительские часы непременно окажусь на площади Борьбы.
Площадь эта, минутах в двадцати ходьбы от моего Солодовникового переулка, соседствует с домом Ф. М. Достоевского, и то, что Юлия попала в здешнюю районную больницу, объяснилось для меня позже опять же приятельскими отношениями Валерии Борисовны с завотделением.
Подошел-то я к больнице подошел, но и заробел. Вдруг встречу какого знакомого, и как будет истолковано мое появление вблизи Ю. Цыганковой? Кто я ей? И еще – у Юлии могли уже быть посетители, и что скажу я им? Я ощутил себя конспиратором. То есть я как будто пробирался на явочную квартиру, стараясь не вести за собой хвоста, да и просто избежать лишних глаз. И вообще смысл прихода к Цыганковой виделся мне теперь смутным. Да, меня притянуло сюда. А зачем? Хорошо хоть я не последовал традиции: не прикупил по дороге апельсины и бутыль с соком для больного товарища. После дебатов с самим собой я решил, что поднимусь в палату Цыганковой минут за пять – десять до конца посетительского времени, сошлюсь на просьбы Валерии Борисовны и Анкудиной, спрошу, не надо ли чего (а я сам как будто бы не знаю, надо ли чего), а там – что будет, то будет. Но приходилось убивать время. Я, все еще в намерениях остаться неопознанным, то словно бы московским путешественником поджидал на остановке пятого трамвая, то улицей Образцова поднимался к забору МИИТа, то возжелал полчаса провести во дворе Федора Михайловича и исторической Марьинской лечебницы. Двинул туда, но что-то заставило меня резко обернуться. Шел человек. Мужчина. Не старый. Мне незнакомый. С «дипломатом» в руке. И по сути его движения можно было предположить, что он направляется именно в районную больницу. День стоял теплый, а мужчина шел в осенне-толстой ношеной куртке, в придвинутой к бровям шляпе. Имел он и темные очки. Похоже, что и он был конспиратор. Я его видел впервые. Но что-то угадывалось в нем известное мне. Хотя мало ли случается совпадений? Что мне глазеть на него? И вдруг меня озарило нелепое, сумасшедшее какое-то соображение. «Да не может этого быть!» – выкрикнул я самому себе. Но не был способен утихомирить себя и во дворе Федора Михайловича. Я опять, ожидающим трамвая, стоял на остановке, потом хотел присесть на лавочку в сквере, но не смог, до того разволновался. Ко всему прочему я был убежден, что за мной наблюдают, причем из разных мест, не исключено, что и из окна больницы. Через полчаса интересующий меня мужчина появился на улице. Нет, я не ошибся. Ранее я отмечал по ходу рассказа, что на футбольном поле кавалерийская косолапость или даже кривоногость К. В. была особенно очевидна. И теперь узкие джинсы никак не могли ее скрыть. А шляпа до бровей (К. В. и никогда не носил шляп, не его стиль), темные очки и куртка слесаря-водопроводчика ничего не могли отменить для меня в Кирилле Валентиновиче. «Боже мой, Боже мой!» – повторял я и в неразумности своей никак не мог свыкнуться с опрокинутым на меня открытием. В том, что мы с К. В., Первым Замом, статским генералом, прибыли на площадь Борьбы посещать одного и того же больного товарища, я не сомневался. И не давал себе возможности сомневаться. Набрасывать на плечи белый халат не было уже нужды. И вот что еще приходило мимолетом мне в голову. Ни я, ни, видимо, тем более Кирилл Валентинович не желали быть узнанными, и все же нас обоих нечто притянуло. Меня пригнало что-то смутное, но несомненно энергетически сильное. А Кириллом Валентиновичем двигала, надо полагать, определенность. Или необходимость. Или даже неизбежность. Да, по наблюдениям Башкатова, в К. В. все еще пребывал авантюрно-бесшабашный мальчишка, но Кирилл Валентинович был и государственный муж, наверняка его-то действия были оправданно-уготованные, выверенные и разумно-обеспеченные. «Ну, для меня теперь все стало проще, – уверял я себя. – И дело, стало быть, закончено». Прояснились для меня и некие мелочи, прежде особо меня и не взволновавшие, но вызывавшие недоумения. Скажем, интерес К. В. в разговоре со мной к моему отношению к Цыганковой (слышал что? доложили?). Или – с чего бы вдруг Анкудина справлялась, в Москве ли К. В. или нет (другое дело, сама ли от себя или по просьбе Цыганковой?). И уж совсем ясной стала ладошка Валерии Борисовны, подлетевшая к устам после слов о значительных фигурах. Не проговориться бы!.. «Оно и к лучшему! Оно и к лучшему!» – убеждал я себя.
И все же я никак не мог привыкнуть к открывшемуся мне. В нервическом состоянии, забыв о трамвае, я брел Палихой с намерением добраться в газету Лесной улицей, Бутырским путепроводом, Бумажным проездом и в надежде дорогой прийти в себя.
– Василий! – окликнули меня. – Обожди!
Я обернулся.
Вика почти бежала за мной. Вернее будет – Виктория Ивановна Пантелеева. Она раскраснелась, и можно было предположить, что поспешала она за мной от площади Борьбы. Вот под чьим наблюдением я находился на трамвайной остановке.
– А парик под Анджелу Дэвис у тебя есть? – спросил я.
– Есть, – смутилась Виктория. – Есть. В Москве парики никто не носит, пока не носит. А я привезла их из Лондона по глупости и из пижонства…
– Зачем ты приходила в «Прагу»?
– Посмотреть на тебя… Я любопытная… Какой ты стал. Каким тебя увидела Юлия…
– Тебе известны все слова ее записки ко мне?
– Да, все. И мне известны ее слова, которых в записке нет.
– Ты была сегодня в палате… с ним?
Все же каким-то сотым по степени важности, запертым во мне желанием, сотой угнетенной иными чувствами мольбой я хотел вынудить сейчас Викторию удивиться и спросить: «С кем это – с ним? Кто это – он?», и тогда бы выяснилось, что никакого К. В. вблизи Юлии не существовало, что я живу миражами, а Кирилл Валентинович, если он мне не померещился, имел иные, совершенно не касающиеся меня основания появиться на площади Борьбы. Но Вика не удивилась, ни о чем меня не переспросила, и значит, я имел дело не с миражами.
– Нет, я не поднималась сегодня к ней в палату, – сказала Вика. – Я поджидала тебя внизу. Можно признать – в засаде. И не в первый раз. А… посчитаем… в четвертый. Я знала, что ты мне не позвонишь. Но предчувствовала (хотя уверенности у меня в этом не было), что ты рано или поздно здесь объявишься. Ты не хотел меня видеть. А я хотела тебя видеть.
– И что же ты увидела?
– Ты все такой же, Куделин, только лицо повзрослело. И глаза… А так – прежний. Не расплылся и не стал рыхлым…
– Как юнец мячи гоняю, – сказал я будто себе в оправдание. При этом, правда, вздохнул. – А вот ты изменилась…
– Да, – согласилась Вика. – Я уже не девочка-недотрога, которая очень хотела, чтобы до нее дотронулись, но ты этого будто не понимал, не пионервожатая в белоснежной рубашке, салютующая неизвестно чему, не девушка с косой или с теннисным мячом… Я – женщина. И, надо признаться, взрослая. Если не пожилая… И, как считают мои лондонские знакомые, деловая. Бизнес-баба. Могла бы и возглавить банк. То есть, по нашим понятиям, стерва.
Состояние мое в те минуты не позволяло мне рассмотреть Вику сосредоточенно, впечатления и оценки мои были мгновенными и словно обрывисто-вспышечными, я плохо запомнил ее наряды, и все же облик Виктории Пантелеевой во мне запечатлелся, и позже, в часы спокойные, я мог восстановить свои ощущения и увидеть Вику как бы внимательно и протяженно по времени.
Я уже рассказывал, что познакомился с Викой Корабельниковой в летнем университетском спортлагере Красновидово. Вику включали в сборные экономического факультета, она играла в теннис и бегала средние дистанции. Корт, мячик с ракеткой были для Вики удовольствием и тренировочным занятием (на выносливость). «Коронкой» же ее считались восемьсот метров. В ту пору большинство наших спортсменок, в легкой атлетике в особенности, выглядели, мягко сказать, малопривлекательными. Если не уродинами. Мужеподобные, плоскогрудые и – извините за грубость – плоскозадые, с худыми жилистыми ногами и руками, они бегали, прыгали в яму с песком, метали копье с каким-то озверением. А Вика была женственной (может, оттого к секундам «лавровым» она не добежала), на стадионе мужики на нее заглядывались: и бег ее с высоким выносом ноги был пластичен, и линии тела радовали. Спортивные костюмы, тогда часто нелепо-бесформенные, мешки, казались на ней обтягивающими. На каком-то шутейном празднике ей поручили роль «Девушки с веслом», но сразу же устроители поняли, что при ее изяществах и осанке ей более подходит роль «Девушки с теннисной ракеткой». Еще лучше – «Девушки с косой». Коса у Вики была знаменитая, не пшеничная, не соломенная, не платиновая, а светло-русая. Вика могла ее укладывать на голове кольцами («гарна дивчина»), а чаще опускала до пояса (иногда и спереди). На дорожке коса Вике не мешала, а лишь подчеркивала ритмику ее бега.
Теперь косы у Виктории не было. Мягкие, чуть волнистые волосы ее слетали вдоль щек крыльями, соединенными у лопаток пластмассовым кольцом. А может, кольцо было из полудрагоценного камня. Я чуть было не спросил, как Вика смогла подчинить пышность своих волос игу тесного парика, но, наверное, для женщины это было делом простейшим. Лицом и фигурой Вика не походила ни на Юлию, ни на Валерию Борисовну (движениями, осанкой, повадками, пожалуй, походила). Она была рослая, но в отличие от матери с сестрой узкая в кости. И лицо имела удлиненное, хотя и немного скуластое (в роду Корабельниковых якобы были башкиры либо калмыки, кто-то из окружения Пугачева, это обстоятельство как бы прибивало к государственному образу Ивана Григорьевича Корабельникова исторический дымок народно-крестьянских бунтарств, во всяком случае не мешало ему), и глаза у Вики, опять же в отличие от матери и сестры, были карие. Изменения в ее облике (надо полагать, и в натуре) я определил скорее не разумом, а удивлением чувств. Мне показалось, что меня окликнула женщина лет на десять старше меня. И когда она подошла ко мне, впечатление мое не отменилось. Нет, она не постарела. Она именно стала женщиной и расцвела. Но во мне (внутри, конечно, главных моих тогдашних чувств, оттенком к ним) возникли ощущения девятиклассника, столкнувшегося на перемене с заведующей учебной частью. Черты лица Виктории как бы укрупнились, стали значительнее или даже погрубели (нет, нет, неверно, да и всякие огрубления их были бы сняты чудесами лондонского макияжа, Виктория смотрелась ухоженной и, как говорили тогда, европейской женщиной). Уже позже я посчитал, что ее взрослость («Ба, да она взрослее Валерии Борисовны!» – пришло мне в голову) создана в ней пережитым, мне неизвестным, но из нее никак не исшедшим, томящим ее и теперь, что она – натура, озабоченная чем-то длящимся, властная, возможно, жесткая, но не стерва.
– Успокойся, – сказал я. – Ты не стерва.
– Какое благонаграждение! И отпущение дурных свойств! – улыбнулась Вика. – Но успокаивать-то, я вижу, надо тебя.
– Зачем вы добивались, чтобы я пришел к Юлии? – спросил я.
– Она хотела просить у тебя прощения.
– Вот тебе раз! На коленях, что ли? На каких можно написать много шпаргалок? – Я остановился.
– Каких шпаргалок? – остановилась и Вика.
Разговор с Викой мы вели на ходу, не обращая внимания на прохожих, иногда сталкиваясь с ними, лишь при переходе Новослободской, с Палихи на Лесную, повнимательнее смотрели по сторонам, сейчас же выяснилось, что мы пришагали к троллейбусному парку.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































