Текст книги "Трусаки и субботники (сборник)"
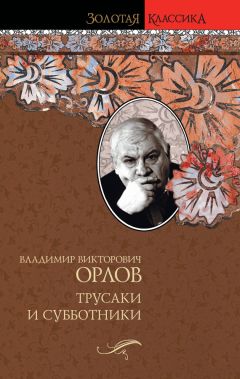
Автор книги: Владимир Орлов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 31 (всего у книги 46 страниц)
42
– А ты, Василий, не закис ли? – спросил меня Марьин.
– Ну и что? – сказал я.
– А то, что пора съездить в Соликамск, в вотчину Строгановых.
– С чего бы вдруг?
– Мы же с тобой договаривались после Тобольска. Или ты не помнишь?
– А ты когда едешь?
– Я туда не еду. Поедешь один. И очерк напишешь один. Ты созрел.
Я в удивлении солонку переставлял на столе и новые места ее отпечатывал, будто конем прикрывал от шаха королеву.
– Кто же меня пошлет в командировку? – спросил я наконец.
– Посылает наш отдел. Тема наша. А твою командировку я обговорил с К. В.
– С кем?
– С Кириллом Валентиновичем Кашириным.
– И что он?
– Счел мое предложение разумным.
– То есть… сказал что-либо при этом?
– Ничего особенного. Произнес: «Пусть едет. Он же имеет премию за лучший материал месяца – свободную командировку. Пусть едет».
– Ты что-то недоговариваешь?
– Да нет… Темы нашего отдела его не слишком волнуют, единственно что… Культурноспасительные, как он говорит… Зачем, мол, они молодежной газете?.. А к тебе, как к предполагаемому автору, он отнесся, пожалуй, и с одобрением…
– Выдумываешь! – засомневался я.
– Выдумываю не выдумываю, а собирайся в Соликамск!
– Так сразу? Мне надо договориться с Зинаидой Евстафиевной…
– Договаривайся. И не выдумывай себе препятствий. Я тебя не гоню. Неделю-другую терпит… Но и откладывать нельзя. К. В. забудет. А второй раз я из-за тебя к нему не пойду.
Я присел. Мне бы сейчас же отправиться к начальнице с уговорами отпустить меня на десять дней в пермские страны, а я оробел. И призадумался. Солонку не переставлял, а держал ее на весу, сжав в ладони. Стало быть, вертушку в кабинете Кирилла Валентиновича я не тревожил. Неужели черное злое будущее надо мной рассеялось? Или оно отлетело лишь на время в сторону? Что было гадать…
Я рассказал Зинаиде Евстафиевне о приходе и предложении Марьина. Зинаида Евстафиевна с Нинулей в последние дни вели со мной себя так, будто находились вблизи человека прихворавшего, о характере хвори которого они, впрочем, не знали и не имели надобности узнавать о ней. Это, повторюсь, меня настораживало, о чем они и сами догадывались, но развешенных в отделе невидимых веревок деликатности мы так и не снимали с гвоздей. – Мне ведь, – стал я оправдываться перед Зинаидой Евстафиевной, – из-за лучшего материала месяца полагается премия – свободная командировка… Но если вы считаете, что в Бюро Проверки…
– Не раздражайся, не раздражайся, Василий, – басом Вассы Железновой Пашенной заговорила Зинаида Евстафиевна. – Не думай, что я ревниво отношусь к твоему литераторству… Бог тебе в помощь… Наше Бюро – для тебя дело временное… Только кто одобрит марьинскую блажь?
– К. В. именно одобрил. Марьин был у него. К. В. сказал: «Пусть едет». Другое дело, что к теме, к культурноспасительству, он относится как к вытесыванию балбеток.
– Кирилл Валентинович, говоришь? Каширин?
Моя начальница на людей, к ней приближавшихся, опять же повторюсь, производила, да еще и при легендах о ней, впечатление человека, знающего о многом, отгороженном от внимания обывателей непроходимыми заграждениями, больше других и больше, чем полагалось бы знать ей. Теперь она оглядывала меня не спеша и как бы в первый раз.
– Каширин, говоришь…
– Это Марьин сказал…
– Ну, Марьин не из тех, кто врет.
– Если вы скажете, что не отпустите, я не обижусь, но в связи с премией мне надо бы…
– Что ты, Василий, бубнишь! Тебе – надо! А не в связи с премией. И езжай. Но дней через десять. Нину надо будет на той неделе показывать врачам…
Я пошел в библиотеку и взял том Костомарова. Мне думалось, что Николай Иванович более внятно, нежели другие, написал о Ермаке. Ермак Тимофеевич – вообще личность совершенно неисследованная, но и исследовать его судьбу и нрав чрезвычайно трудно. Степан Разин так наследил, что остался в памяти людей не только утесом и персидской княжной, но и приличным (относительно) числом упоминаний в документах, а потому возможно создавать об этом кровопийце балеты и кинофильмы. Никакую волю он никому давать не желал, просто был бандитом. По моим предположениям и знаниям, Ермак Тимофеевич был добродетельнее всходившего на утес, позже обросший мохом… Но это уже дело моего пристрастия. Или даже каприза.
Люди, посылавшие Ермака за Урал, естественно, не предполагали, к чему приведет их предприятие, а привело оно к выходу России к Великому и неизвестному Океану, в частности. Как не предполагал Колумб, плывший в Индию, что он откроет некий Новый Свет. Отправляли Ермака с казаками, дабы утихомирить остяков, угрожавших пермским городкам Строгановых, и поставить крепость на реке Тобол. Что и было произведено. А уж по его следам и двинулась Русь на восток и на север.
У Марьина была мечта: пройти как-нибудь дорогой приобретателей Сибири, то есть из Усолья и Орла-городка в Тобольск уральскими реками – Чусовой, Тагилом, Турой (с заглядом в Верхотурье), Тавдой и Тоболом, и теперь он просил меня разуз нать о возможностях экспедиции. Но это на будущее. Сейчас же мне надо было выяснить, что осталось от старины в Усолье, Чердыни и Соликамске, и в случае бед стучать по рельсу.
А тогда, сидя над очерком Костомарова о Ермаке, я на ткнулся на слова, мною когда-то читанные, но подзабытые, в те же дни показавшиеся мне важными. Костомаров напоминал, что мирские люди на Руси по отношению к государству делились на служилых и неслужилых. Неслужилые обязаны были платить налоги и «тянуть» повинности и потому назывались «тяглыми» людьми. В семьях тяглых одни хозяева несли ответственность к миру. И были в семьях лица – до поры до времени – нетяглые или гулящие люди. И тут особенно привлекательной показалась мне такая фраза Н. И. Костомарова: «Эти нетяглые люди имели право переселяться, наниматься, поступать в холопы, закладываться, верстаться в служилые люди и вообще располагать собою как угодно».
А я-то кто, разволновался я. Кто я-то по отношению к государству? Выходило, что человек служилый. Но что толку от моего служения? И нуждается ли в нем и в Василии Куделине мое государство? По представлениям ловца человеков Сергея Александровича, от меня требовались бы иные усердия. То есть, по Сергею Александровичу, только для таких служений я и был целесообразен. А не податься ли мне в гулящие люди? Не научиться ли мне располагать собой не как кому-то нужно, а как угодно мне?
Экий ты храбрец и бунтовщик, охладил я себя. То, что Кирилл Валентинович Каширин не возражал против моей командировки, еще не означало, что я мог располагать собой как угодно. Очень скоро мне было дадено ощутить это.
Буфетчица Тамара впервые позволила себе появиться в моей коморке.
– Зинаида ушла. Надолго ли? – спросила Тамара.
– Сказала – на час. А что? – насторожился я.
– А Нинуля?
– Нинуля у врачей. И Зинаида, видимо, по ее поводу двинула в поликлинику.
– Ну и ладно. Не хотелось бы, чтобы кто-то нам помешал. И вообще ни к чему, чтобы меня видели у тебя. Пододвинь-ка ты стул к двери и сядь к ней спиной, а ко мне личиком. Мне, Василек, надо сказать тебе кое о чем.
Тамара явилась ко мне в модном в ту пору джерсовом костюме (тесная приталенная кофта, короткая юбка в обтяжку), с краской на лице, светло-кремовый цвет костюма совершенно не вредил восприятию еще не выцветшего загара ее колен и шеи. Выглядела она нагловато-сердитой и будто бы воительницей, пришедшей к человеку, перед ней виноватому и не намеренному виниться. При этом она явно волновалась.
– Курить у тебя можно? – спросила она.
– Отчего же… – сказал я. – Дыми хоть сигарой.
– Вот что, Васенька, – заговорила она, успокоив себя несколькими затяжками. – Втравил ты меня черт-те во что!
Она замолчала, взглядывая на меня по-прежнему воительницей (или добытчицей?), и, видимо, ожидала от меня то ли оправданий, то ли вопросов (скажем: «А ты что, слушала мой разговор?» И пр.). Однако благоразумие уговорило меня промолчать. Ведь мне было неизвестно о степени ее осведомленности (или степени ее соучастия… впрочем, в чем?), неизвестно было пока и о цели ее появления, даже и вопросами своими я мог проговориться о чем-либо, невыгодном для себя.
Вытерпев мое молчание и докурив сигарету, Тамара продолжила:
– Ведь надо понимать, что если бы с тобой случилось плохое, то и мне бы не поздоровилось… Так ведь, Васенька?
И это обращение ко мне не вызвало ответа.
– Так, Васенька, так… – Тамара щелкнула зажигалкой. – И никак иначе, Васенька. Но ты, видимо, везучий… Однако сколько еще продлится твоя везучесть – тридцать лет или полторы недели, – нам с тобой неизвестно…
Я чуть было не спросил: «Почему именно полторы недели?» Но не спросил.
– А потому, Васенька, – сказала Тамара, и пепел из нервно дернувшихся пальцев посыпался на ее колено, – я вправе считать, что должок с тебя я получила не сполна. За тобой, и ты сам знаешь почему, еще по крайней мере два таких должка.
Я оказался совершенно неподготовленным к подобному сюжету разговора.
– Это не шантаж, – сказала Тамара. – Это справедливое развитие нашей с тобой реальности.
Я молчал, теперь уже не из-за благоразумия, а просто потому, что, обомлев, не мог выговорить какие-либо слова.
– Пойми, Васенька, это впрямь не шантаж. – Воительница и добытчица ослабевали в Тамаре, она будто оробела и стыдилась своего прихода. – Просто я тобой не насытилась!
Мне стало жалко Тамару.
– Пойми ты это, миленький, – в голосе Тамары была мольба, – два разочка всего… И более я о себе не напомню… Хоть расписку дам…
– Опять там… в буфете?! – вырвались наконец из меня слова.
– Да ты что! – чуть ли не испугалась моему испугу Тамара. – У меня же есть комната… У Сретенских ворот… Соседи у меня хорошие… И стены толстые…
Из меня должен был произойти (исторгнуться – по-торжественному) то ли вопль, то ли стон, то ли писк. И Тамара это поняла.
– Васенька, я никак не могу тебе этого объяснить, – говорила Тамара, – это не любовь, не любовь, это какая-то жадность к тебе, может, я больна, но это только к тебе… Я старая, я на двадцать лет старше тебя… что я говорю… Но мне кажется, что я тебе не противна… Ты любишь другую… Я знаю кого… Ты сам не готов признать, кого ты любишь… А я знаю… Но ее сейчас рядом нет. И ты не думаешь о ней… А я рядом… И ты меня пожалей…
Тамара привезла себя на стуле коленями в упор ко мне и стала теребить мои волосы.
– Хорошо, – сдался я. – За мной два должка. Но не более.
– Когда? – спросила Тамара. – Мне надо ехать в командировку, – жестко сказал я. – Чем быстрее, тем лучше.
– Завтра. Вот тебе мой адрес. – Тамара протянула мне бумажку, робко-трепетной просительницей она уже не была, добытчица-воительница возродилась в ней, а добыча вот-вот должна была оказаться в рысьих когтях, и Тамара произнесла приказом: – Первый-то должок, возвращение его мы с тобой произведем нежно, а уж при втором должке, то есть третьем, я тебя заставлю все делать так, как мне пожелается.
43
Обследование Нинули, то есть Нины Иосифовны Белугиной, затягивалось, ей грозил и стационар, и я никак не мог отправиться в Соли Камские.
Времени для общений с любезницей Тамарой у меня было предостаточно.
Но первый визит к ней откладывать я не стал, как и договорились – «завтра». Дом Тамары, стоявший у Сретенских ворот посреди Рождественского бульвара, был когда-то гостиницей, коридоры в нем тянулись лесными просеками. Комната Тамары, метров шестнадцать, оказалась теплой, уютной и будто мягкой – на двух стенах ее висели ковры. Удивило меня присутствие в Тамарином жилище книг. И среди них – прижизненный сборничек Зинаиды Гиппиус.
Во второй раз я ехал к Тамаре с чувством смущения. Или растерянности. Воительница-добытчица пообещала, что отдавать третий, последний, буду верить, должок она вынудит меня каким-то особенно приятным ей способом. И действительно, Тамара постаралась испробовать эротические изыски, я же призывался стать в этих изысках (или ухищрениях) достойным партнером. Образцом для наших опытов Тамара избрала индийские любовные картинки. Года два назад Тамара туристкой ездила в Индию и вывезла оттуда, в частности, том с картинками южного жизнелюбия. Таможенники в те годы и «Плейбой» признавали порнографией, потому, конечно, дозволить провезти Тамаре какие-либо безобразия они не могли. И том ее был всего лишь альбомом фотографий скульптур буддийского храма в Кханджухаре (на юге Индии). Позы персонажей альбома произвели на Тамару возбудительные впечатления, я, по ее мысли, для испытательных упражнений как раз подходил. Впрочем, Тамаре, при всем ее пыле, для следования примерам индийских забавниц требовались бы долгие занятия хотя бы спортивной гимнастикой, да и диета ей бы не помешала. Но и я не был йогом.
Совершал я визиты к Тамаре без радости, но они и впрямь не оказались для меня противны. Естественно, были неловкости и не то чтобы двусмысленность, а даже и многосмысленность моего с Тамарой любезничанья. Можно было посчитать мое положение унизительным. Но Тамара не волокла меня к себе на цепи. В конце концов, я был вправе сказать ей: «Извини. Но нет. Не буду. Используй свое знание обо мне, коли хочешь. Но я не буду». Да и вряд ли именно ее досада могла как-либо ухудшить мое пребывание в углу. Однако я признавал за собой два должка и являлся к Сретенским воротам… И состояния самой Тамары были неровные. То она радовалась мне. То она нервничала и будто злилась на меня. Тогда становилась занудно требовательной, словно б я действительно был в чрезвычайных долгах перед ней, а теперь неважно отбывал повинность. То она превращалась в нежнейшую рабыню, желавшую всем чем можно ублажить любимейшего господина. Тогда я выслушивал от нее:
– Не считай меня бессовестной, Васенька, и обнаглевшей не считай. Я прошу тебя. И тут, правда, никакой не шантаж. Я вроде принудила тебя быть со мной хотя бы эти три раза. Но если бы я знала, что у тебя есть женщина, пусть даже и нелюбимая, я не позволила бы себе этого… Но у тебя сейчас нет женщины… А она тебе нужна… Согласись, Васенька, нужна ведь какая-никакая…
Я бормотал нечто, скорее всего выражавшее согласие с мнением Тамары. Да и глупо было бы спорить в те минуты с ее мнением.
– Ну вот! Я и есть теперь для тебя какая-никакая, но нужная…
То, что у меня нет теперь рядом женщины (любимой, то есть сама по себе любимая мною женщина есть, но она далеко), было выведено Тамарой не только из ее наблюдений и ощущений, но – и не в последнюю очередь – из расклада карт. Гадала ее мать, гадала ее бабушка, кстати, от бабушки Тамаре достались колоды конца прошлого века и начала нынешнего, за ними нынче охотились коллекционеры как за ценностями художественными. Исполнены они были и по эскизам академика Шарлеманя, и в русском стиле – под Виктора Васнецова и Билибина. Особо редкой считалась колода чуть ли не Георгия Нарбута, там все персонажи были исключительно малороссиянами, валеты походили на гарных парубков со стрижкой под горшок, а короли – на ясновельможных гетьманов с булавами. Карты хранились чистенькие, ими не гадали, не ворожили и уж конечно не играли. Их рассматривали.
– А это вот ты, – протянула мне карту Тамара.
На глянцевой картинке «под Васнецова» хмурился добрый молодец из «Псковитянки» или «Царской невесты», розовощекий, в лисьей шапке, в кафтане и с секирой отчего-то в левой руке. Масть молодца была бубновая.
– С чего ты взяла, что это – моя карта? – спросил я.
– А кто же ты есть? – сказала Тамара. – Ты и есть бубновый валет.
Никаких сомнений в голосе Тамары не было.
Совсем недавно я слышал от кого-то слова «бубновый валет»… От Валерии Борисовны!
– А К. В. – тоже бубновый валет? – поинтересовался я на всякий случай.
– Ну здравствуйте! – чуть ли не возмутилась Тамара. – Какой же он валет! Он – король! Король треф!
– А может, и туз… – в задумчивости произнес я.
– А может, станет и туз, – кивнула Тамара.
– При всем уважении к твоей бабушке, матери, тебе и картам, – сказал я, – гаданиям я не верю. Но мне все же интересно, кого ты считаешь моей любимой женщиной, той, что нет нынче рядом?
– Я тебе не открою, – сказала Тамара серьезно и даже с печалью в глазах. – Я не уверена, что все так и есть. Но я догадываюсь о ней… Наверное, ты удивился бы, узнав, о ком я догадываюсь, и, возможно, не обрадовался бы моим словам, потому я промолчу.
– Никого я не способен любить, – произнес я мрачно.
Желание вести разговор о любимой женщине у меня тотчас пропало. И разубеждать в чем-то Тамару не хотелось. Ну, уверила она себя (или меня намерена была уверить) в том, что она мне на время необходима, ну и ладно. Все же она чего-то стыдилась, наверное, потому и повторяла, что меня не убудет ее ублажать, что она по мне изнывала не год и не два, а я не замечал, а теперь-то она старается утешить меня («Неужели тебе не хорошо со мной, Васенька?», «Я разве что говорю…»).
– Ты в картах дока. И кто же он – бубновый валет-то? – спросил я. – Пиковая дама известно кто. А бубновый валет?
– Молодец-удалец! – рассмеялась Тамара. – С хлопотами.
– С розовыми щеками и секирой, как на васнецовской картинке…
– Много будешь знать…
– Полагаешь, не надо меня расстраивать?
– В каждой семье свои предания. И свои бубновые валеты… – Взгляд Тамара от меня отводила, но стала заметной тоска в ее глазах или предчувствие скверного. – Но пока ты, Васенька, везучий…
– На полторы недели, – вспомнил я ее недавние слова. Хотелось тут же услышать: «Ну почему же на полторы недели?»
– Может, и на полторы недели, – сказала Тамара, так на меня и не глядя, погрузившись в свою судьбу, – а может, и на больший срок. Дай Бог… И мое везение с твоим связано…
Ушел я от Тамары после ночи с индийскими изы сками часов в семь утра. Стояли мы друг против друга утомленные, Тамара прижалась ко мне, зашептала: «Не брани меня, Васенька, не считай бессовестной, я и впрямь по тебе изнывала и уж как могла старалась утешить тебя…»
Как вести себя с Тамарой далее, я не знал. И что у нее истинно на уме, не уяснил (то есть я этим не занимался). И конечно, не понял, кто она в моей «вертушечной» истории. Вынужденно ли она исполняла чью-то волю, находясь под кнутом и присмотром, или же была занята своей игрой, либо ради собственной выгоды (хотя бы со взыманием с меня «должков»), либо в надежде уберечь себя от неприятностей в случае, когда везучестям моим наступит предел? «Полторы недели» – отчего-то был назван срок. Осуждать Тамару было бы нехорошо. Да и ожидание от нее подвохов выходило делом неприятным. Она меня утешила и обогрела в уюте и чистоте своего дома, а я жду от нее подлостей… И все же в разговорах с Тамарой мною о фарфоровых приобретениях из коллекции Кочуй-Броделевича упомянуто не было. На всякий случай. И Тамара о них будто бы запамятовала. При расставании я чуть было не сказал о них, мол, принесу, а ты уберешь в коробки. Но раздумал. Боялся вовлечь Тамару еще в одну общую для нас проказу и полагал, что даю ей умолчанием возможность (при нужде) для оправданий или уловки. Мол, ни про какие изъятые Куделиным безделушки ничего ей не ведомо.
Но уже через день я стал сожалеть о том, что в условиях наших с Тамарой отношений безделушки не оговорил. Явилось ко мне убеждение в том, что одно дело – ласки в постели, другое дело благополучие или тюрьма, и что Тамара, как человек жизнелюбивый и цепкий, в любых дрязгах выкрутится и найдет способ от меня отъединиться. И начал я думать о том, что солонками она еще сможет (потому и молчала о них) меня шантажировать (Фу-ты! Зачем же так грубо о доставившей тебе удовольствие женщине!), ну не шантажировать, а держать в напряжении и в случае новых своих изнываний принудить меня к отдаче еще двух должков.
Бог ты мой! Каким глупейшим и пошлым стало мое существование!
«Надо бы найти Обтекушина, – пришло мне в голову. – Найти его, поговорить с ним и надраться!»
Но при чем тут Обтекушин! При чем в нынешней-то моей жизни Обтекушин!
«Полторы недели ты еще везучий…» – выведено гадалкой в третьем поколении. А может, не в третьем, а в седьмом. Что же они тянут, что же издеваются надо мной?!
44
В те дни я имел разговор с Башкатовым. Не скажу, чтобы этот разговор меня особо обрадовал.
К тому, что Башкатов мне открыл, я уже был готов. И ход обстоятельств подталкивал к догадкам, и предчувствия подсказывали объяснения, в какие не хотелось бы верить.
Но случилась в разговоре и одна неожиданность, удивляться которой, впрочем, тоже было нельзя.
Башкатов звонком пригласил меня к себе в комнату, сидел он в ней нынче один и, впустив меня, тут же дверь запер.
– Ну ты, Куделин, даешь! – Башкатов глядел на меня с восхищением, будто на космонавта, вернувшегося с Венеры, или на снежного человека, наконец-то изловленного им. – Кто бы мог ожидать от тебя! Я не ожидал. А ты уже два раза прошелся по канату над Ниагарой. Один раз в случае с Цыганковой. Второй раз вот теперь.
Напоминание о случае с Цыганковой могло бы меня обидеть или даже оскорбить. Но Башкатов, видимо, не полагал быть нынче дипломатом или деликатным собеседником, он скорее походил на только что откушавшего Ноздрева, удивленного нежданным подвигом зятя Мижуева. Но он мог и не знать о нашем разрыве с Юлией Ивановной Цыганковой. Меня же упоминание Цыганковой не обидело и не огорчило.
– Какие такие проходы над Ниагарой? – спросил я. – И в особенности тот, который теперь?
– А ты будто не знаешь? – захохотал Башкатов.
– Не знаю, – сказал я.
– Ну не хочешь говорить, и молчи. А я-то уж точно не мог предположить, что ты способен на этакого полета розыгрыш. Снимаю кепку! Одно дело женщина. Это ее право или блажь выбрать из табуна, что вокруг нее пасется и взбрыкивает, самого плюгавого и хромого. Это я не про тебя, не про тебя. Это я про женщину вообще. А вот чтобы такой розыгрыш учудить, чтобы публику потешить, дела уладить для всех наилучшим образом, да самому целым при этом остаться, это я тебе скажу!..
– А я целым оставлен? – спросил я, растерявшись.
– Но вот же ты сидишь передо мной целый!
– Не понимаю, о каком розыгрыше ты говоришь, – спохватился я.
– Ну не понимаешь, старик, и не понимай, – надулся Башкатов. – А я-то призвал тебя, чтобы извинения свои выказать и открыться в своем розыгрыше…
– Но я и впрямь не знаю, что ты признаешь моим хождением над Ниагарой, – продолжал я валять дурака. – Мне было бы интересно узнать об этом. Не тебя ли я разыграл? И какие дела уладил?
– Ну, это уже, старик, скучно, – поморщился Башкатов и палец отправил исследовать левую ноздрю. – Ты все мое воодушевление сбил. Я уже в двух местах сказание о тебе слышал. Фамилию, правда, не называли, им твоя не нужна, а другие они произносили, но я тебя вычислил. Розыгрыш твой, то есть не твой, а неизвестного шутника, произвел впечатление. Вчера я был – по делу! по делу! – в компании важных дуралеев, по чьему неразумению отменили прогулку на Луну, и там анекдотец о тебе прозвучал в иной, правда, трактовке… Я-то надеялся от тебя кое-что услышать, но чувствую, ты открывать рот не намерен… – Мне нечего тебе сказать.
– Жаль, жаль… А я не следователь. И потому меня не пугайся… Но ты же знаешь, что я один из самых осведомленных людей в Москве. И энергетика у меня такая, что самая немыслимая информация ко мне притекает, минуя магнитные и всяческие другие поля. И то, что мне нужно разузнать о твоем розыгрыше, я разузнаю. А пока я пребываю в зависти и с легендой в воображении…
– Это ты-то, Владислав Антонович, можешь завидовать комулибо из-за чужих розыгрышей? – выразил я сомнения. – Позволь тебе не поверить.
Я уже упоминал как-то, что в ту пору в нашей редакции шутник шутника погонял, а розыгрыши были способом сохранения житейской энергии и добродетели. Бывали розыгрыши веселыми, безгрешно добродушными, но случались они и нелепыми, дурацкими, а то и злыми. Правда, иногда их результаты удивляли и самих шутников. Скажем, фельетонист Комаровский вместе с коллегой по отделу Волыновым, удовлетворительно отобедавшие в «Антисоветской» шашлычной, посетовали на приятеля, очеркиста Подкопаева, отказавшегося запивать с ними люля-кебабы. Подкопаев сидел в своем кабинете, через стену от шутников. Комаровский позвонил ему, назвался директором студии имени Горького, выразил восхищение его очерками, в особенности – последним, и пригласил к себе в канцелярию. Завтра, в одиннадцать, для творческого собеседования, если, конечно, уважаемый автор сможет прий ти. Подкопаев в ответ пропел величальную кинематографу и заявил, что не только придет, но и прилетит. «Как прилетит, так и отлетит!» – обрадовались Комаровский с Волыновым. Назавтра они, словно сладострастные старцы явления Сусанны, поджидали возвращения Подкопаева с фабрики юношеских грез. Готовы были их сочувствия по поводу конфуза и уныний очеркиста. А он влетел в шестом часу в их кабинет, размахивая известной в нашем миру бумагой: «Братцы! Народ меня знает и любит! Договор! Фильм! Режиссер Ростоцкий! Аванс!» Директор студии ни о каком Подкопаеве не слыхал, но засомневался: а вдруг что-то запамятовал, очеркиста принял, сочинение его одолел за полчаса, увидел в нем фильм и распорядился сейчас же подписать контракт и выдать аванс. При этом Подкопаев был обсыпан лепестками киношных, то есть ничего не значащих похвал. Комаровский с Волыновым приуныли и решили впредь шутить осмотрительнее. Примирили их в тот день с действительностью две бутылки коньяка, обеспеченные авансом Подкопаева, то есть фактически – их розыгрышем.
Но несомненным чемпионом и рекордсменом розыгрышей в редакции считался Башкатов. И пустяшные его забавы выходили эффектно-изящными, иные из них были импровизациями, другие готовились и оснащались основательно. Мне же запомнились истории с Семлевским озером и некрологом на баснописца государственной важности. Башкатов, помимо всего прочего, был из кладоискателей и намеревался в Семлевском озере на старой Смоленской дороге обнаружить сокровища императора Наполеона. То есть сокровища, награбленные французами в Москве. По многим свидетельствам, обозы отступавших завоевателей в Семлеве велено было облегчить, и часть московской добычи ушла на дно Семлевского озера. Там и лежит заиленная. Башкатов долго подбирался к сребру и злату допожарной Москвы, но однажды в застолье проболтался о намерениях своему приятелю Голощапову из городской молодежной газеты. А тот Башкатова подло опередил. Напечатал о семлевской легенде очерк и стал склонять публику к необходимости снарядить экспедицию. На городскую молодежку мы взирали с горной вершины, даже и вообще не взирали, то есть и не читали ее, да и зачем – детский сад (футбольная команда, правда, у них была хорошая, с липачами, пожалуй, и покрепче нашей). Но клад-то на Семлевском озере был башкатовский, стало быть, наш, и Башкатов, конечно, не мог простить себе болтовни в застолье, а Голощапову подлость и воровство. Энергией Голощапова и Кантемировской дивизии был подготовлен к отправке в Семлево новейший вездеход-амфибия с чувствительными к металлам, благородным в частности, приборами. Башкатов с доброхотами отвезли в Семлево два стальных ящика, ночью на надувных резиновых лодках прогребли метров двадцать от берега и затопили емкости. Причем те были снабжены устройствами, позволявшими ящикам-контейнерам «с головой» уйти в ил. Один из ящиков был набит металлом – решетками и спинками кроватей, примусами, мятыми канистрами, консервными банками и пр. Во втором ящике, неплотно прикрытом, Башкатов разместил списанную на «Мосфильме» бутафорию и с «Мосфильма» же предметы гардероба исторической ленты. При первом тормошении экспедицией дна озера всплыла треуголка, расшитая якобы золотом. Консультантами она немедленно была идентифицирована как головной убор маршала Нея. Приборы кантемировского вездехода ощутили присутствие в иле большого количества драгоценного и цветного металла. Голощапов давал интервью французским и американским газетам, обещал привезти (после приведения в порядок) семлевскую коллекцию на показ в Лувр и музей Метрополитен. Излишне рассказывать о том, что произошло, когда крюки вездехода по подсказке аквалангистов выволокли из вод и грязей ящик с примусами и прогнутыми кроватными лежанками. Идея экспедиции была опорочена. Технику отозвали. Голощапова признали болтуном и авантюристом. Башкатов потирал руки. «Клад-то теперь наш! – говорил он. – Наш! И ничей другой! Год-два-три пройдут, взбаламуть уляжется, я космонавтов растормошу, технику их возьмем, все дно озера разворочаем, а клад добудем!»
Розыгрыш друзей баснописца, по словам Башкатова, вышел дурной и не было в нем никакой надобности. Тридцать первого марта гуляли на дне рождения у приятеля Башкатова Оси Герасимова. За полночь, уже воодушевленные, сообразили, что на всех наехало Первое апреля. Решили, кого можно из знакомых, тепленьких, сонных еще, понятно, не осознавших, что они теперь уже находятся на прикосновенной территории Первого апреля, разыграть. И многих замечательно разыграли. Причем чаще всего текстовиком и актером-исполнителем сидел у телефона Башкатов. Вернулись к столу, дернули празднично, в частности и за день рождения Николая Васильевича. Я знал о том застолье со слов бражничавшего там Сергея Марьина. Отдав должное Николаю Васильевичу, вспомнили: «А Галетова-то забыли! Галетова!» И действительно, почти всех разыграли, а Галетова забыли. Галетов был добрейший человек, гурман, ценимый в ресторанах с репутацией, театрал, из театров последовательно происходили его жены, о театре и о легендах кулинарии он и писал (П. Гамлетов и С. Прованский), сочинял также субботние нравоучительные фельетоны для вечерней газеты, средства же на светскую жизнь и на жаркое от Бороды добывал репризами для цирковых клоунов. Самым подарочным случаем своей судьбы он отчего-то считал школьные годы в одном классе с баснописцем государственного значения. Или, скажем, государственного применения. Этот баснописец, а также автор сказки о хвастливом утенке (по ней была создана пьеса, либретто для балета и для оперы) постоянно пребывал у народа на виду. Порывистый в движениях мужчина, с вечным пионерским галстуком на лебединой шее, с лицом кота, готового заурчать, коли ему почешут за ухом. В нашем классе его полутораметровый портрет висел в компании с портретами Салтыкова-Щедрина, Гончарова, Лебедева-Кумача и Исаковского. Можно было сделать вывод, что, сохранившись в живых, и Щедрин с Гончаровым имели шанс получить Сталинскую премию. Наш творец хвастливого утенка был царедворец, сеятель разумного по ветру, устроитель судеб оте чества, много чем руководил, перед ним снимали головные уборы педагоги. При этом в отличие от некоторых иных верховодов человеческих душ (в высотах – над их инженерами) он не вызывал чувств презрения, брезгливости или даже ненависти. Отношение к нему было легкое, неуважительноироническое. Пройдоха, но ведь без ущерба для всех. Меня же он и вовсе не раздражал, я даже находил в его стихах строчки милые и смешные. А вот названный мною Галетов, если его вынуждали чемлибо взгордиться, вскрикивал: «А я друг детства самого…» Такая у гурмана и театрала была сладчайшая блажь…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































