Текст книги "Трусаки и субботники (сборник)"
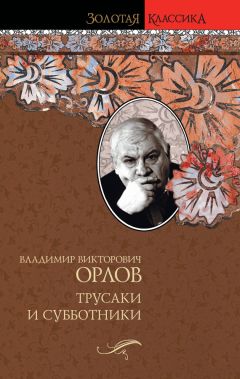
Автор книги: Владимир Орлов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 33 (всего у книги 46 страниц)
46
В больницу Нинулю не положили, и я уехал в Соликамск.
Мчал я на Северный Урал в пермском экспрессе и в дороге не мог не раздумывать о подсказках Башкатова. Явно они были и подсказками Кирилла Валентиновича Каширина. И для него в нынешней ситуации странный звонок из его кабинета (в его отсутствие) удобнее всего было объяснить безответственным, возможно, и хулиганским спором двух остроумцев. И тут злая шутка с некрологом баснописцу была убедительно приложима. И Башкатов вписывался в строку. А розыгрыш его с солонками (цель – объявить Куделина, выставив его на посмешище, простаком и болваном) вполне мог подтолкнуть нетворческого работника, обиженного и уязвленного, к отчаянному действию. Все выстраивалось логично и не оскорбительно для высших личностей и структур. Дурацкая шутка, но без неуважительной дерзости по отношению к государству. Конечно, нехорошо, что у них в газете такие шалопайские нравы, но – юнцы все же, повзрослеют, а вот Главному при случае нравы его юнцов припомнятся… К. В. вроде бы должен был остаться в стороне.
При этом получалось, что Башкатов как бы приносил себя в жертву. Он становился соучастником дурацкой шутки. Косвенным, понятно, косвенным. Исполнителем-то, пусть и по пьяни, оставался я. С меня и был спрос. Башкатов имел право стоять на том, что он и поверить не мог в осуществление пьяной дури. Поспорили, и он об этой дури забыл. И тем более в голову ему не приходило, какие тексты и о чем я возьмусь произносить. Но в его ситуации – новая попытка пробиться в отряд космонавтов – и косвенное соучастие могло повредить. Значит, он, человек расчетливый, понимал, на что шел. Ради чего или ради кого, открывать мне это в его намерения, видимо, не входило. Ну ладно… К. В., Кириллу Валентиновичу, надо полагать, было уже известно о случившемся в его кабинете. С работы его пока не погнали, да и выговорами не одарили, стало быть, по поводу происшествия шум подымать сочли нецелесообразным. То есть такое мне в поезде приходило в голову. На самом же деле все могло обстоять иначе. И подсказка Башкатова означала лишь подвод меня к запасному варианту оправдательной уловки.
Хорошо. Подумаем и над таким вариантом событий. Впрочем, что думать-то? Просто придется держать в уме подсказку затейника Башкатова.
А Тамара? Спрошено ли с нее? И что ей и кем сказано? И что ею отвечено? Не знаю. И, может быть, никогда не узнаю об этом. В лучшем случае. В лучшем…
Отвязаться от всех этих мыслей и догадок я не мог до самого прибытия в Пермь. Тут мне пришлось решать: сразу отправляться в Соликамск или дня три пробыть в Перми? Предпочел все же сесть в неспешный соликамский пассажирский. Приехал в Соликамск утром, сыпал снежок. Времени у меня было немного – на Соликамск, Чердынь и Усолье всего неделя. Впрочем, командировки в нашей газете традиционно выходили недолгими, мои премиальные десять дней должно было признать роскошеством. Тобольск нынешним летом оказался для меня городом праздничным. И возбужденное гуляние в нем бурлило, и солнце над ним не ведало облаков. Пермское небо я видел мрачно-серым, голубые промоины возникали в нем редко, на улице приходилось ежиться, поднимать воротник куртки, натягивать кепку на лоб – а то сдуло бы. Пожалел, что не взял теплые носки. Или хотя бы футбольные гетры. В Тобольске нас ресторанно закармливали и напаивали, в Биармии же (так называли северные камские земли в десятом веке арабские географы, потом, видно, Биармия преобразовалась в Пермь) питаться я был вынужден в дурных столовых. Словом, поводов для ворчаний и неудовольствий было у меня много. Ворчал я и на Серегу Марьина. Он вытолкнул меня в автономное плавание. Им-то, Марьину, Башкатову и прочим нашим профессионалам, добывание сведений для статей и очерков было в удовольствие, а я, неумеха, ощутил себя еще и личностью стеснительной, заводить знакомства с необходимыми людьми и задавать им вопросы оказалось для меня чуть ли не мукой. При всем при том, что открывалось мне в Чердыни (я и в Ныроб, где горевал когда-то в яме один из опальных Романовых, заскочил на полдня), в Соликамске и Усолье, даже при увлекавших меня узнаваниях коренных здешних людей с их судьбами и интересами, я чувствовал душевные некомфорты. Что-то было не по мне… Это «что-то» я смог назвать словами лишь в Москве.
Потом я посчитал, что увидеть Пермский север предзимнострогим, с угрюмостью небес мне было полезнее, нежели в его празднично-звенящем состоянии. Мне-то что! Я мог вернуться в теплынь гостиницы (а через неделю и отправиться в Москву), а каково приходилось здесь моим соотечественникам в конце шестнадцатого века, в веке семнадцатом? Не только тем, кто жил при варницах крупнейшего в России соляного промысла (тут были их дома и привычное дело), а прежде всего тем, кто был в Соликамске проездом. Или проходом. Именно тем, кто приращивал Сибирь, а потом и русскую Америку! Да и простым ямщикам. Других дорог тогда в Тобольск и далее к Енисею не было. Люди эти, надо полагать, шли отважные, рисковые, люди свободного выбора, натуры крепкие и с тягой к поискам новых, не знаемых ими доселе земель («стран Беловодий», по Анкудиной). Чаще это были жители равнинных северодвинских областей, на них не могли не произвести впечатления вздыбы и дерзости гор Каменного пояса, а уж за теми мечтались просторы совершенно диковинные.
Для иностранных туристов Пермские земли в ту пору держали закрытыми. Да и своих сюда особо не приманивали. И поселить их было бы негде. И показывать многое вышло бы неудобным. В Вознесенском монастыре, например, содержали заключенных. Леса вокруг Березников с их титано-магниевым комбинатом (Усолье – напротив, на правом берегу Камы) стояли будто умерщвленные пожаром. В те годы, правда, по поводу природных драм не ахали, корпуса комбинатов были куда дороже всех этих хвойных и лиственных особей, всех этих листочков и иголок. Нельзя сказать, чтобы власти не сознавали, какие ценности находятся в их ведоме. В Соликамске трудилась реставрационная мастерская (к моему приезду ядро ее перебралось в Пермь, в Соликамске же остался теперь производственный участок). Несколько зданий стояли здесь «как новенькие». Порадовали меня удивительные, ни на что не похожие, даже и из виденного мной на картинках, но вдруг вызвавшие во мне мысли о Коньке-Горбунке, два крыльца Троицкого собора, поставленного на государево жалование в двести рублей и на средства «заборной» церковной казны, собранной с мельниц, лавок и амбаров. Особенно понравилось западное крыльцо на три схода с каменными шатрами, с фигурными столбами, с резными дыньками, бусинками, жгутами. До чего же праздничным устраивалось введение во храм! (Только в Соликамске я узнал, что в войну Троицкий собор принял на хранение эвакуированные ценности из Русского музея, ГМИИ-Пушкинского, из других наших сокровищниц.) Опять же не похожей ни на что мне известное оказалась высоченная колокольня «на палатах», то есть на трех этажах мирского здания, где когда-то размещались суд, училище, городская дума. Под сводами палат сиживал Витус Беринг, совершавший путешествие к Великому океану. Украшенное наличниками с треугольными навершиями и кокошниками, стояло невдалеке первое каменное здание Пермской земли – приказная изба, а позже – воеводский дом. Внутристенным ходом (а стена – толщиной в два метра) протискивался я из подклета в сени первого этажа. «Три века назад, – просвещал меня местный музейщик Алексей Иванович Кутейщиков, – поднимался здесь, но еще в избе деревянной, по служебным надобностям соликамский воевода Дмитрий Зубов, сын промышленника Ивана Зубка, и дед нашего великого Федора Зубова, а стало быть, и прадед петровских граверов Ивана и Алексея Зубовых…» Зубовыми в Соликамске гордились. Федор Зубов, «иконописец Усолья камского», призванный позже в Москву, в Оружейную палату, распоряжением Алексея Михайловича, почитался здесь несомненно великим. Этого-то судьба повела не в Сибирь, как многих Соликамск миновавших, а сыновья его, мастера европейского пошиба, стали одними из первых мастеров Петрова града. Соликамск отправлял людей на восток и на запад, из старых времен в новые. И теперь воеводский дом был живой. С толпой ребятишек, глазевших при мне на его реликвии. Дня через два я стоял в Усолье перед палатами Строгановых. В сравнении с воеводским домом это был дворец и не промышленников уже, а баронов Строгановых. Но ему еще предстояло ожить. Деньги реставраторам отпускались мизерные. Хотя лет пять назад и было кое-что сделано – подновлено кружевное узорочье наличников и высокая «вальмовая» крыша. Но возвращение палат во дворец пока не состоялось. И в Соликамске, и в Усолье сетовали: как бы с переводом мастерской в Пермь об их малых и «закрытых» городах и вовсе не забыли. Нет, заверили меня в Перми, не забудут. Тем более что в самой Перми реставрационные труды толком еще и не начинались.
Естественно, в самой Перми я первым делом отправился смотреть на пермских богов. В ту пору после нескольких выставок и публикаций, в особенности очерка в «Новом мире», средневековая наша деревянная скульптура, дотоле публике плохо известная, была в чрезвычайной моде. Вспомнили и давнюю статью наркома Луначарского. Деревянных богов возили на показ во Францию и в Японию. В Соликамске я долго стоял перед «Распятием» из кладбищенской часовни. Смиренное страдание, горести бытия и одиночество… В Пермской же галерее, под сводами бывшего кафедрального собора, я испытал поначалу некое смущение. Здесь боги, святые, предстоящие, воины, простые персонажи праздничных историй – толпились. Были они, реставрированные, ярко раскрашены, и в голову мне пришло нелепое соображение, что я оказался на сборе Дедов Морозов пред их разъездом на школьные елки. Потом я подумал, что первовзглядное соображение это вызвано, в частности, обилием бород лопатой у множества Никол, у северных святителей, двинских, устюжских, пермских, у евангелистов с сочинениями в руках. Позже (три дня я ходил в собор-галерею) Деды Морозы исчезли, толпа для меня распалась, персонажи ее разъединились и явились мне собственные особенные натуры. Снова в распятиях, в фигурах, ликах Спасителя и предстоящих открылись мне скорбь и высокое страдание трагедии бытия, одна из Параскев Пятниц, покровительница торговли и устроительница свадеб, удивила своим тонко-благородным обликом, иные Николы показались скорее и не защитниками крепостей, а милостивыми дедушками (один из них, правда, вызвал во мне мысли о Льве Николаевиче Толстом), Никита-мученик, в рост, с цепью в правой руке для побиения бесов представился озорником ухарем, а четверо приземистых евангелистов уж точно выглядели мужичками-хитрованами. И все же я не мог забыть о своем изначальном впечатлении – толпа деревянных богов. О чем и сказал хранительнице коллекции Елене Григорьевне Гудимовой. Она закончила университет в Питере, там же защитила диссертацию, была немногим старше меня, и вскоре употребление отчеств из наших разговоров пропало. Я понимал, что, выказывая косвенную укоризну, мог обидеть патриота музея, а потому сразу же принялся фантазировать: как было бы хорошо, если бы в городе устроили специальный музей «пермских богов», где для всех героев или сюжетных групп, связанных с той или иной церковью или деревней, имелись бы свои «приделы», собственные, уникальные, и с каждым персонажем стоило бы знакомиться, собеседовать по отдельности, переходя из зала в зал…
– Вы, Василий, мечтатель, – рассмеялась Лена. – А то мы о таком музее не думаем. Или хотя бы о филиале галереи. Но кто нас снабдит зданием и деньгами? И вовсе не в соборе должна проживать художественная галерея. Я вас в запасники отведу, вы увидите нашу тесноту и ущербность.
Ленины запасники меня расстроили. Это были словно и не запасники, а склад (коробки с солонками Кочуй-Броделевича, естественно, вспомнились мне). Иные иконы (строгановского письма, в частности) и картины Лена мне показывала, чаще же ей приходилось лишь называть удаленные теснотой от глаз зрителей творения. Доски и полотна стояли у стен, прижатые друг к другу, будто в ожидании расстрела. А среди них были малые голландцы, пусть и неизвестные и требующие атрибуции, но несомненно из хороших школ. И наши авангардисты начала века.
– Ну эти, авангардисты-то, еще ждут своего времени, – словно бы успокоила меня Лена. – Им и являться пока рано. Да и нам боязно. Как бы не отобрала их у нас какая-нибудь Фурцева для подарков какому-нибудь Хаммеру.
В Тобольске опасались, как бы не увезли от них в университетские города документы и реликвии Сибирского архива.
– Но вы, Василий, правы, – сказала Лена, – в том, что с каждым из мастеров, а может, и с каждой их работой, необходимо тихое, тихомудрое даже, и личностное общение. Не в суете и не в тесноте. И не в толпе. Сейчас я вас приглашаю к такому общению.
Легкая, худенькая, смелая в движениях, она повела меня в лекционный зал. Питерская ее приятельница на днях прислала Лене с оказией слайды Модильяни. А к Модильяни, выяснилось, отношение у нее было особенное.
Лекционный зал вместили в какое-то подсобное помещение собора. Был он покато-узким, кресел на пятнадцать, наверное. «До тридцати набиваются, – уточнила Лена, – когда мальцы…» Луч от проектора до экрана тянулся метров семь. «Начнем потихоньку», – сказала Лена. Позже я понял, что она рассматривает (или просматривает?) слайды в третий раз и нынче ей требовалось разделить свои наслаждения с кем-либо из понимающих. Почему она отнесла к понимающим меня, я не знал. Может, оттого, что я приехал из Москвы, да еще и из уважаемой газеты? А я Модильяни к тому времени не видел (ну, две-три репродукции), да и почти ничего не ведал о нем. Тем более что в наших музеях его просто не было.
Просмотр наш вышел именно тихим. Звучали лишь объявления Леной полотен Модильяни. Вернее, имен их моделей. «Виолончелист… Диего Ривера, портрет, как видите, неоконченный… Дама с черным галстуком… Сутин…» Слайды Лена меняла не спеша, давая каждому цветному видению побыть на белой поверхности экрана минут пять. Я предположил, что про мое присутствие она могла и забыть. Она общалась с Модильяни. «Я не слишком задерживаю вас, Василий?» – спросила Лена. «Нет, нет, что вы! Вы, может быть, даже торопитесь!» – поспешил я заверить Лену. Вскоре же я стал соображать, что Лена показывает мне именно Модильяни неспроста, а чтобы подвести меня к некоему открытию или хотя бы к удивительному впечатлению. «На слайдах все больше – головы… – размышлял я. – Лики… И довольно условные… Но условность им не вредит… Плоскости… Но нет, они не плоскостные… линия дает им объем и телесность…»
– Елена Григорьевна! – не выдержал я. – То есть вы хотите мне сказать, что Модильяни и пермские боги… Я не искусствовед, о Модильяни почти ничего не знаю, но…
Лена рассмеялась.
– Василий! Желание мое было смутное. Вызвать ваши ощущения я хотела, чтобы проверить свои. Модильяни полагал стать скульптором. Роденовское направление, тогда будто все себе подчинившее, было ему не по душе. Он учился у румына Бранкузи. Архаический примитив того, по мнению Модильяни, вернее передавал сущность натур и явлений жизни. Конечно, с работами северных резчиков по дереву он не был знаком. Но тогда случилось в Париже увлечение негритянской скульптурой. И вот мы с вами в Перми размышляем о пересечениях народов, их культур и их мастеров…
– А вы, Лена, – сказал я, – могли бы стать моделью вашего кумира… Дамой в черном галстуке… Вы носите черный галстук?
– Иногда ношу… – не сразу произнесла Лена. Мы сидели в темноте, но мне показалось, что она смутилась. Потом она сказала: – А вот с вас, Василий, пермяки наверняка бы взялись резать Никитувоина с плетью в руке. Или даже Георгия, сокрушающего змия…
– Из дубовой колоды, – предположил я.
Лена пришла на вокзал провожать московского визитера. Валил снег, за десять пермских дней солнце так и не уважило меня своим явлением. Я постарался произнести некую галантную фразу, что вот, мол, Елена Григорьевна и заменила мне в Перми занавешенное сизыми облаками светило, и пообещал выслать газету, коли в ней будет напечатано мое сочинение…
47
Но его – очерк ли, эссе ли, корреспонденцию ли – следовало еще написать. Никаких отгулов Зинаида Евстафиевна, естественно, не могла мне предоставить, сидеть с бумагой и ручкой полагалось по ночам. Старики вернулись со своего огорода, и теперь, после временных дворцовых удовольствий на просторах чужого жилья, теснота и неудобства коммунального бытия стали для меня особенно печальными. По ночам я мог писать только на кухне. Выходы по нужде полуголого Чашкина и его остроты трудам моим не способствовали. Чашкин, похоже, был удивлен тем, что я еще работаю в газете и что мне позволяют ездить по стране с какими-то поручениями и полномочиями. Пришлось, отменив ночные старания, отправляться пораньше на Масловку и мучить бумагу в читальном зале нашей библиотеки.
Однажды удивил меня шутник Башкатов. Он вот-вот должен был отправиться на медицинские обследования в Звездный городок (об этом не говорили, но намеки в коридорах прошмыгивали). Солонка № 57 с крестиком и костяной фигуркой из моей коморки не исчезла. Но когда Башкатов объявил о намерении поговорить со мной, я был уверен, что он коснется сюжета прошлой нашей беседы и нечто новое мне откроет. Однако я услышал от него вот что:
– Куделин, ты ведь болтался сейчас в самых соленых местах отечества…
– Когда-то самых соленых…
– Ну и замечательно, что когда-то. Это «когда-то» для нас особенно ценно…
– И что?
– Ну, и накопал ты что-нибудь для нас о солонках?
– Батюшки-светы! – воскликнул я. – Да ведь история с солонками закончена! Или опять будешь меня морочить?
– Нет, тебе все открыто. Розыгрыш закончен, и, стало быть, ты уже не объект ехидства. Но я кое-что узнал о коллекционерах. Что – пока промолчу…
– Не знаю почему, но я интересовался там солонками. Или по-деревенски – солоницами…
– Ну и?
– Ничем особенным порадовать тебя не могу. Так, этнографические наблюдения…
Я не стал разъяснять Башкатову, что интерес мой к солонкам, их формам и легендам, в исторической русской солеварне был вызван не только любопытством, но и желанием подурить самого Башкатова и чем-то, совершенно странным или даже нелепым, озадачить. Я готов был даже ему наврать и подсунуть ложную солонку «от самих Строгановых». Но Башкатова, видимо, озадачили без меня, и мое желание пошутить пропало. В Перми и Соликамске, в краеведческом музее, в особенности в его фондах, мне показывали здешние солонки. Фарфоровых среди них почти не было. В допетровские времена соликамским купцам и солеварам – «лучшим людям», «молодшим» и «самым молодшим» – служили простые деревенские солоницы (отсюда, наверное, и фамилия – Солоницын) – деревянные, сплетенные из бересты или даже лыка. Форму они имели стаканчиков, коробочек с крышками, и такие могли попасть в коллекцию Кочуй-Броделевича. Позже, при Петре и после него, в дело пошли солонки из белого или цветного стекла либо металла, покрытого эмалью, в ажурной серебряной оправе. «Лучшие люди» заводили себе и целиком серебряные солонки. Одну такую я видел, происходила она скорее всего из палат уже баронов Строгановых в Усолье – этакое корытце с крышкой на высоком стаканообразном стояке и круглом поддоне на ножках. Но ничего этакого, что бы могло дать развитие нашему солоночному сюжету, в пермских предметах быта я не обнаружил.
– Ну и напрасно! Ну и напрасно! – принялся отчитывать меня Башкатов. – Ты ведь и сам расстроился, узнав об отмене тайны. Но может, она только теперь и возникла! И тебе в соляном краю надо было шевелить мозгами!
– А я, Башкатов, и шевелил мозгами, – сказал я, напуская на себя важность. – И вот что я надумал. Многие солонки были частью сложных столовых наборов или составными предметов специальных. Скажем, судка столового. Это вроде подставка для флаконов с маслом, уксусом, перцем, сахарной пудрой, горчицей и солью. Я такой судок со стержнем-рукояткой видел в Перми. Солонки же Кочуй-Броделевича, иные из них, могли быть отъяты от именно таких наборов, а секрет-то их, возможно, держался в их сообществе! Ты сам говорил, что моя солонка крепилась на какой-то подставке!
– Да! Именно! – глаза Башкатова горели. – Говорил! А как же! Говорил!
– Есть у меня еще кое-какие соображения, – произнес я как бы многозначительно. – Но о них попозже. И надо проверить… Тамошние музейщики, если они откроют нечто нам полезное, обещали мне написать или позвонить…
Вся эта чушь о совместных тайнах флаконов из столовых судков пришла мне в голову по ходу разговора. Но о договоренности с музейщиками, с Еленой Григорьевной в частности (в мыслях я называл ее теперь – Лена Модильяни), я не соврал. Я заинтересовал их рассказами о коллекции Кочуй-Броделевича, и они сами вызвались что-либо занятное для меня поискать.
– Вот видишь, Куделин, – обрадовался Башкатов, – ты все же не безнадежный! Я разберусь с коллекционерами, а ты копай дальше…
– А будет ли у меня время… – осторожно произнес я.
– А что у тебя со временем?
– Ну… У нас же был с тобой недавно разговор…
– А-а-а… Это-то! – Башкатов махнул рукой, на мой взгляд, совершенно легкомысленно. – Полагаю, что поток, над которым ты, предположим, прошелся, уже унесся… Куда там у них впадает Ниагара?.. В штилевые воды озера Онтарио…
Все же он добавил:
– Постучим по деревяшке.
Постучали.
Очерк я написал за неделю. Марьин погонял меня бичом и угощал пивом. Я попытался рассказать ему о пермских впечатлениях, с тем чтобы испрашивать советы, но он заявил сердито: «Не надо! Выговоришься, выплеснешь наблюдения и успокоишься. Писать потом пропадет желание. По себе знаю. Профессиональные уроки. И впредь не выбалтывай впечатления. Береги их для бумаги». Советы (по очерку) он все же давал. А прочитав мое литературное изделие, распечатанное в трех экземплярах, заключил: «Нормально, старик, нормально. И суть есть, и эпитеты, и образы уместные, главное – точные, темперамента, пожалуй, кое-где не хватает, но и без него обойдемся… Вот только эпизод с солеваренным заводом надо расширить». Конечно, хотелось бы услышать от Марьина и хотя бы сдержанных похвал, но марьинское «нормально» и следовало признать одобрением.
Подсказку о солеваренном заводе я посчитал справедливой. В ту пору ценность промышленной архитектуры считалась дискуссионной. В Свердловске без сожаления ломали здания демидовских заводов. А в Соликамске нашлись энтузиасты, пожелавшие реставрировать Усть-Боровский завод со слободой мастеров (две улицы с огородами) и устроить музей отечественного солеварения. Шедевров там не имелось, но в отважной затее соликамцев виделась любовь к умельцам и простым работникам. Мне показали листы с рисунками реставраторов и сами здания завода, уцелевшие на западе Соликамска, все деревянные, – рассолоподъемные башни, банки-лари (с трехэтажный дом) для хранения рассола, варницы, амбары. Это был целый городок. Или острог. Из-за башен варниц. Я представил, каким удивительным может стать здешний солеваренный заповедник. А написал об этом вскользь. Теперь огрех следовало исправить.
Без всяких задержек в секретариате текст мой (очерк? статья? эссе? жанр так и остался неопределенным) отправили в набор, а дней через десять его и напечатали.
Особых удивлений в редакции моя публикация не вызвала. То есть ее обсуждали на летучке, даже похвалили, но к лучшим материалам месяца не отнесли. Участие мое в тобольском эссе именно кого-то удивило, а кого-то и озадачило. Этот-то, не творческий работник, футболер и ковырятель текстов, оказывается, еще и пишет. Надо же!.. Теперь-то чему было удивляться? Здесь все умели писать. Правда, некие суждения я все же услышал. Приходила Лана Чупихина, видимо еще не отказавшаяся от опеки надо мной и явно прознавшая про какую-то легенду (на манер прохода над Ниагарой). Она принялась теребить мне ежик, опекуншей и защитницей, я был вынужден сидеть кротко, ничем не проявляя своего неудовольствия, терпеть не мог поглаживаний по головке. «Васенька, бедненький, – журчала Лана. – Все у тебя наладится, писать ты научишься, научишься…» Маэстро Бодолин хвалил меня примерно так, как хвалил Собакевич прокурора. При этом он опять вызнал степень участия в работе Марьина и, вызнав, что Марьин помогал лишь советами, текст почти не правил, Бодолин будто бы обрадовался, а Марьина выбранил. Ни с какими новостями о коллекционерах, интриговавших против Кочуй-Броделевича, Башкатов ко мне не подходил. Я посчитал, что авантюрная искорка, якобы вышибленная мною сведениями о строгановских столовых судках, в нем тут же и пригасла. Что было бы объяснимо. Но от Капустина я узнал, что Владислав Антонович все же пробился на обследование, но не в Звездный городок, а в больницу № 6, где и отбирали кандидатов в космонавты. «Там ему даже нос и зубы проверяют…» – шепнул Капустин. Что Башкатову было теперь думать о столовых судках… Услышал я и о том, что над одним из моих пассажей ехидничал Миханчишин: «Эко дремотно-былинный стиль!» Однако никакого пристрастия к былинному стилю я в себе не обнаруживал. Руку Миханчишин освободил от перевязи, ходил бравым молодцом. Как будто бы изменилось его отношение к Ахметьеву. Говорили, что Миханчишин рвался даже на ахметьевское новоселье. Это после дуэли-то! Предполагали, что Миханчишин намеревался учудить в застолье скандал с клоунадами. Другие же, более уравновешенные, склонялись к тому, что Миханчишин желал произвести примирение, и непременно публично, на глазах особо достойных людей. Но не был допущен в калашный ряд. А вот Юлия Цыганкова, выпорхнувшая на день из чудесного санатория, судачили, на ахметьевском новоселье наблюдалась. Говорили также, что здоровье апельсиновой лахудры пошло на поправку. Это мнение подтвердилось, и вскоре я увидел Цыганкову на шестом этаже.
С Глебом Аскольдовичем, изящным, а порой будто бы торжественным, мы по-прежнему лишь тихо раскланивались в коридорах.
Сергей Марьин номера газеты с моей статьей и пожеланиями редколлегии «принять меры» отправил в Министерство культуры, пермским, соликамским, чердынским властям, взрослым и молодежным. Мне же он сказал:
– Ты, Василий, произвел полезное деяние. Благородное деяние. А иным нашим мастерам и утер нос. И не ходи хмурым. Месяца через три я опять вытолкну тебя в командировку. Может быть, в Верхотурье…
Я и сам понимал, что работа моя вышла не бесполезной, а для кого-то и важной. Но ни сознание этого, ни одобрение Марьина не доставили мне радости. Наверное, я устал, предположил я. Однако вовсе не усталостью объяснялось тогдашнее мое состояние.
В Пермских землях мне было некомфортно, не по себе, вовсе не из-за мокро-снежного ветра и хмури предзимнего неба. Меня радовали встречи с соликамскими реставраторами и музейщиками, с энтузиастами Усть-Боровских солеварен, с Еленой Григорьевной Гудимовой, Леной Модильяни. Они ворчали, были бедны, кляли власти и обстоятельства эпохи, но у каждого из них было дело жизни, и ради него они готовы были сжечь себя. А кем я оказался вблизи них? Просто прислонился легонько к их делам, и все! И теперь на шестом этаже газетного дома я затосковал. Мне бы ходить и радоваться. Второй своей профессиональной публикацией я доказал, что на что-то способен, что я со многими в редакции на равных. Но я уже сознавал, что газетное дело – не мое. И что в газету меня порой и не тянет. А что же тянуло раньше? Прежде всего, конечно, нестерпимое желание видеть лахудру Юлию Цыганкову. Без нее ничего в жизни для меня, кажется, и не существовало. Сейчас же – что была где-то, даже рядом, Юлия Цыганкова или ее не было вовсе – меня совершенно не занимало. И это не радовало. Ко мне не пришло чувство освобождения от напасти. Меня прижимала к земле справедливость пророчества Анкудиной. Главным было теперь во мне опустошение безразличия. И оттого – тоска… И еще я сознавал, что помимо желания видеть Цыганкову существенной для моих явлений на Масловку была надежда выстоять в очереди квартиру. «Не для меня она нужна, – убеждал я себя, – для стариков. Должен же я сделать для них нечто хорошее…» Попав в предполагаемые зятья академика Корабельникова, я посчитал себя виноватым перед стариками – заявление мое в жилищной комиссии обязательно и с облегчением было бы похерено. Но в высокородные зятья я не угодил («Пронесло, Господи!») и остался вполне равнопризнаваемым очередником. Но думать о том, что из-за квартиры я обязан и далее размещаться не в своем служебном пространстве, было для меня теперь унизительно. Однако что же я раньше-то не рыпался? Отчего же мне (вынесем за скобки Цыганкову) было не только уютно на шестом этаже, а порой даже приятно? Отчасти жил грезой: а вот чему-нибудь этакому научусь, напишу статейки не хуже Бодолина или Капустина, и меня по плечу похлопают, признав истинно своим. И написал. И похлопали. И признали. А дальше-то что? Это ведь Марьин подсказывает мне темы и выталкивает в командировки. Ну еще через три месяца вытолкнет в Верхотурье. А так-то мне сидеть и сидеть в Бюро Проверки, ковырять тексты в типографских полосах, превращаясь потихоньку в мечтательно-болезненную Нинулю. Может, все же податься в преподаватели истории? Но даже если что и получаться станет, опять же примусь ныть. При этом учителишкой-то квартиры никак не получишь… «А не лучше было бы, если бы тогда, после приятельского общения с генерал-полковником, – приходило мне в голову, – явились бы ко мне люди с наручниками? Вот все бы моментально и разрешилось…»
Так я тосковал, тосковал. А потом и запил.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































